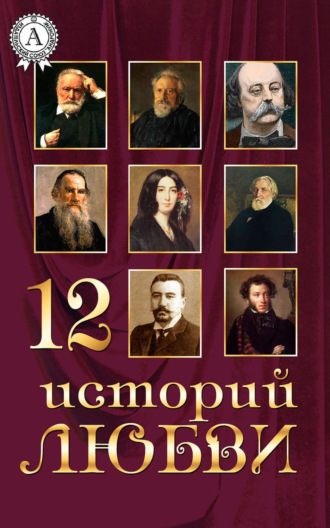
Полная версия
Евгений Онегин 6
Несколько этих сорванцов, продавив оконную раму, храбро уселись на подоконник и кидали оттуда свои взоры и свои насмешки то внутрь залы, то на улицу, дразня и толпившуюся в зале, и толпившуюся на площади народную массу. Их зубоскальство, их веселая жестикуляция, их громкий смех, замечания, которыми они обменивались с одного конца залы до другого, ясно показывали, что на этих молодых писцов не распространялись нетерпение и усталость, овладевшие остальными присутствующими, и что они умели, для собственного своего удовольствия, сделать себе из того, что происходило на глазах их, особого рода зрелище, дававшее им возможность терпеливо дожидаться настоящего зрелища.
– Ах, Боже мой! Это вы, Иоанн Фролло де-Молендино! – закричал один из них какому-то белокурому чертенку, с хорошеньким, но злым личиком, уцепившемуся за арабески капители. – Недаром вас называют Жан дю-Муленом, ибо ноги и руки ваши очень похожи на крылья ветряной мельницы. – Давно ли вы здесь?
Черт их побери! – ответил Жан Фролло, – вот уже добрых четыре часа, и я надеюсь, что они зачтутся мне в чистилище. Словом сказать, я еще застал здесь, в часовне, раннюю обедню и слышал, как певчие короля сицилийского пели «достойную».
– А ведь хорошие певчие! – заметил первый, – и голоса их тоньше девичьего волоса. Но, по моему, следовало бы, прежде чем заказывать обедню св. Иоанну, предварительно справиться, приятно ли будет св. Иоанну слушать латинские псалмы, распеваемые провансальским акцентом.
– Так ради этих сицилийских певчих и была отслужена здесь ранняя обедня? – вмешалась в разговор, какая-то старуха, стоявшая внизу, возле окна. – Ну, на что это похоже! Тысяча парижских ливров за одну обедню! А ради этого отдают на откуп продажу морской рыбы на парижском рынке и разоряют бедных людей!
– Молчать, старуха! – вставил свое слово какой-то толстый и важный человек, стоявший подле торговки и затыкавший себе нос, – нельзя было не заказать обедни. Неужели, по вашему, королю опять было заболеть!
– Молодец, господин Жиль Лекорню, главный поставщик мехов для двора его величества! – воскликнул школяр, уцепившийся за капитель.
Ватага школьников расхохоталась и стала дразнить несчастного придворного меховщика:
– Лекорню! Жиль Лекорню! Козел рогатый![7]
– Ну, что там такое! – продолжал школяр. – Чего они гогочут! Ну да, это достопочтенный Жиль Лекорню, брат Жана Лекорню, пристава королевского дворца, сын Матье Лекорню, главного привратника Венсенского парка! Все они – добрые парижские граждане, все они – примерные отцы семейств.
Хохот возобновился пуще прежнего. Толстый меховщик, не отвечая ни слова, старался укрыться от направленных на него со всех сторон взоров; но тщетно он пыхтел и отдувался: всякое усилие его высвободиться из толпы только крепче всаживало в нее, точно клин, его апоплексическую фигуру, его раскрасневшееся от досады и злобы лицо. Наконец, к нему на выручку подоспел один из его соседей, такой же приземистый и толстый, как и он.
– Что за подлость! Школьники осмеливаются так насмехаться над почтенным гражданином! В мое время их здорово отстегали бы за это прутьями!
– Эге! Ого! Кто это там запел эту песню? – завопила орава мальчишек. – Кто эта каркающая ворона?
– А! я знаю его! – сказал один из них. – Это Андре Мюнье, один из четырех присяжных книгопродавцев университета.
– Всех хороших вещей бывает по четыре в университете, – воскликнул третий: – четыре корпорации, четыре факультета, четыре праздника, четыре прокуратора, четыре декана, четыре книгопродавца!
– Ну, так им нужно показать и четырех чертей! – закричал Жан Фролло.
– Мюнье, мы сожжем твои книги!
– Мюнье, мы прибьем твоего лакея!
– Мюнье, мы станем щипать твою жену, толстуху Удард!
– Которая так весела и так свежа, что ее можно бы принять за вдову.
– Ах, черт побери! – бормотал себе под нос Андре Мюнье.
– Замолчи, Андре Мюнье, – воскликнул Жан, все еще цепляясь за свою капитель: – или я свалюсь тебе на голову!
Толстяк Андре поднял глаза кверху, как бы измерил высоту колонны и прикинул тяжесть мальчугана, помножил эту тяжесть на квадрат скорости, – и замолчал.
Жан, за которым осталось поле сражения, продолжал торжествующим голосом:
– Ей-Богу я это сделаю, хотя я и брат архидиакона!
– Хороши наши университетские, нечего сказать! – продолжала приставать молодежь. – Ничего не сделали для такого дня! В городе – посадка майского дерева и иллюминация; здесь – мистерия и фландрские послы; а в университете – ничего!
– Однако, на площади Мобер хватило бы места… – заметил один из писцов, усевшихся на столе возле окошка.
– Долой ректора, деканов и прокураторов! – воскликнул Жан.
– Нужно будет устроить сегодня вечером иллюминацию из книг г. Мюнье… – заметил другой.
– И из конторок канцеляристов!
– И из жезлов педелей!
– И из плевальниц профессоров!
– И из конторок попечителей!
– И из баллотировочных ящиков!
– И из ректорских кресел!
– Долой! – закричал Жан, стараясь басить, – долой г. Андре, канцеляристов, швейцаров! Долой богословов, медиков и юристов! долой ректора, деканов и профессоров!
– Это черт знает что такое! – ворчал Мюнье, затыкая себе уши.
– А вот, кстати, и ректор проходит по площади! – воскликнул один из сидевших на окне.
Все мигом повернулись в ту сторону.
– Неужели это взаправду наш уважаемый ректор Тибо? – спросил Жан Фролло де-Мулен, который, уцепившись за одну из внутренних колонн, не мог видеть того, что происходило на улице.
– Да, да, это он, это ректор, г. Тибо! – ответили все другие.
И действительно, это были ректор и все прочие должностные лица университета, отправлявшиеся процессией навстречу посольству и переходившие в это все время через площадь. Школьники, столпившись у окна, приветствовали их насмешками и ироническими рукоплесканиями. Больше всего насмешек досталось на долю ректора, шедшего во главе процессии.
– Здравствуйте, г. ректор! Эй, слышите, вам говорят – здравствуйте!
– Каким образом он попал сюда, старый игрок! Как это он расстался со своими костями!
– Каким он молодцом сидит на своем муле! А ведь у мула уши не так длинны, как у него!
– Эй, здравствуйте же, г. ректор Тибо! Тибо-кормилец! Старый дурак! Старый игрок!
– Да благословит вас Господь! Часто ли вам приходилось сделать двенадцать очков в эту ночь?
– Что за жалкая рожа! На ней ничего не написано, кроме любви к игре в кости.
– Куда это вы едете, Тибальдус, повернувшись спиною к университету и лицом к городу?
– Он, без сомнения, едет отыскивать себе квартиру в улице Тиботоде! – воскликнул Жан.
И вся орава повторила этот каламбур, громко смеясь й неистово хлопая в ладоши.[8]
– Вы отправляетесь искать квартиру в улице Тиботоде, не так ли, г. ректор, чертов игрок?
Затем настала очередь прочих должностных лиц университета.
– Долой педелей! Долой жезлоносцев!
– Скажи-ка, Робен Пусспен, а кто такой вон этот?
– Это Жильбер де-Сюили, Gilbertus de Seliaco, канцлер Отенской коллегии.
– На тебе мой башмак, брось его ему в лицо! Тебе удобнее это сделать, чем мне.
– Посылаем вам эти сатурнальские орешки!
– Долой шестерых богословов с их белыми стихарями!
– Так это богословы! А я думал, что это шесть гусей, подаренных св. Женевьевой городу.
– Долой медиков! Долой диссертации! Долой хрии!
– Вот тебе картуз мой, канцлер коллегии св. Женевьевы! Ты обошел меня, – Ей-Богу! Он отдал мое место в Нормандском землячестве маленькому Аксанио Фальзаспада, принадлежащему к Буржскому землячеству, только потому, что тот итальянец.
– Что за подлость! – воскликнули школяры. – Долой канцлера коллегии св. Женевьевы!
– Эй, вы! Иоаким Ладебор! Люи Дагюйль! Ламбер Гоктемон!
– Черт бы побрал попечителя германских студентов.
– И каноников св. часовни с их серыми, меховыми облачениями!
– Эй, вы! Магистры изящных искусств! Сколько прелестных красных и черных шапок!
– А недурной-таки хвост подобрал себе ректоре!
– Точно венецианский дож, отправляющийся обручаться с морем!
– Послушай, Жан, ведь это каноники церкви св. Женевьевы?
– Долой каноников!
– Г. аббат Шоар! Г. доктор Клод Шоар! Кого вы ищете? Не Марию ли Жиффард?
– Вы можете найти ее в улице Гламиньи!
– Хорошими делами она там занимается! Не желаете ли получить от нее щелчок по носу?
– Ребята, вон Симон Сангвен, депутат от Пикардии! А позади него жена его.
– Молодец, Симон! Здравствуйте, г. депутат! Покойной ночи, г-жа депутатка!
– Экие счастливцы! Им все это видно! – проговорил со вздохом Жан дю-Мулен, все еще цепляясь за арабески своей капители.
Тем временем присяжный книгопродавец университета, Андре Мюнье, говорил, наклонившись к уху придворного поставщика, Жиля Лекорню:
– Просто последние времена настали, сударь! Можно ли было так распустить школьников! Это все последствия проклятых изобретений нашего столетия. Вся эта артиллерия, бомбарды, серпентоны, а в особенности это книгопечатание – эта новая, занесенная к нам из Германии моровая язва! Извольте-ка теперь торговать, рукописями! Просто, говорю вам, настал конец свету!
– Да, да… – подтвердил меховщик. – Возьмите хотя бы и то, что бархат совершенно вытесняет меха.
В эту минуту пробило двенадцать часов, и отовсюду раздалось: – Ааа!!! – Школьники замолчали. Поднялась суета, все задвигались и засуетились, стали сморкаться и откашливаться. Всякий старался встать поудобнее, выпрямиться, подняться на носки. Затем водворилась всеобщая тишина; все шеи вытянулись, все рты разинулись, все взоры обратились к большому мраморному столу. Но на нем ничего не появлялось, и по углам его по-прежнему торчали только четыре пристава неподвижные, как мраморные статуи. Тогда все взоры обратились к эстраде, предназначенной для фландрских послов; но ведущая к ней дверь оставалась закрытой, а эстрада – пустой. Вся эта толпа с раннего утра дожидалась трех вещей: полудня, фландрских послов и мистерии, и только полдень явился вовремя.
Терпение толпы начинало истощаться. Однако, она прождала еще минуту, две, три, пять минут, четверть часа: эстрада все еще пустовала, представление все еще не начиналось. Нетерпение стало сменяться злобой. Здесь и там стали раздаваться сердитые слова, правда, пока произносимые еще вполголоса. Начинайте, начинайте! – слышалось кое-где. Волнение росло, буря, хотя еще и не разразилась, но слышалась в воздухе, над головами этой тысячной толпы. Жан дю-Мулен первый бросил искру в бочку пороха.
– Начинайте мистерию и к черту фламандцев! – закричал он во всю глотку, обвиваясь змеей вокруг своей капители.
– Начинайте мистерию! – повторила толпа, захлопав в ладоши: – и ко всем чертям фламандцев!
– Подавайте нам сейчас же мистерию! – продолжал школяр: – или мы повесим главного судью, в видах развлечения и назидания!
– Дельно сказано! – повторила ему толпа: – и начнем дело вешания с приставов!
Громкие крики были ответом на это предложение. Бедняги-пристава побледнели и беспомощно глядели вокруг себя. Зрители ринулись к ним, и жидкая перегородка, отделявшая их от зрителей, начала уже трещать и поддаваться под напором толпы.
– Налегай, налегай! – раздавалось со всех сторон.
Наступила критическая минута. Но в это самое мгновение занавес, закрывавший гардеробную, которую мы описали выше, приподнялся и из-за него показалась какая-то фигура, один вид которой остановил толпу и, точно по мановению волшебного жезла, превратил ярость ее в любопытство.
– Тише! тише! – раздалось со всех сторон.
Появившаяся столь неожиданно фигура, дрожа всем телом и, очевидно, сильно взволнованная, подошла, отвешивая низкие поклоны, похожие скорей на приседания, к краю мраморного стола. Тем временем водворилась некоторая тишина, и слышен был только неопределенный гул – неизбежный спутник всякой многочисленной толпы.
– Господа-граждане и госпожи-гражданки! – заговорило выползшее из-за занавеса лицо, – нам предстоит честь продекламировать и представить, в присутствии его высокопреосвященства, г. кардинала, прекрасную, нравоучительную пьесу, озаглавленную: «Премудрый суд Пресвятой Девы Марии». Я имею честь изображать в этой пьесе Юпитера. Его высокопреосвященство сопровождает в настоящее время достопочтенное посольство г. австрийского герцога, которое задержала немного приветственная речь, произносимая г. ректором университета у ворот Боде. Как только явится высокопреосвященный, мы тотчас же начнем.
Вмешательство в дело Юпитера оказалось как нельзя более кстати, иначе четырем приставам пришлось бы плохо. Не мы имели счастье выдумать эту совершенно правдивую историю, и поэтому мы не обязаны отвечать за нее перед критикой; против нас нельзя обратить классического изречения: «нечего впутывать, в дело богов». Впрочем, костюм бога Юпитера был очень красив, что также не, мало способствовало успокоению публики, привлекши ее внимание в эту сторону. Юпитер был одет в кольчугу, обтянутую черным бархатом, с позолоченными гвоздями, а на голове у него была корона из сусального золота; и если бы не румяна и небольшая борода, закрывавшая более половины его лица, если бы не палка, обтянутая золоченой бумагой, усыпанной блестками и мишурой, которую он держал в руке и в которой опытный глаз легко узнал бы молнию, если бы не его ноги телесного цвета, обвитые лентами на греческий манер, – то он мог по отношению к экипировке и к внешнему виду своему, выдержать сравнение с бретонцем из отряда герцога Беррийского.
II. Пьер Гренгуар
Однако пока он говорил, благоприятное впечатление, произведенное на толпу первым его появлением и его костюмом, стало мало-помалу рассеиваться; а когда он закончил свою речь следующими неудачными словами: «Как только прибудет его высокопреосвященство, мы тотчас же начнем», – крики и вопли толпы заглушили его голос.
– Начинайте сейчас! Мистерию! Сейчас подавайте нам мистерию! – вопил народ, и из этого шума и гвалта выделялся особенно отчетливо, точно маленькая флейта в большом военном оркестре, пронзительный голос Жана дю-Мулена:
– Начинайте сейчас! – орал школяр.
– Прочь Юпитера! Прочь кардинала Бурбона! – вопили Робен Пусспен и другие писцы, взобравшиеся на подоконник.
– Начинайте тотчас же представление, немедленно, без проволочки! – вторила толпа. – К черту и комедианта, и кардинала!
Бедный Юпитер, растерянный, побледневший под густым слоем румян, выронил из рук свою молнию, снял свою корону и принялся кланяться, дрожа всем телом и бормоча:
– Его высокопреосвященство… послы… принцесса Маргарита…
Он не знал, что и говорить; он просто боялся, чтобы его не повесили. И действительно, положение его было незавидное: станешь ждать – его повесит толпа, не станешь ждать – его велит повесить кардинал. Словом, куда ни повернись – все виселица!
К счастью для него, к нему на выручку явился благодетель, снявший с него всякую ответственность.
Какой-то человек, стоявший по эту сторону загородки, между последней и большим мраморным столом, которого до сих пор никто не заметил, так как вся его долговязая и худощавая фигура была скрыта от взоров зрителей колонной, к которой он прислонился, – какой-то человек, высокого роста, худой, бледный, белокурый, еще молодой, хотя лоб и щеки его были покрыты морщинами, с сверкающими глазами и улыбающимся ртом, одетый в черный, саржевый, потертый камзол, подошел к столу и сделал знак рукой комедианту; но тот, совершенно растерянный, не заметил его. Новоприбывший сделал шаг вперед и окликнул его:
– Юпитер, а любезный Юпитер!
Но тот ничего не слышал.
Наконец, выйдя из терпения, высокий блондин крикнул ему в самое ухо:
– Мишель Жиборн!
– Кто меня кличет? – спросил Юпитер, как бы очнувшись от глубокого сна.
– Я! – ответил субъект, облеченный в черный камзол.
– Ну, что там такое? – спросил Юпитер.
– Начинайте сейчас же! – продолжал тот. – Исполните желание публики. Я беру на себя умилостивить г. судью, который, в свою очередь, умилостивит г. кардинала.
Юпитер вздохнул свободнее.
– Гг. граждане! – закричал он во всю глотку, стараясь перекричать все еще бурлившую толпу; – мы сейчас начинаем!
– Браво, Юпитер! Рукоплещите, граждане! – закричали школяры, и толпа вторила им.
Раздались оглушительные рукоплескания, и Юпитер давно уже убрался за занавеску, между тем как зал дрожал еще от рукоплесканий.
Тем временем неизвестная личность, которая, точно по волшебству, превратила «бурю в мертвый штиль», как говорит наш дорогой старик, Корнель скромно удалился опять за колонну и, по всей вероятности, остался бы там стоять неподвижным, немым и всех невидимым, если бы его не извлекли оттуда молодые женщины, которые, находясь в первом ряду зрителей, заметили его беседу с Мишелем Жиборном – Юпитером.
– Батюшка! – окликнула его одна из них, показывая ему знаком, чтоб он приблизился.
– Да замолчи же, Лиенарда! – обратилась к ней ее соседка, хорошенькая, свеженькая и расфранченная по-праздничному женщина. – Разве ты не видишь, что это не духовное лицо, а светское? Значит, его следует называть не «батюшка», а «господин».
– Господин! – окликнула его Лиенарда.
– Что вам угодно, барышни? – спросил незнакомец, поспешно подходя к загородке.
– Ничего… – ответила Лиенарда, сконфузившись.
– Вон она, соседка моя, Жискетта Ла-Женсьен, хотела что-то сказать вам.
– Что ты выдумываешь? – произнесла та, покраснев в свою очередь. – Лиенарда назвала вас батюшкой, а я только сказала ей, что к вам следует обращаться со словом «господин».
И обе молодые девушки потупили глаза. Собеседник их, который, очевидно, был не-прочь вступить с ними в разговор, глядел на них и улыбался.
– Итак, вы, барышни, ничего не имеете сказать мне.
– Нет, нет, ничего… – ответила Жискетта.
– Ничего! – повторила Лиенарда.
Высокий, белокурый молодой человек уже повернулся было, чтоб уйти, но тут обеим молодым девушкам стало жаль отпустить его, не вступив с ним в разговор.
– Господин, – затараторила Жискетта, со стремительностью прорвавшейся плотины или решившейся на отчаянный крик женщины, – вам, значит, знаком тот солдат, который будет играть роль Богородицы в мистерии?
– Вы желаете сказать – роль Юпитера? – переспросил неизвестный.
– Ну, да, да, – Юпитера! – сказала Лиенарда, – она сболтнула зря… Так вам знаком Юпитер?
– Мишель Жиборн? – ответил неизвестный. – Как же, сударыня, знаком.
– А славная у него борода! – продолжала Лиенарда.
– А красиво будет то, что они станут представлять? – робко спросила Жискетта.
– Очень красиво, сударыня! – ответил неизвестный без малейшего колебания.
– А что же именно они представят? – снова вставила свое слово Лиенарда.
– Они представят нравоучительную пьесу: «Премудрый суд Пресвятой Девы Марии», сударыня.
– А! вот как! – сказала Лиенарда.
Снова наступило молчание. Неизвестный прервал его:
– Это совершенно новая пьеса, которая еще ни разу не была представлена.
– Значит, это не та же самая, – заметила Жискетта, – которую представляли два года тому назад, в день прибытия г. легата, и в которой три красивые девушки изображали…
– Сирен, – подсказала ей Лиенарда.
И притом совершенно голых… – добавил молодой человек.
Лиенарда стыдливо опустила глаза; Жискетта, взглянув на нее, последовала ее примеру.
– Да, то было занятное представление! – продолжал молодой человек, улыбнувшись. – Нынешняя же пьеса сочинена нарочно для принцессы Фландрской.
– А будут петь пастушеские песни? – спросила Жискетта.
– Что вы, что вы! – сказал незнакомец, – это в мистерии-то! Не нужно смешивать различного вида театральных ь представлений. Вот если б это был фарс – ну, другое дело.
– А жаль… – заметила Жискетта. – В тот раз представляли возле фонтана каких-то диких мужчин и женщин, которые боролись между собою и образовывали различные группы, распевая при этом пастушеские и любовные песни.
– То, что прилично для легата, – довольно сухо ответил незнакомец, – неприлично для принцессы.
– А возле них, продолжала Лиенарда, – музыканты играли на разных инструментах.
– А для публики, – перебила ее Жискетта, – были устроены три фонтана, из которых били вино, мед и молоко, и всякий мог пить, что хотел.
– А недалеко оттуда, возле церкви Троицы, – продолжала Лиенарда, – представлялись страсти Христовы в лицах, но без речей.
– Да, да, помню! – воскликнула Жискетта. – Христос на кресте посредине, а два разбойника по бокам.
Тут девушки, воодушевившись при воспоминании о прибытии легата, стали говорить обе вместе.
– А еще дальше, у ворот Маляров, было несколько лиц в богатых костюмах.
– А у фонтана св. Иннокентия охотник преследовал лань, и собаки лаяли, трубили в трубы!
– А около боен показывались эшафоты, которые были возведены в Диеппской Бастилии.
– Да, и как только легат проехал, – помнишь, Жискетта? – у всех англичан поотрезали головы!
– А около ворот Шатлэ тоже было много очень нарядных особ!
– И на Меняльном мосту также, к тому же все перила его были обиты сукном!
– А когда легат проехал, на мосту выпустили из клеток более двух сот дюжин разного рода птиц. Как это было красиво, Лиенарда!
– Ну, а сегодня будет еще покрасивее! – перебил расходившихся женщин собеседник их, которому, по-видимому, наконец, надоела их болтовня.
– Так вы обещаете нам, что эта мистерия будет хороша? – спросила Жискетта.
– Без сомнения! – ответил он, и затем прибавил с некоторою напыщенностью: – Сударыня, я – автор ее.
– Неужели? – воскликнули девушки в один голос, даже разинули рты от удивления.
– Верно, верно! – ответил поэт с некоторой чванливостью, – мы поставили мистерию вдвоем: Жан Маршань поставил будку и, словом, сделал всю плотническую работу, а я сочинил пьесу. Мое имя – Пьер Гренгуар.
Автор «Сида» не мог бы произнести с большей гордостью: «Я — Пьер Корнель».
Читатели наши могли заметить, что должно было пройти уже не мало времени с той минуты, когда злосчастный Юпитер убрался за свой занавес, и до тех пор, когда автор новой мистерии таким неожиданным разоблачением поразил наивных Жискетту и Лиенарду. Странное дело, – вся эта толпа, еще за несколько минут столь бурливая, спокойно и терпеливо ждала исполнения данного ей комедиантом обещания. Это еще раз доказывает справедливость той старой, но вечно новой истины, что лучшее средство для того, чтобы заставить публику терпеливо ждать, – это уверить ее, что сейчас начнется.
Однако школяр Жан не дремал.
– Эй, вы! – вдруг закричал он среди всеобщего спокойного ожидания, сменившего прежние проявления нетерпения: – Юпитер, и как вас там всех, чертовы фигляры! Что вы насмехаетесь над нами, что ли? Начинайте же, или мы снова начнем!
Этот возглас, по-видимому, подействовал. Из-под помоста раздались звуки музыки; занавес приподнялся, и из-за него вышли четыре особы, с размалеванными и нарумяненными лицами, влезли по крутой, приставленной к помосту, лестнице и, взобравшись на него, выстроились в ряд перед публикой и отвесили ей по низкому поклону. Затем музыка смолкла, и началось представление мистерии.
Четыре действующих лица, удостоившись, в благодарность за свои поклоны, громких рукоплесканий, начали разыгрывать, среди благоговейного молчания, пролог, от которого мы с удовольствием избавим читателей наших. К тому же, – как оно, впрочем, случается и в наши дни, – публику пока занимали более костюмы актеров, чем то, что они говорили, и она была права. Они все четверо были одеты в мантии, наполовину розовые, наполовину белые, отличавшиеся между собою только достоинством материи: одна была бархатная, другая – шелковая, третья – шерстяная, четвертая – полотняная. Один из актеров держал в правой руке шпагу, другой – два золотых ключа, третий – весы, четвертый – заступ; а для того, чтобы помочь тугому воображению, которое по этим атрибутам не сумело бы угадать, что они обозначают, на подоле бархатной мантии было вышито большими черными буквами: я – дворянство; на шелковой мантии: я – церковь, на шерстяной: я – торговля, а на полотняной: я – труд. Мантии духовенства и рабочего были короче остальных двух, и изображавшие их лица имели на головах береты, а мантии дворянства и купечества были длиннее и на головах актеров были шапки.
Не трудно было понять из виршей пролога, что торговля состоит в браке с трудом, а церковь – с дворянством, и что обе пары сообща владели великолепным золотым дельфином, который они решили присудить самой красивой женщине в мире. И вот они бродят по миру, разыскивая эту красавицу, и, отвергнув уже царицу Голконды, царевну Трапезунтскую, дочь татарского хана, и пр. и пр., они прибыли для отдыха в Париж, где они и принялись угощать почтенную публику различными сентенциями, правилами, софизмами, определениями, притчами, побасенками, при чем они в карман за словом не лезли. Все это, по-видимому, очень нравилось публике.

