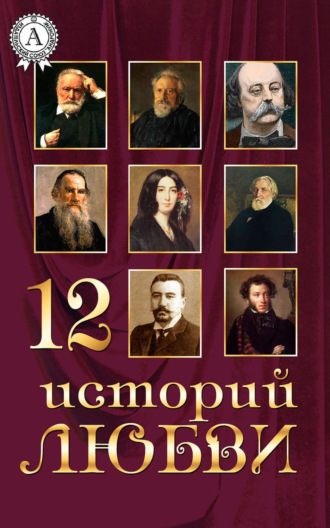
Полная версия
Евгений Онегин 6
– Кто там? – крикнул ученый приблизительно таким же любезным голосом, каким, например, зарычал бы голодный пес, у которого вырвали бы его кость.
– Ваш друг, Жан Коактье! – послышался голос из-за двери.
Клод встал, чтоб отпереть последнюю.
Действительно, это был королевский лейб-медик, человек лет пятидесяти, с жестким, неприятным лицом и с хитрыми глазами. Но он был не один: вместе с ним вошел еще какой-то, незнакомый Клоду, человек. Оба они были одеты в длинные темно-серые, подбитые беличьим мехом, мантии, подпоясанные кожаными ремнями, и с шапками из той же материи и того же цвета. Рук их не было видно из-под широких рукавов, ноги их исчезали под складками длинных мантий, а на глаза были нахлобучены шапки.
– Добро пожаловать, господа, – сказал архидиакон, вводя их в свою келью: – а я и не ждал столь почетных гостей в такой поздний час. – И, произнося эти любезные слова, он в то же время переводил беспокойный и испытующий взгляд с врача на его спутника.
– Никогда не бывает слишком поздно для того, чтобы посетить такого учёного мужа, как Клод Фролло-де-Тиршап, – ответил доктор Коактье своим тягучим и несколько певучим акцентом, свойственным всем уроженцам Франш-Конте.
И затем между врачом и архидиаконом начался один из тех поздравительных диалогов, который, согласно обычаям того времени, предшествовал всякой беседе между учеными, что, однако, нисколько не мешало им ненавидеть друг друга от всей души. Впрочем, так водится и доныне: уста всякого ученого, рассыпающегося в похвалах другому ученому, представляют собою сосуд, наполненный подслащенным ядом.
Поздравления, которые Клод Фролло расточал Жаку Коактье, касались преимущественно тех земных благ, которые почтенный врач успел извлечь во время своей столь успешной карьеры из каждой болезни короля и которые, конечно, были более значительны и надежнее тех, какие могло бы дать открытие философского камня.
– Ах, г. доктор, – говорил он: – я чрезвычайно обрадовался, узнав о получении вашим племянником, Пьером Версэ, сана епископа. Ведь он назначен епископом Амьенским, не так ли?
– Да, г. архидиакон, благодарение милосердному Господу Богу.
– А знаете ли, что в первый день Рождества, когда мы выступали во главе всех служащих в счетной палате, вы имели очень торжественный вид, г. президент?
– Вице-президент, г. Клод, вице-президент, не более того.
– А как подвигается постройка вашего нового великолепного дома в улице Сент-Андре? Ведь это настоящий Лувр. Мне особенно нравится изваянное над дверьми абрикосовое дерево, с этой премилой игрой слов: «Прибрежное убежище»[19].
– Увы! г. Клод, вся эта постройка станет мне в копейку. По мере того, как она подвигается вперед, я все более и более разоряюсь.
– Ну, однако же, и доходы ваши изрядны. Во всяком случае, разориться вам трудно.
– Мое Пуатьеское кастелянство не принесло мне в прошлом году никакого дохода.
– А за то получаемые вами заставные пошлины в Триеле, Сент-Джемсе, Сен-Жермен-ан-Лэ чего-нибудь да стоят.
– Ну, что же, всего 26 ливров, даже не парижских.
– Кроме того, вы получаете жалованье от короля. Это доход, по крайней мере, постоянный.
– Да, собрат Клод, но это проклятое поместье Полиньи, о котором столько говорили и говорят, не доставляет мне больше шестидесяти золотых экю даже в самые лучшие годы.
Поздравления, с которыми Клод обращался к Жаку Коактье, были высказаны каким-то кислым, слегка насмешливым тоном, и они сопровождались тою жестокою и язвительной улыбкой, с которою сознающий свое моральное превосходство, но не одаренный благами земными человек относится к сытому довольству заурядного смертного. Тот, однако, ничего этого не замечал.
– Клянусь Богом, – сказал, наконец, Клод, пожимая ему руку, – я рад видеть вас в таком добром здоровье.
– Благодарю вас, г. Клод.
– А кстати, – воскликнул Клод: – как поживает ваш августейший больной?
– Ничего себе, только он плохо платит своему доктору, – ответил доктор, взглянув искоса в сторону своего спутника.
– Вы находите это, кум Коактье? – спросил последний.
Слова эти, произнесенные с выражением удивления и упрека, обратили на незнакомца внимание архидиакона, которое, впрочем, по правде сказать, и без того было возбуждено с тех пор, как незнакомец переступил через порог комнаты; ему даже пришлось сделать над собой некоторое усилие, чтобы с самого начала разговора, игнорируя немало интриговавшего его незнакомца, рассыпаться в любезностях перед всемогущим лейб-медиком короля Людовика XI. Он, впрочем, и не повел бровью, когда Жак Коактье обратился к нему со словами:
– Кстати, господин Клод, я привел к вам одного из ваших собратьев, который, много наслышавшись о вас, пожелал с вами познакомиться.
– Вы также изволите заниматься науками? – спросил архидиакон, устремив на спутника Коактье свой проницательный взор и встретившись с таким же проницательным и подозрительным взором незнакомца.
Это был, насколько можно было разглядеть при слабом свете лампы, старик лет шестидесяти, среднего роста, по-видимому, довольно хилый и болезненный. Профиль его лица, хотя его нельзя было назвать аристократическим, был, однако, правилен и строг; его глаза блестели из своих глубоких впадин каким-то странным блеском, а из-под картуза виднелся высокий, умный, морщинистый лоб.
Он поспешил сам ответить на вопрос рхидиакона.
– Достопочтенный господин, – сказал он, – ваша слава достигла и до моего слуха, и я пожелал познакомиться с вами. Я не что иное, как бедный провинциальный дворянин, снимающий свою обувь прежде, чем войти к ученому. А имя мое, если вы желаете его знать, – кум Туранжо.
«Странное, совсем не дворянское имя!» – подумал архидиакон, но, тем не менее, он смутно ощущал, что перед ним сидит человек недюжинный. Как человек недюжинного ума, он угадал такой же недюжинный ум под меховой шапкой кума Туранжо; и по мере того, как он всматривался в это серьезное лицо, насмешливая улыбка, которую вызвали на его хмуром лице слова Жака Коактье, мало-помалу исчезла с его уст, подобно тому, как сумерки исчезают с наступлением ночи. Он снова уселся, серьезный и молчаливый, на свое большое кресло, локоть его снова принял обычное свое место на столе, а голова его – в руке его. Помолчав несколько минут, он знаком пригласил обоих посетителей своих сесть и обратился к Туранжо со следующими словами:
– Вы пришли, чтобы посоветоваться со мною, сударь? Но относительно какой же науки?
– Достопочтеннейший, – ответил Туранжо, – я болен, очень болен. Вы пользуетесь репутацией великого эскулапа, и я пришел к вам, чтобы посоветоваться с вами, как с врачом.
– Как с врачом! – воскликнул Клод, пожав плечами. Он в течение нескольких минут как будто старался собраться с мыслями, и затем продолжал: – Г. Туранжо, – если таково ваше имя, – поверните вашу голову вот сюда. Ответ на ваш вопрос вы найдете начертанным на этой стене.
Туранжо исполнил то, что ему говорили, и прочел над своей головой следующую надпись, выцарапанную в стене: – «Врачебная наука – дочь сновидений. – Ямбликус».
Однако доктор Жак Коактье выслушал вопрос своего товарища с досадой, которая еще более усилилась вследствие ответа Клода. Он наклонился к уху кума Туранжо и сказал ему настолько тихо, что архидиакон не мог расслышать его:
– Я предупреждал вас о том, что это сумасшедший. Вы сами пожелали убедиться в этом.
– Однако, этот сумасшедший, быть может, и прав, доктор Жак, – ответил кум так же тихо и с ядовитой улыбкой.
– Как вам будет угодно, – сухо произнес Коактье и затем обратился к архидиакону со словами:
– Вы человек ученый, г. Клод, но о Гиппократе вы, по-видимому, заботитесь не более чем о прошлогоднем снеге. Врачебная наука – сон! Не думаю, чтоб аптекаря и дрогисты удержались от того, чтобы побить вас каменьями, если-б они услышали ваши слова. Вы, значит, отрицаете действие микстур на кровь и мазей на кожу? Вы отрицаете ту вечную аптеку растений и металлов, которая называется миром, существующую специально для того вечного больного, которого зовут человеком?
– Я не отрицаю, – холодно возразил Клод, – ни аптеки, ни больного; я отрицаю только врача.
– Значит, по-вашему, неверно, – с азартом продолжал Коактье, – что подагра не что иное, как вошедший внутрь лишай, что огнестрельную рану можно исцелить, приложив к ней зажаренную мышь, что если умеючи влить в вены старика кровь молодого человека, – первый помолодеет, что дважды два – четыре, что сведение тела назад следует за сведением тела вперед?
– О некоторых вещах я имею свое собственное мнение, – ответил архидиакон, нимало не смутившись.
Коактье даже побагровел от злости.
– Ну, ну, любезный Коактье, нечего сердиться, – сказал кум Туранжо. – Ведь г. архидиакон наш друг.
Коактье успокоился, однако, пробормотал сквозь зубы:
– Это просто сумасшедший.
– Однако, г. Клод, – продолжал кум Туранжо после некоторого молчания, – я чувствую себя несколько стесненным в вашем присутствии. А между тем мне хотелось бы посоветоваться с вами как относительно моего здоровья, так и относительно моей судьбы.
– Милостивый государь, – ответил архидиакон, – если вы с этим пришли, то вы могли бы и не трудиться взбираться на мою лестницу. Я одинаково мало верую как в медицину, так и в астрологию.
– Неужели? – спросил Туранжо с удивлением. Коактье засмеялся принужденным смехом и сказал вполголоса, обращаясь к Туранжо:
– Ну, что я вам говорил? Вы видите, что это сумасшедший. Он не верит в астрологию:
– И что за нелепость воображать, – продолжал Клод, – что каждый звездный луч есть какая-то нить, проведенная к голове человека!
– Но во что же вы в таком случае веруете? – воскликнул Туранжо.
Архидиакон помолчал с минуту и затем процедил с какою-то странной улыбкой, как будто опровергавшею его слова:
– Я верую в Бога.
– Господа нашего, – присовокупил кум Туранжо, створяя крестное знамение.
– Аминь! – проговорил Коактье.
– Достопочтенный г. архидиакон, – продолжал Туранжо, – я душевно рад, встречая в вас такого религиозного человека. Но неужели же вы, великий ученый, сами не верите в науку?
– Нет, – воскликнул архидиакон, схватив Туранжо за руку, между тем, как зрачки его глаз вспыхнули ярким блеском, – нет, я не отрицаю науки! Я недаром так долго рылся в дебрях и недрах науки; я все-таки дошел до того, что увидел перед собою, в самом конце длинного подземного хода, свет, пламя, словом, без сомнения, отблеск той ослепительной, центральной лаборатории, в которой люди мудрые и трудолюбивые добились-таки божественной искры.
– Но что же, наконец, вы считаете несомненным и истинным? – прервал его Туранжо.
– Алхимию.
– Однако же, г. Клод, – заметил Коактье, – в алхимии, без сомнения, есть доля истины, но к чему же отрицать медицину и астрологию?
– И наука ваша о человеческом теле, и наука ваша о небесном своде – все это суета сует, – с жаром произнес архидиакон.
– Однако, не особенно же почтительно вы относитесь к Эпидавру и к Халдее, – заметил доктор, хихикая.
– Слушайте, г. Коактье. Я откровенно говорю то, что думаю. Я не лейб-медик короля и его величество не предоставил в мое распоряжение обсерватории для производства астрологических наблюдений. Не сердитесь и выслушайте меня. Какую истину извлекли вы, не говорю уже из медицины, которая уже совсем пустое дело, но и из астрологии? Укажите мне хотя бы на одну несомненную истину, доказанную с помощью астрологии.
– Но неужели же вы станете отрицать симпатические, важные для кабалистики, свойства ключицы?
– Все это одни только заблуждения, г. Коактье. Ни одна из ваших формул не соответствует действительности, между тем, как алхимии удалось сделать немаловажные открытия. Неужели вы, например, станете отрицать нижеследующие результаты: зарытый в землю лед, по прошествии тысячи лет, превращается в горный хрусталь. Свинец – родоначальник всех металлов (ибо золото – не металл, золото – свет). Свинец в четыре последовательных периода, по двести лет каждый, превращается сначала в киноварь, затем в олово, и, наконец, в серебро. Разве все это – не факты? Но верить в таинственную силу ключицы, каких-то линий на ладони и звезд – это столь же смешно, как, напр., верить, как это делают иные дикари, в то, что иволга превращается в крота, а хлебные зерна – в рыбу чебак.
– Я тоже занимался алхимией, – воскликнул Коактье, – и я утверждаю…
Но пылкий архидиакон не дал договорить ему.
– А я изучал и алхимию, и астрологию, и медицину! Вот только в этом и кроется истина (и с этими словами он взял с сундука банку, наполненную тем порошком, о котором мы говорили выше), только в этом и есть свет! Гиппократ – это мечта, Урания – это мечта, Гермес – это мечта! Золото – это солнце; уметь создавать золото – это значит уподобиться Богу. Вот единственная наука! Я основательно изучил медицину и астрологию, повторяю вам, и утверждаю, что это – суета сует. Тело человеческое – потемки; светила небесные – тоже потемки.
И он откинулся назад на своем кресле с вызывающим и вдохновенным выражением лица. Туранжо глядел на него молча. Коактье принужденно улыбался, незаметно пожимал плечами и повторял вполголоса:
– Безумец, безумец!
– Ну, и что ж, – вдруг спросил его Туранжо: – достигли ли вы чудесной цели, удалось ли вам сделать золото?
– Если бы мне это удалось, – ответил архидиакон с расстановкой, как человек, погруженный в свои мысли: – то король Франции назывался бы Клодом, а не Людовиком.
Туранжо нахмурился.
– Впрочем, что я говорю! – продолжал Клод с презрительной улыбкой. – Для чего бы мне нужен был французский престол, если бы я тогда мог восстановить Римскую империю?
– Вот как! – воскликнул Туранжо.
– Ах, несчастный безумец! – пробормотал Коактье. Архидиакон продолжал, обращаясь, по-видимому, более к самому себе, чем к своим собеседникам:
– А между тем я еще продолжаю ползать, я царапаю себе лицо и колена о камни подземного хода. Я лишь подсматриваю, а не гляжу прямо; я читаю только по складам.
– А когда вы научитесь читать, как следует, вы тогда сумеете делать золото? – спросил Туранжо.
– Какое же в том может быть сомнение! – воскликнул архидиакон.
– Видит Бог, я очень нуждаюсь в деньгах, и я очень желал бы научиться читать в ваших книгах.
А скажите, пожалуйста, мой досточтимый, ваша наука неугодна Богу?
На этот вопрос Клод ответил с величественным спокойствием:
– А чей же я слуга?
– Ваша правда, сударь. Ну, так не согласитесь ли вы научить меня? Познакомьте меня хоть с азбукой.
Клод принял величественный и жреческий вид какого-нибудь патриарха.
– Старик, для того, чтобы предпринять это путешествие по области неведомого, потребуются многие годы, и вашего века, пожалуй, не хватит на это. Ведь вы уже седы. А между тем в пещеру нельзя войти иначе, как с черными волосами, для того, чтобы выйти из нее седым. Наука и одна, сама по себе, избороздит лицо человека, высушит его и заставит, его завянуть; она не нуждается в том, чтобы старость приводила к ней уже морщинистые лица. Если, однако, вас разбирает охота приниматься в ваши годы за указку и начинать учиться с трудной азбуки мудрецов, то, пожалуй, приходите ко мне, я попытаюсь. Я не заставлю вас, старика, отправляться осматривать ни пирамиды, усыпальницы египетских царей, о которых говорит Геродот, ни Вавилонскую башню, ни громадный алтарь из белого мрамора индийского храма Эклинга. Я, подобно вам, не видел халдейских построек, сооруженных на основании предписаний священных книг Сихра, ни Соломонова храма, который, впрочем, давно уже разрушен, ни каменных дверей от гробниц Израильских царей, которые давно уже разбиты. Мы ограничимся отрывками из книги Меркурия, которая лежит вон там. Я дам вам объяснения относительно статуи св. Христофора, символа сеятеля, и относительно двух ангелов у св. часовни, из коих один поднял руку в облака, а другой опустил свою руку в сосуд…
Здесь Жак Коактье, которого прежние резкие ответы архидиакона отчасти смутили, несколько оправившись, решился перебить его торжествующим тоном ученого, изловившего на неточности своего собрата, и сказал: – вы ошибаетесь, любезный Клод: символ и число не одно и то же; вы смешали Орфея с Меркурием.
– Нет, это вы ошибаетесь, – серьезно ответил архидиакон. – Дедал – это фундамент; Орфей – это стена; Меркурий – это целое здание, это все. – Вы можете приходить, когда вы того пожелаете, – продолжал он, обращаясь к Туранжо. – Я покажу вам частицы золота, оставшиеся на дне плавильника Николая Фламеля, и вы можете сравнить их с настоящим золотом. Я познакомлю вас с таинственной силой греческого слова περιστερα. Но прежде всего я заставлю вас прочесть, одну за другою, мраморные буквы алфавита, гранитные страницы книги; мы направимся от дверей епископа Гильома и св. Иоанна Круглого к священной часовне, затем к дому Николая Фламеля в улице Мариво, к гробнице его на кладбище избиенных младенцев, к двум больницам в улице Монморанси. Я научу вас разбирать иероглифы, которыми покрыты четыре большие, чугунные тагана, стоящие у главного входа в госпиталь Сен-Жерве и на улице Ферронери. Мы затем изучим вместе фасады св. Косьмы, св. Женевьевы, св. Мартина, св. Якова…
Туранжо, казавшийся, однако, человеком далеко не глупым, как заметно было по выражению лица его, давно уже перестал понимать Клода. Наконец, он перебил его восклицанием:
– Однако, что же это за книги такие, о которых вы мне говорите? Я что-то ничего не слыхал о них!
– А вот одна из этих книг, – ответил архидиакон, раскрыв окно своей кельи и указывая пальцем на огромный собор Парижской Богоматери, который, обрисовываясь на звездном небе черными силуэтами обеих башен, своих стен и своего купола, казался огромным, двуглавым сфинксом, усевшимся среди города.
Архидиакон в течение некоторого времени молча глядел на гигантское здание, затем, протянув со вздохом правую руку к лежавшей на его столе развернутою печатной книге, а левую руку к собору, и переводя печальный взор от книги к собору, проговорил:
– Увы! Это убьет то!
Коактье, поспешно заглянувший в книгу, не мог удержаться от того, чтобы не воскликнуть:
– Ну, что же в этом особенно страшного? «Примечания к посланиям апостола Павла. Нюренберг, Антоний Кобургер, 1474». Это далеко не новость. Это сочинение Петра Ломбардца, толкователя притч. Разве вот то, что это напечатано?
– Именно это, – ответил Клод, погруженный, по-видимому, в глубокую задумчивость и уставив указательный палец на фолиант, вышедший из знаменитой в то время Нюренбергской печатни. Затем он произнес следующие таинственные слова: – Увы! увы! Мелочные вещи торжествуют над крупными; зуб раздирает массу. Фараонова мышь убивает крокодила, меч-рыба убивает кита, книга убьет здание.
В это время на колокольне собора раздался звон о тушении огня, между тем, как доктор Коактье потихоньку повторял своему спутнику вечный припев свой: – «он помешан»; на что его товарищ на этот раз ответил: – «и мне так кажется».
После этого часа никто из посторонних не мог оставаться в монастыре, и оба посетителя удалились.
– Г. архидиакон, – сказал Туранжо, прощаясь с Клодом, – я люблю людей ученых и умных, и поэтому я питаю к вам особое уважение. Приходите завтра в Турнельское аббатство и спросите аббата Сен-Мартена из Тура.
Архидиакон, проводив своих гостей, возвратился в свою комнату как бы ошеломленный, ибо он, наконец, понял, кто такой был кум Туранжо; он вспомнил следующее место из монастырской грамоты, хранившейся в Турском аббатстве: «Аббат Сен-Мартен, то есть король Франции, считается каноником аббатства, и пользуется частью доходов с нее, как преемник св. Венанция, и он должен сидеть на казначейском кресле».
Уверяли, что, начиная с этого времени, архидиакон часто беседовал с королем Людовиком XI, когда последний приезжал в Париж, и что доверие, которым пользовался у короля Клод, возбуждало зависть давнишних любимцев Людовика XI, Олливье Ле-Дэна и Жака Коактье; последний будто бы даже не раз попрекал за это короля.
II. Это убьет то
Просим у читательниц наших извинения в том, что мы остановимся на минуту для исследования того, какая мысль могла скрываться в загадочных словах архидиакона: «Это убьет то. Книга убьет здание».
По нашему мнению, эта мысль имела две стороны. Во-первых, это была мысль священника; в ней сказывался испуг церковнослужителя в виду появления новой силы – печати. Это было страх и ослепление служителя алтаря при виде рассеивающего мрак станка Гуттенберга. Это были церковная кафедра и рукопись, слово устное и слово письменное, испугавшиеся слова печатного; это было нечто подобное испугу пташки, вдруг увидевшей, как ангел Легион взмахнул своими шестью миллионами крыльев. Это был крик пророка, уже чующего и предвидящего эмансипацию человечества, уже видящего умственным взором то время, когда рассудок окончательно подкопается под веру, разум свергнет с престола набожность, мир потрясет Рим. Это было предвидение философа, который видит человеческую мысль, получившую летучесть благодаря печатному станку, испаряющуюся из теократического приемника. Это был ужас воина, смотрящего на железный таран и говорящего сам себе: «Башне не устоять». Это означало, что одна сила идет на смену другой. Это означало: «Печать убьет церковь».
Но за этой мыслью, самой простой и прежде всего приходящей на ум, скрывалась, по нашему мнению, и другая, составлявшая как бы заключение первой, но менее очевидная и более спорная, мысль более философская, принадлежавшая не столько священнику, сколько философу и артисту, а именно та мысль, или, вернее сказать, предчувствие, что человеческая мысль, изменяя форму, изменит и способ выражения, что руководящая мысль каждого поколения уже не будет писаться тем же способом и с помощью тех же средств, что каменная книга, столь прочная и твердая, уступит место другой книге, еще более прочной и твердой. В этом отношении неопределенная формула архидиакона имела еще и другой смысл: она означала, что одно искусство вытеснит другое; она сводилась к тому, что книгопечатание убьет архитектуру.
Действительно, начиная с первого появления гражданственности и кончая ХV-м столетием христианской эры включительно, архитектура представляла собою великую книгу человечества, выражала собою различные фазисы развития человечества, в смысле как материальном, так и интеллектуальном. Когда память первых времен почувствовала себя чересчур обремененной, когда количество воспоминаний рода человеческого сделалось настолько значительным, что летучему слову предстояла опасность растерять часть их по пути, тогда их стали изображать самым очевидным, самым прочным и в то же время самым естественным образом: каждое из этих воспоминаний запечатлели под видом памятников.
Первые из этих памятников были простые обрубки скал, «до которых не прикасалось железо», – говорит Моисей. Архитектура, как и письмо, началась с азбуки: ставили стоймя камень, и это была буква, и каждая буква была иероглифом, и в каждом иероглифе изображена была известная группа мыслей, как на капители здания. Так поступали первобытные племена одновременно, везде, на пространстве всего земного шара. Стоячие камни кельтов можно найти как в Сибири, так и в южно-американских пампасах.
Впоследствии из букв стали образовываться слова: стали класть камень на камень, складывать гранитные слоги, а из известной комбинации слогов образовать слова. Кельтские дольмены и кромлехи, этрусские курганы, еврейские известковые кладки, – все это те же слова. Некоторые из этих сооружений, в особенности курганы, – имена собственные. Иногда, когда в распоряжении писавшего было много камней и много места, он писал целые фразы. Большая груда друидических камней в Карнаке представляет собою уже целую длинную фразу.
Наконец, дело дошло и до книг. Предания вызвали символы, под которыми они исчезали, как исчезает под листвой древесный ствол. Все эти символы, в которые верило человечество, все более и более росли, умножались, усложнялись. Первых памятников оказалось недостаточно для изображения всех этих символов: их хватало только на то, чтобы изображать первобытные предания, столь же голые, простые и близкие к почве, как и самые эти памятники. Символу пришлось искать выражения в здании. Результатом этого явилось то, что архитектура стала развиваться вместе с человеческой мыслью, что она превратилась в тысячеголового и тысячерукого великана, и что она придала видимую, вечную, осязательную форму этому, так сказать, летучему символу. Между тем, как Дедал, олицетворение силы, измерял, между тем, как Орфей, олицетворение ума, пел, – столб, олицетворение буквы, свод, олицетворение слога, пирамида, олицетворение слова, двинутые разом по законам геометрии и поэзии, группировались, комбинировались, сливались, возвышались, опускались, выстраивались рядом по земле, громоздились к небу до тех пор, пока им не удавалось написать, под диктовку общей идеи известной эпохи, эти чудные книги, представлявшие собою также и чудные здания: пагода Эклинга, капище Рамзеса, храм Соломона.

