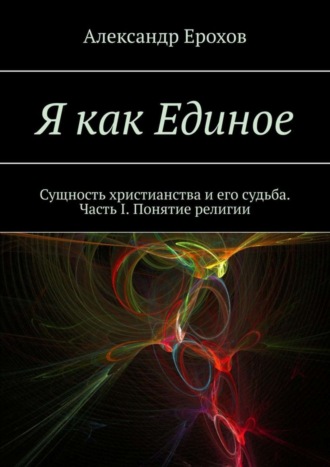
Полная версия
Я как Единое. Сущность христианства и его судьба. Часть I. Понятие религии
Выше уже упоминалось о том, что развитие форм сознания в человеке и соответствующие этому развитию формы религии составляют одно целое. Они неразрывно связаны друг с другом, являясь отражением одного в другом. Поэтому действительным ключом к пониманию того, что есть религия, может быть только адекватное представление о метаморфозе сознания в его развитии.
Осознание сознания
Но что есть само сознание? Мы вынуждены сразу же, с самого начала, признать то, что сознание неразрывно связано с самосознанием. По существу, сознание есть то лоно, в котором развивает себя самосознание. Без самосознания нет никакого сознания. В первичном проявлении оно представляет собой лишь зародыш, потенциальную форму самосознания. В завершающих формах своего развития сознание полностью растворяется в самосознании, «снимается» самосознанием. Как знак смысла само слово «со-знание» содержит в себе определение – совместное знание. То есть форма, в которой со-единяются знания как кристаллизация опыта отдельных существ или опыт одного существа, со-единяющего различные формы знания в самом себе. Сознание, изначально пребывающее в себе, как «сложное переплетение процессов», как общение только с самим собой в пустоте логических отношений, себя в органике как новый феномен, имеющий самостоятельное существование в общности элементов отдельного организма, и затем на более высокой ступени развития, в общности живых существ. Сознание первично проявляет себя как общность. Поэтому можно говорить и о со-знании сообществ – стадо, стая, пчелиный рой, муравейник, семья, племя, народ. Сознание индивидуализирует сообщество, проявляя его вовне как отдельное существо. 20
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Более чем вероятно, что Лейбниц пришел к этому под влиянием своих бесед со Спинозой. Спиноза приоткрыл завесу древней иудейской мудрости для европейской мысли, став провозвестником философии Нового времени, за что и был наказан еврейской общиной наложением херема.
2
Теория групп в современной науке, которая ставит перед собой задачу свести в единое целое все взаимодействия через выявление единства симметрии в множественности отношений, опирается на тот же принцип, что и Лейбниц в своей монадологии.
3
Принято считать, что Гегель основные положения своей философии позаимствовал у Шеллинга, и вся его работа состояла лишь в том, что он «отшлифовал» эти положения в наукообразной тяжеловесности своих сочинений. Сам Шеллинг был убежден в этом. Но это не так. Философия Гегеля изначально самостоятельна и всецело принадлежит его гению. Активная переписка Гегеля и Шеллинга во времена их молодости в послеуниверситетский период и затем совместная работа в Йене свидетельствуют о том, что Шеллинг, несмотря на раннюю славу и великолепную стилистику своих текстов, в этой совместной работе был . Именно в этот период, в период активного сотрудничества с Гегелем, Шеллинг создает самые значительные свои произведения. Еще не раскрывшая себя подпольная гегелевская мудрость – тайна философского успеха Шеллинга. Они были нужны друг другу – медлительная основательность Гегеля, который не умел в то время выразить свою мысль общепонятным образом, и легкий общедоступный стиль шеллинговского текста – дополняя друг друга, они сумели громко заявить о себе в немецкой философской мысли того времени. После скандального отъезда Шеллинга из Йены интеллектуальная связь его с Гегелем постепенно ослабевает и, наконец, прерывается полностью. После этого философский потенциал Шеллинга испаряется – он не создает ничего сколько-нибудь значительного в философии. Гегель же, напротив, лишенный транслирующего его мысль органа (в лице Шеллинга), вынужден сам учиться выражать свои мысли на понятном другим языке, и его дух рождает величайшие произведения в истории всей философии. Можно ли сомневаться после этого в том, что философский потенциал Шеллинга представлял собой всего лишь бледное отражение философской мощи Гегеля в период ее зарождения? ведомым
4
Так, например, Гегель часто использует мотивы и действия персонажей античных драматических произведений таких авторов, как Софокл [7, 251], Аристофан [7, 398], не упоминая их в тексте явно. Или дает подробный анализ отношения «олигархическая оппозиция – император» первого века Римской империи, также не упоминая конкретных имен [7, 259]. В знаменитом анализе отношений «раб – господин» [7, 103—106] явно прослеживается влияние комедий Плавта, где раб зачастую помыкает господином. Образчик гегелевской иронии – иллюстрация сочетания возвышенного и низменного в физиологических деталях организма [7, 187].
5
Здесь следует быть осторожным – такой опыт таит в себе немало опасностей, «…в систему Гегеля трудно войти, но, войдя, почти невозможно из нее выйти» [5, 10].
6
Увы, сколь многие останавливаются на этом в своем развитии, останавливаются … Впрочем, так ли уж увы? Все достижения человечества замешаны на этом слепом порыве индивида к самоутверждению. Что стало бы с миром, если бы все вдруг углубились в самопознание, полезли бы в умилении целоваться друг с другом и покинули поля, фабрики, конторы, банки, биржи, правительственные учреждения?.. Нет, нет – всяк злак на пользу… навсегда
7
Это достигнутый результат. Но результат не есть само понятие. Понятие – это борьбы за обретение результата (процесс генезиса понятия в действительности определяется Гегелем как ). В «Феноменологии духа» этот процесс изображается яркими красками трагедии обретения сознанием самого себя, обретения свободы через необходимый опыт рабства. Сознание в этом процессе претерпевает метаморфозу трех форм: форму простого восприятия – , форму фиксированного разделения на я и не-я – и, наконец, – , форму достоверности того, что есть только Я, единое и единственное, и все, что есть, есть только вариации самоопределения Я. весь процесс идея чувственности рассудок разум
8
Примером такого сосуществования индивидов могут служить первобытные общества, где это единство в роде прослеживается в самом чистом виде. Вся история Китая пронизана этим единством до сего дня. Но оно сохраняется также и в обществе Древнего Египта, и в эллинистических государств, да и в европейских национальных государствах вплоть до рефлексии Просвещения, когда это единство впервые начинает подвергаться осмыслению, а значит, и сомнению в его святости. общем деле наивное
9
В философии Гегеля нравственность и мораль имеют разные смысловые оттенки. Как и в общепринятом понимании, это один процесс, но мораль есть отражение нравственности в становлении индивида (как отдельного индивида, так и всеобщей индивидуальности). В этом становлении индивид начинает с отрицания нравственности («…и раз я начал проверять, я уже на пути безнравственности» [7, 232]), но с той же необходимостью приходит к осознанной нравственности, когда мораль перевоплощается в ту же нравственность, но уже как осознанная необходимость. необходимо естественной
10
Можно возразить, что в Китае эта сила процветает и по сей день. Но любой непредвзятый анализ показывает, что сегодняшний китайский марксизм – это возвращение к архаике, к истокам общественной нравственности в его исконно китайском обличии, даже в оболочке марксизма. Это один из ярких примеров того, как закон действительности пропитывает собою закон сердца.
11
Каким трагичным образом это воплощается в отчаянии Ленина в конце жизни или в зрелом отчаянии Маркса в неприятии множества современных ему «марксистов»…
12
Личность Ницше – высочайшая степень проявления провидческого дара Гегеля, который сумел в современных ему идейных переплетениях увидеть тот узел, который необходимо должен был реализоваться в действительности, как в личном явлении – Ницше, так и в форме идеологии – в фашизме. Ницше – это воплощенное в действительность – сознание, доведенное до безумия невозможностью собрать воедино «сознание» [7, 112], я и не-я. «Существуя как соотношение абсолютно противоречивой действительности, оно есть помешательство…» [7, 203]. Трагичность судьбы Ницше – его наивная искренность. В этой судьбе – интеллектуальный надлом времени, выбравший свою жертву. Структурообразующая основа его личности не величие духа, а несчастное сознание хилости собственной духовности, которая не в силах преодолеть противоречивость действительности. Прославляющий силу был лишен ее. «…Уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А еще лучше: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас» [17, 56]. В фашизме принцип единичной индивидуальности (не Я, но эго), вернее, принцип ее , доведен до своих крайних пределов: этот принцип переносится на нацию как личность в немецком национал-социализме и на государство как личность в итальянском фашизме. С этой точки зрения фашизм – закономерное развитие идей либерализма. безумие самомнения несчастное сознание раздвоенное внутри себя сознательное произвола
13
Здесь обнаруживается надуманность «опровержения» гегельянства И. Ильиным в его замечательном труде «Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека». Это опровержение строится на двух столпах: первое – невозможность дать точный критерий того, когда человек мыслит «спекулятивно», а когда он мыслит просто как единичное самосознание, и второе – провал гегелевской теодицеи в современном Ильину мире. « в тисках необходимости и случая» [10, 484]. Но это и есть верх самомнения – детская убежденность в том, что современный мир, с его прошлым и настоящим, и есть то, что подлежит оценке. Теодицея не факт, теодицея – процесс, который не имеет своего завершения только лишь в человеческом измерении. Мы внутри этого процесса и мы сам процесс. Что же касается невозможности отграничения спекулятивного от обыденного, то и здесь есть простой критерий: когда пьяный неграмотный пастух мыслит о сущности звездного неба, его мышление неосознанно спекулятивно независимо от того, к каким выводам он приходит в своем размышлении; когда увенчанный лаврами академик терзает себя мыслью о несправедливости размера надбавки к академической пенсии, он мыслит как единичное я. Впрочем, это отнюдь не принижает действительную значимость работы Ильина для понимания гегелевской философии. Научный ряд замыкается в строгую систему, но ряд мировых событий продолжает свое течение и довершает (!) свою судьбу дурной злого мне моей окончательной
14
Даже те действия, которые считаются, и считаются по праву, подлыми, своекорыстными в конечном итоге, служат продвижению всеобщего в познании себя как единого. Только через отрицательное можно приблизиться к положительному, и оба данных момента необходимы. неизбежно преодолеет все негодное. Более того, действуют своекорыстно, стараясь сознательно или бессознательно утвердить свое я в противостоящем не-я, создать из него свое собственное произведение, но это кипение множества противостоящих друг другу я и есть то, что можно определить как духовную субстанцию, как Я. Духовная субстанция, сосредотачивающаяся к самой себе как к Единому. Гегель определяет это как «обоюдный обман и духовную субстанцию» [7, 219]. Общий ход вещей все
15
Но этим не завершается гегелевская «Феноменология духа». Дальше Гегель показывает, как понятие духа, понятие тождества я и Я, развертывает себя в действительность. Это, пожалуй, наиболее трудно воспринимаемая часть гегелевского текста. Здесь Гегель помещает свое я в центр абсолютного Я и делает попытку погружения в действительность. Он должен мобилизовать все свои силы – и физические, и духовные. Чудовищное напряжение мысли, граничащее с безумием: «…это погружение в темные области, где ничто не оказывается достоверным, твердым и определенным, где всюду встречаются яркие вспышки света… и порождают ложные отношения, кажущиеся истинным светом… Я страдал такой ипохондрией пару лет и притом в такой мере, что дошел до истощения» [6, 318]. Гегель был как никогда близок к тому, чтобы разделить участь своего друга Гельдерлина, но мощь его души преодолела и этот соблазн.
16
Просто и точно смысл этого приближения науки к парадигме идеализма раскрывает Э. Шредингер в своих поздних «философских» работах. О второй половине XIX века: «Это был период стремительного, взрывоподобного развития науки, а также невероятного, взрывоподобного развития промышленности и техники… Невероятное материальное развитие привело к материалистическому мировоззрению, происходящему, якобы, из новых научных открытий» [24, 16]. Но сейчас, в середине XX века, «…когда вы наблюдаете частицу определенного типа, скажем, электрон, здесь и сейчас – в принципе это должно рассматриваться как . Даже если через очень короткий промежуток времени и в непосредственной близости вы наблюдаете подобную частицу, даже если у вас при этом есть все основания предполагать наличие между первым и вторым наблюдениями, утверждение о том, что в обоих случаях наблюдалась , лишено подлинного, точно выраженного смысла» [24, 22]. То есть существование объекта растворяется в ряд событий, в процесс – нет объектов, есть только процессы. «Атомизм находится на пороге серьезного кризиса. Атомы – наши современные атомы, элементарные частицы – не должны более считаться идентифицируемыми объектами. Это более сильный отход от исходной идеи атома, чем кто-либо когда-либо мог предположить» [24, 54—55]. «» [24, 51]. «Субъект и объект едины. Нельзя говорить, что барьер между ними пал в результате последних открытий, сделанных в физике, поскольку такого барьера не существует… Причиной того, что наше ощущение, воспринимающее и мыслящее эго нигде не встречается в нашей научной картине мира, легко формулируется семью словами: потому что оно само является картиной мира. Оно идентично целому и потому не может содержаться в нем как его часть» [25, 50—51]. То есть я = Я. отдельное событие причинной связи одна и та же частица Ибо наблюдающий разум – это не физическая система, он не может взаимодействовать с произвольной физической системой
17
Наука обычно связывается с атеизмом. Но атеизм, с нашей точки зрения, это одна из форм религиозности, постольку, поскольку это одна из форм снятия напряженности между я и не-я, где сущностное единство определено как не-я.
18
Заметим, что невозможно определить Я как универсум (пантеизм). Универсум – это явленный мир; к универсуму относится как мир природы, объектный мир, так и мир мысленных образов, таких, например, как государство. Универсум, как и «все» в обыденном представлении, ассоциируется с объектностью (статика), с не-я, тогда как Я не есть телесность, не есть объект. Я есть отношение (динамика), то есть мысль.
19
Слово «эго» в русском языке имеет отрицательную смысловую окраску (от ). Но в греческом языке, языке, на котором в большинстве своем создавались первые христианские тексты, слово Έγώ (Эго) часто имеет смысл абсолютного Я: Έγώ είμι τό Άλφα καί τό Ώμέγα (Я есмь Альфа и Омега, Откр. 1:8). эгоизм, эгоцентризм
20
В психологии К. Г. Юнга этот феномен неудачно определен как «коллективное сознательное». Несмотря на мощный прорыв Юнга в анализе значимости понятия «самость» (основное понятие его психологии – индивидуация – жизнь как движение от эго к самости), устойчивое представление о том, что сознание – это только лишь осознание субъектом своего знания – «я знаю, что я знаю это», сохраняется у Юнга в неприкосновенности. Он остается в тисках рассудочного мышления. В этом представлении индивидуум первичен по отношению к сознанию, то есть сознание только индивидууме: в метаморфозе универсума сознания нет до индивидуума. В спекулятивном же представлении, напротив, сознание первично – сознание себя индивидуум. Сознание как форма концентрации Я к самому себе – гегелевское понятие – определяет способ своего проявления для самого себя. Этот способ проявления себя для себя и есть индивидуальный субъект в своем становлении от простейшего организма до человека. Уже в одноклеточном организме есть общность – объединение функций в общем стремлении к сохранению себя, то есть жизнь. В человеке, в самосознании, сознание прорывается к самому себе – видит себя как то, что наконец-то стало явным. Юнговские архетипы – это не элемент «коллективного бессознательного», скорее – это устойчиво сохраняющиеся психические механизмы первичных форм проявления самосознания, атавизмы процесса его становления. Термин «бессознательное» содержит в себе неверное представление о том, что в том феномене, о котором говорит Юнг, сознания, тогда как на самом деле этот феномен и есть сознание, но сознание, еще самим собой. бес появляется в проявляет через нет не осознанное



