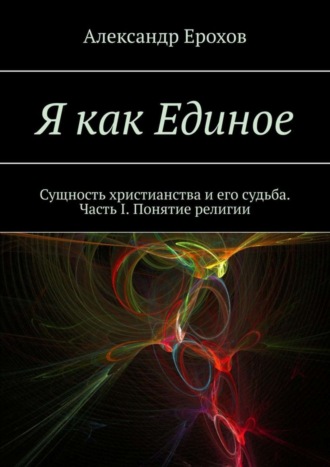
Полная версия
Я как Единое. Сущность христианства и его судьба. Часть I. Понятие религии
Далее разум наблюдает органическое в соотношении с косной материей. Сущность органического заключается в понятии цели, и эта цель одна – простое сохранение себя самого в соотношении с другим. «Органическое не порождает чего-либо, а лишь ; иначе говоря, то, что порождается, в такой же мере уже имеется налицо, как и порождается» [7, 139]. В органике Я делает первые попытки увидеть себя, вырвать себя из стихийности косной определенности материи. Воспроизводя само себя в потомстве, Я как органическое преодолевает власть законов природы. «Действия органического, направленные на сохранение его самого как индивида или его как рода, со стороны этого непосредственного содержания целиком находятся поэтому вне закона…» [7, 141]. В своем высшем проявлении – человеке – органическое полностью освобождается от необходимости природных законов: закон всемирного тяготения «снимается» в ракетных технологиях, законы генетики «снимаются» в создании новых организмов и т.д., и т. д. Нет такого закона природы, власть которого невозможно было бы преодолеть в поле мысли. Здесь мы воочию видим ничтожность не-Я, его мнимую действительность – мысль легко претворяет не-Я в саму себя, в мысль. Но это высшее проявление Я – человек, не может реализоваться только лишь как органическое. Я должно высвободить себя не только из косной природы, неживой материальности, но и из органики, которая сама по себе не обладает еще мощью свободного понятия. В органике Я все еще находится во власти стихийного, случайного – оно только сохраняет себя во множестве различных форм, но не сознает себя и, значит, не может иметь развития. И наконец в самосознании или, что то же самое, в человеке Я обретает самое себя, Я видит себя и Я может действовать осознанно как свободное понятие. «Наблюдение находит это свободное понятие, всеобщность которого столь же абсолютно содержит внутри себя самой развитую единичность, лишь в самом понятии, существующем как понятие, или в » [7, 160]. Осознав себя, Я обретает свободу, Я может действовать и Я действует. Эта деятельность есть «претворение разумного самосознания в действительность им самим» [7, 187]. сохраняет себя самосознании
Но движение воплощения себя в действительность изначально облечено в непосредственную наивность самосознания. Каждый индивид непосредственно, не задумываясь об этом, видит в другом индивиде необходимый элемент для существования. Каждое я видит в другом я самого себя, то есть Я, и это пока еще не осознанное для себя единство порождает как сопричастность самому себе в другом. «есть не что иное, как абсолютное духовное сущности индивидов в их самостоятельной , некоторое в себе всеобщее самосознание, которое для себя столь действительно в некотором другом сознании, что последнее обладает совершенной самостоятельностью, или есть для него некоторая вещь, и что именно тут оно сознает единство с ней, и лишь в этом единстве с этой предметной сущностью оно есть самосознание. Эта нравственная , взятая в , есть лишь закон; но столь же непосредственно она есть действительное , или: она есть » [7, 188]. Однако, царство нравственности, в котором изначально сосуществуют индивиды, не может сохранять свою гармонию вечно. Разум подвергнуть это царство испытанию, разум должен пройти через отрицание и, в конце концов, либо отвергнуть его и прийти к чему-то новому, либо сделать нравственность своим неотъемлемым достоянием, принять нравственность как то, без чего невозможен и сам разум. Это испытание проявляет себя как . Мораль, в отличие от нравственности, есть порождение индивида, отделяющего себя от сущности и подвергающего сомнению ценность нравственности индивида, который ставит себя выше нравственного царства и видит истину только в самом себе. Моральность – это процесс действительного обретения нравственности через необходимость ее отрицания. Невозможно приблизиться к добру, не вкусив соблазнов зла. Я как единичное я вновь возвращается к вожделению и стремится получить наслаждение в том, чтобы претворить противостоящую ему действительность в форму себя самого, поскольку оно достоверно знает, что противостоящая ему действительность есть оно само в ложном обличии инобытия. Но это не то вожделение, которое я уже испытало, будучи наблюдающим сознанием. Это вожделение «…направлено не на уничтожение предметной сущности в целом, а лишь на форму ее инобытия или на ее самостоятельность…» [7, 193]. Здесь я все еще не вышло из тисков отдельности себя от целого, и поэтому вся его жизнь направлена на получение удовольствия от этой жизни и наслаждения от удовлетворения вожделений: «…в него вселился дух земли, для которого имеет значение истинной действительности только то бытие, которое составляет действительность единичного сознания» [7, 193]. И многое в этой жизни ему удается: я насилует ближних, я приобретает собственность, я наслаждается, и чем ближе я пригибает себя к земле, чем подлее оно действует, тем больше ему удается. Но единичное я всегда единично, оно конечно, и конец неизбежно настигает его и воспринимается им как верх несправедливости – «он брал жизнь, но тем самым он, напротив, схватывал смерть. Этот переход его живого бытия в безжизненную необходимость кажется ему поэтому чем-то извращенным…» [7, 195]. Именно эта , мощь всеобщности, о которую разбивается индивидуальность, и есть то, что я искало на протяжении всей жизни. Мощь всеобщности – это и есть оно само, то есть Я. «Эта рефлексия сознания в себя – знание того, что необходимость – это оно , – есть его новая форма» [7, 196]. своего нравственность Царство нравственности… единство действительности субстанция абстракции всеобщности мысленный самосознание нравы должен мораль необходимость само 8 9
Но и здесь, в смерти и преодолении ее, в знании себя как всеобщей необходимости, моральное становление я еще не завершено. Как единичное, я все еще полагает, что эта необходимость заключена в его единичности, что дан закон всеобщей благодати, и оно должно претворить этот закон, его , в действительность, претворить, вопреки всему и вся. Ибо я убеждено, что оно в законе своего сердца познало необходимость сущего, действительность же не соответствует этому закону, и я искренне стремится пересоздать действительность в соответствии с этим законом. Закон, противостоящий закону сердца, есть , и – по убеждению единичного я – «человечество, которое ему принадлежит, живет не в осчастливливающем единстве закона с сердцем, а в жестоком разладе и страдании…» [7, 197]. И я полагает, что ему дано осчастливить человечество. Высота задачи дает неимоверную силу. Мы видели эту силу в движении первичного наивного христианства, в движении приведения к покорности в исламе, в марксизме, мы видели эту силу в фашизме, наконец, мы видим эту силу на ее излете в псевдоблагородных потугах либерализма под страхом уничтожения даровать «свободу и права» . Закон сердца всегда пытается осчастливить человечество и всегда заканчивается насилием над человеком… Но тщетно. , какими бы высокими целями он ни питался, неизбежно разбивается вдребезги в столкновении с . Познав результаты своего действия, я ужасается, я, «принадлежа двойной противоположной существенности, в себе самом противоречиво и потрясено до самой глубины… Биение сердца для блага человечества переходит поэтому в неистовство безумного самомнения, в яростные попытки сознания сохранить себя от разрушения тем, что оно выбрасывает из себя извращенность, которая есть оно само… оно провозглашает общий порядок извращением закона сердца и его счастья, измышленными фанатическими жрецами, развратными деспотами и их прислужниками, вознаграждающими себя за собственное унижение унижением и угнетением нижестоящих – извращением, практикуемым с целью причинить невыразимое бедствие обманутому человечеству» [7, 199—200]. Провидец Гегель, провидец… В этом одна из граней его несокрушимости – он видел не только тех, кто предшествовал ему, но и предвидел тех, кто последует за ним. Как не узнать это безумие самомнения в ницшеанском самолюбовании, в его оде единичному, где хамство испытывает наслаждение в объятиях самомнения, и плод этой похоти еще и поныне разливается по улицам европейских столиц в «парадах любви»… ему закон сердца закон действительности всех каждому Закон сердца законом действительности 10 11 12
Но против этого безумия самомнения, поклонения единичному восстает добродетель. «Формообразование сознания, которое открывается в себе в законе, в истинном и добром не как единичность, а только как , но в то же время знает индивидуальность как то, что извращено и извращает, и потому оно должно пожертвовать единичностью сознания, – это формообразование сознания есть » [7, 202]. Добродетель верит в то, что добро есть нивелирование индивидуальности, низведение ее до ничтожности, и эту веру добродетель пытается внедрить в реальное, сделать это уничижение единичности действительным для себя. И добродетель вступает в борьбу с . А общий ход вещей – это столкновение и взаимопроникновение мириад индивидуальностей, столкновение их интересов и переплетение действий в стремлении удовлетворить себя. Но именно это бурление сил различных индивидуальностей, «игра их внешних проявлений» и есть то, что движет , дает ему существование и проявление для себя самого. Убери эту борьбу индивидуальных интересов друг с другом, и все превратится в ничто. Только «… сообщает им жизнь, иначе они были бы мертвым в-себе…» [7, 208—209]. Сознание на опыте убеждается в том, что индивидуальность – это та ценность, без которой невозможно существование чего-либо, та ценность, пожертвовать которой – значит умертвить действительность. «С этим опытом отпадает средство создать доброе путем индивидуальностью, ибо индивидуальность есть как раз в-себе-сущего… движение индивидуальности есть реальность всеобщего… Пусть индивидуальность общего хода вещей считает, что она совершает поступки или : она лучше, чем она мнит о себе, ее действование есть в то же время -сущее, действие. Когда она поступает своекорыстно, то она лишь не ведает, что творит…» [7, 208]. Добродетель терпит поражение, так как она пытается уничтожить то, чьей стороной она сама является. Добродетель есть одно из проявлений той же самой индивидуальности, и значит, добродетель в этой борьбе пытается уничтожить саму себя. И здесь мы находим подтверждение провидческого дара Гегеля: что, как не эта свирепая борьба с индивидуальностью и сокрушительное поражение в этой борьбе с , есть вся история становления и гибели Советского Союза. Расхожее представление о том, что во Второй мировой войне сразились между собой две различные формы понимания гегелевской философии, по сути своей неверно. Во Второй мировой войне сразились между собой две различные формы понимания философии Гегеля: идеология фашизма как крайняя форма выражения единичного индивидуалистического начала – , и идеология коммунизма как крайняя форма выражения начала – наивная . XX век стал веком схватки обезумевшего самосознания в форме самомнения с самим собой в форме наивной добродетели. Но и та, и другая форма были преодолены, сняты тотальной мощью . Самосознание вернулось в себя, на опыте убедившись в том, что оно не обладает истиной как единичное самосознание, как произвол, но в равной степени не обладает истиной и как абстрактное всеобщее, лишенное индивидуальности. Самосознание должно сохранить себя и как и как . Это противоречие снимается в знании себя как я = Я: каждое единичное я есть Я, причем Я, но как Я, как одно из единого и единственного Я. «…каждое произведение, как и каждая индивидуальность, соотносится только с самим собою» [7, 214]. Действование любого единичного самосознания, , есть действование всеобщего самосознания, оно «лучше, чем оно само о себе думает». индивидуума и тождественны, они есть единство, и «это единство есть истинное произведение; оно есть сама , которая просто утверждает себя и узнается на опыте как „постоянное“, независимо от того дела, которое есть индивидуального действования как такового, обстоятельств, средств и действительности» [7, 218]. Самосознание достигает здесь высшей точки моральности, но в этой точке оно достигает того, что подвергалось сомнению в начале пути, того, от чего оно высокомерно пыталось уклониться, самосознание возвращается в свое родное лоно – нравственность. Оно открывает, что боролось против самого себя, что оно, самосознание, Я, «…есть действительность, и мир есть эта действительность… Нравственное сознание в силу своей составляет „одно“ с сущностью…» [7, 231]. Достоверность становится истиной. И разум, познавший себя самого как реальность, есть . Феноменология состоялась. Дух, осознав себя как тождество я и Я, может теперь с высоты этой истины увидеть себя как становление, как метаморфозу проявления себя самого в наличном бытии. «Что же касается этого понятия, то во времени и действительности появляется не раньше, чем дух дошел до этого сознания относительно себя» [7, 428]. Вся дальнейшая работа Гегеля на протяжении всей его жизни направлена на раскрытие этой науки перед современниками и перед будущим. в себе, сущность добродетель общим ходом вещей всеобщее игра их внешних проявлений пожертвования претворение в действительность для себя своекорыстно в-себе всеобщее общим ходом вещей недо безумия самомнения всеобщего добродетель общего хода вещей индивидуальность, всеобщее не как часть все состояний какими бы интересами оно ни руководствовалось Действование всеобщность суть дела случайность только само всеобщности самости непосредственно всю Дух наличного бытия наука 13 14 15
Непосредственно абсолютное знание, знание тождества я и Я, открывается в искусстве через чувственность и в религии через представление. В искусстве, в творчестве индивидуальное я непосредственно воспроизводит акт творения абсолютного Я. В произведении искусства я творит не только мир, но и мир – персонажи романа «Война и мир» для нас более реальны, чем исторические лица того времени – и те, и другие уже в прошлом, в одинаковом временном небытии, но прошлое «Войны и мира» переживается нами с большей остротой восприятия, чем прошлое со страниц научного исследования. Более того, наши переживания, связанные с персонажами «Войны и мира», оказывают большее воздействие на наши поступки, нежели наши знания о реальных исторических лицах, и значит, современный для нас во многом испытывает на себе влияние этих переживаний. В этом проявляется мира произведения искусства. В развитии религии представляющее сознание, опираясь на интуитивно присущее каждому человеку переживание единства я и не-я, формирует ряд образов, которые в действительности являют собой генезис конечного знания тождества я и Я, генезис христианства. Но и в искусстве, и в религии это знание еще , оно еще не отражено само в себе, не осознано как действительность. Только лишь в это знание получает форму , ибо только в науке это знание обретает себя не в непосредственности чувства или представления, а в своей собственной стихии – в стихии логики, в стихии мысли. свой действительный общий ход вещей действительность непосредственно науке достоверности
Три формы самопознания – искусство, религия, наука смыкаются в одной точке, в конечном знании истины, в знании я и Я. В искусстве это знание собственной приобщенности к божественному переживается еще неосознанно в акте творчества. В религии оно познается как христианское откровение. В науке этот процесс еще не завершен, но и здесь великий перелом уже состоялся. Понятие поля как всеобщности , то есть мысли, теория как приближение к пониманию центричности я, квантовая механика как растворение объектности в субъекте – постепенно, но неотвратимо «…эволюция научного знания подходит поразительно близко к » [18, 1382]. тождества отношений относительности идеалистической картине природы 16
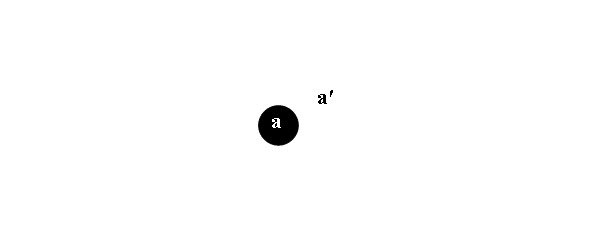
Вера и знание
В обыденном представлении религия неразрывно связана с верой. Лев Толстой в своей попытке определить для себя, что есть религия, говорит о религии-вере. Это и неудивительно – в России сам термин «религия» стал употребляться только лишь с XVIII века. До этого времени то, что сейчас мы называем религией, называлось просто – вера. Большинство современных определений религии, а таких определений великое множество, указывает на веру как на ту основу, без которой религия невозможна. Но так ли это на самом деле? Действительно ли вера, этот сложный логико-психологический комплекс отношений, может быть основанием религии, древнейшего из феноменов человеческого бытия? Нет, конечно же, нет. Что есть вера? Вера как отношение к какому-либо содержанию есть, прежде всего, преодоление ярма очевидности, преодоление непосредственной данности чувственного восприятия в привычных формах логики рассудка. Вера есть акт свободы. Все умопостроения Кьеркегора основаны на этом понимании веры как освобождения. Для того чтобы приблизиться к вере, необходимо сначала пройти адовы страдания бесконечного кружения в замкнутом пространстве логико-чувственной очевидности, возвыситься в мышлении над этими прочными границами человеческого естества. Кьеркегору это было не дано – отсюда вся тяжесть его переживаний и вопль отчаяния. И немногие из избранных были удостоены этого прорыва поверх человеческого, человеческого. Среди миллионов тех, кто считает себя верующим сегодня, даже среди истовых служителей культа лишь единицы воистину просветлены верой. Большинство же в мироустройстве себя опирается на веками выработанную традицию и на внутреннее, присущее каждому человеку, постольку, поскольку он человек, ощущение своей личной единосущности миру. Вера не может быть ниспослана как дар, вера тяжким трудом усилия души, с кровью совлекающей с себя оболочку своей единичности и полагающей себя как единое. Когда Мирча Элиаде, один из столпов современного религиоведения, характеризуя предрелигиозные проявления в доисторические времена, говорит о том, что «…вера в загробную жизнь демонстрируется с древнейших времен…» [27, 15], мы можем лишний раз убедиться, насколько глубоко это обыденное представление о соотношении между верой и религией пронизывает мышление даже самых усердных исследователей. Архаичное сознание не знало веры, оно не в загробную жизнь, но ее непосредственно, чувственно, поскольку еще не разделяло свое восприятие на сон, явь и представление. Вера – это принадлежность развитого интеллекта. Любая религия изначально основана на в первичных формах религиозности это непосредственно воспринимаемое чувственное знание, в более развитых формах – это логически обоснованное знание, как например, мозаизм или христианствоДолжны были пройти тысячелетия, прежде чем вера, даже неосознанная вера, смогла проявить себя в историческом процессе становления человека. только лишь неосознанное достигается верило воспринимало знании: .
Нет, в основании религии лежит достоверное, более того – самое достоверное из всех возможных, . Это знание основано на непосредственном опыте внутреннего переживания человеком противостояния двух миров – мира я и мира не-я. Мир я – это мир чувственных состояний, мир мыслей, представлений, фантазий и снов. Мир не-я – это мир объектности, мир явленного, то, что воспринимается нами как вещная оболочка нашего личного я, в которую включена и наша собственная телесность. Психическое состояние человека страдает от этой разорванности, и для того чтобы сохранить душевное равновесие, излечиться от болезни противостояния, самосознание человека выстраивает логическую сеть связей между своим внутренним миром и миром иным, предстоящим ему в ощущении. знание каждым
Различные формы снятия этого противостояния в некой ментальной конструкции и есть то, что мы называем религией.
Развитие этих форм не просто параллельно становлению сознания человека – теснейшим образом переплетаясь друг с другом, они составляют одно целое. Это отображение одного в другом. С этой точки зрения и искусство, и наука являются суррогатными формами религии: искусство как неосознанная религия, наука как отраженная религия. В искусстве чувственное переживание снятия противоположности я и не-я достигается в творчестве – барьер разрушается. Индивидуальное я прорывает оболочку своей телесности и проецирует себя в мир. Любой акт творчества предполагает изначальный мысленный образ, и, не сознавая этого, я переводит действительность из сферы мысли в мир явления. В своем произведении я утверждает ничтожность не-я, проявляя действительность, равную по значимости уже существующей действительности. В акте творчества я непосредственно познает свою причастность к всеобщему творению, свою Творцу. В науке я пытается разрушить этот барьер, выстраивая и одновременно познавая конструкцию, смысл связи между я и не-я. Если в искусстве я преобразует мысль в явление, то в науке, напротив, я пытается поместить явление в некую мысленную логическую конструкцию, отобразить явленный, объектный мир в мир мысли, в мир я, и таким образом окончательно познать и утвердить их единство. 17 единосущность логическую
Одно из наиболее точных, ясных и сжатых определений того, что есть мир, дает В. Гейзенберг: «Мир представляется при такой точке зрения в виде сложного переплетения процессов, где весьма разнообразные связи меняются, пересекаются и действуют вместе и таким путем определяют структуру всего сплетения» [9, 62]. То есть мир существует не как взаимодействие объектов, а как взаимодействие . Это вполне можно осознать и на уровне обыденного представления. Действительно, то, что мы воспринимаем как объекты, устойчивые вещи, на самом деле является текучестями, процессами. Любой вещный объект имеет начальную и конечную точку своего существования, любой вещный объект – это только явление во времени. Сущностное определение любого процесса есть – отношение нечто к иному. Любое отношение нечто к иному в чистом виде есть . По сути своей мир – это не множество объектов, мир – это сплетение процессов, сплетение отношений, и значит, мир есть мышление и только мышление. Но это «сложное переплетение процессов» не рассыпается в хаотичность, связи «действуют вместе и таким путем определяют структуру всего сплетения». То, что определяет «структуру всего сплетения», центр, фокус продуцирования этих связей мы, оставаясь в сфере гегелевской терминологии, называем Абсолютное Я. процессов отношение мысль
Абсолютное Я, или просто Я, понимается нами как Единое и Единственное, как процесс, вне которого ничего не может быть. Как только я мыслю границу между нечто и иным, я тут же определяю эту границу не только как разделяющее, но и, прежде всего, как связующее. Собственно, такое определение границы между нечто и иным, проецирование отношения , и есть мышление, и оно всегда замыкается в себе самом. Даже , первую логическую категорию, Я пробуждает в себе самом как противопоставление себя себе. Это и есть то первичное бинарное отношение, из которого развивается вся множественность. Множественность исходит из единства Я и замыкается в единство Я: тождество я = Я есть единая рекурсивная процедура проявлений универсума, ритм его дыхания, его душа и его дух. Когда мы говорим «я», мы понимаем под этим форму рефлексии абсолютного Я в себе самом как единичном проявлении себя в множественность. Но индивидуальное я – это ни в коей мере не эгоистические устремления личности, то, против чего восставал в своих проповедях Будда, то, что в рассудочном сознании окутывает и подавляет собой действительное я – излучение Я абсолютного. Индивидуальное я не обладает самостоятельным существованием, оно всегда проявлено как относительность к Я. Самосознание – это лишь отражение единосущности я и Я. Мнимое представление о том, что самосознание есть принадлежность отдельного я, завладение, «присвоение» этой единосущности индивидуальным я и есть то, что познается как грехопадение, то, что есть Зло в чистом виде. Мы называем это эго, в отличие от я, которое есть осознанное или неосознанное переживание своей отраженности. 18 19 не ничто всех
Неорганическая природа – это чистое мышление, абсолютное Я, еще не выработавшее рефлекторной формы единичности, позволяющей увидеть себя в себе. Органика – это процесс совершенствования рефлекторной формы видения себя в себе (я) – от кристалла (способность возрождать себя в себе как простую систему отношений) до гена (способность передавать не только систему отношений, но и сложные признаки), от гена до клетки (способность воспроизводить функциональность) и от клетки до человека (способность целого осознавать себя в единичности). В человеке достигается наиболее совершенное отображение себя в себе, познание абсолютным Я самого себя через самосознание человека, через индивидуальное я. Но человек не есть последнее состояние универсума, универсум преодолеет это состояние в своем дальнейшем развитии. Человек есть лишь линия разлома, линия возвращения абсолютного Я из природной проявленности в свою родную стихию, в стихию чистого мышления. Дальнейшая метаморфоза развивается в обратной перспективе по оси концентрации из множественности в себя, в точку первичного единства, но единства уже . Такие формообразования, как мораль, государство, право, идеология – первые шаги в этом направлении. Как в дальнейшем будет происходить развитие, предусмотреть невозможно. Сегодня универсум пребывает в начале этого процесса, и если для распыления себя в множественность потребовались миллиарды лет, то и для обратной концентрации в себя, для воскресения, потребуется сопоставимое время. Религия в этом процессе есть не форма отношения человеческого рассудка, но развитие самосознания самого Единого, форма обретения абсолютным Я знания о себе в человеке и воскресения себя в универсуме. Нам это развитие представляется как движение от несовершенного к совершенному. Но такое представление действительно только для человеческого рассудка, пребывающего в отношении пространства и времени. Абсолютное Я вечно есть и есть как совершенное вне времени и пространства, а потому всегда знает и начало, и завершение. осознанного



