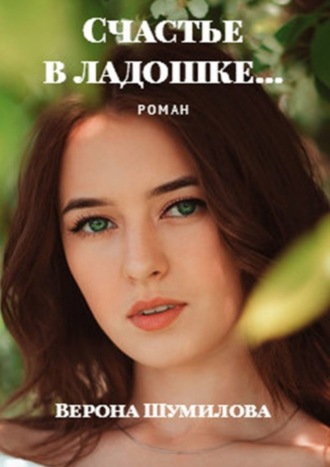
Полная версия
Счастье в ладошке… Роман
– Но кто-то же есть у тебя? – не поверив Вадиму, спросила. – Подруга? Женщина? Любовница?
– Представь себе, нет никого. Я – один! Вернее, я одинок…
– Человек создан для того, чтобы жить в обществе друга, подруги. Этого требует природа. Оставить человека одного, значит, приговорить его к несчастью. – Наташа говорила эти мысли с горечью, не глядя в потемневшие глаза Горина. – Мысли от одиночества путаются, характер ожесточается, появляются нелепые мысли. Как жить в одиночестве? Тебе, Горин, нужен друг.
Истратив много сил на обуздание своих переживаний от неожиданной встречи, Горин нервничал и чувствовал, как с каждой минутой сам слабеет и опустошается.
– Поезд мой ушел, – выдавил он из себя, и Наталья Николаевна вздрогнула: таким печальным показался ей его голос, совсем не тот, который она знала и впитывала в себя изо дня в день, из года в год. Поверить трудно, но это так! – А как же ты живешь, Наташка? Я ничего о тебе не знаю вот уже целых бесконечно долгих два года.
– Это, Вадим, вечность… Всё нелепо, надуманно… Всё не так, как хотело сердце…
Горин, споткнувшись о последнюю фразы, прозвучавшую, как приговор, некоторое время молчал, не понимая, что же ответить ей, этой великолепной и сейчас немыслимо далекой повелительнице его прошлых (да и настоящих) мыслей и желаний?
А Наташа продолжала:
– Я не живу, Горин, я таю… С каждым днем всё больше и больше. С утра до ночи на работе. А ночью? Ночью иногда что-то неведомое, тяжелое и печальное наваливается всей своей тяжестью, и даже слез нет, чтобы всё выплакать и отмучиться… И до самого утра не спишь… А на следующий день опять стол, бумаги, завязки-развязки, узлы, ребусы… И всё встаёт на свое место. И ты уже себе не принадлежишь, исковеркав всю себя ночью до неузнаваемости…
Учащенно билось сердце Горина. Он страдал, слушая свою Наташку, такую любимую и такую незаменимую, но сейчас почему-то непонятную. Непонятную в такое время, когда они так неожиданно и так невероятно встретились.
Бери, занимай её сердце и властвуй! Властвуй, как своим! Черпай из него любовь, чистую, горячую! Наслаждайся! Купайся! В её неиссякаемых чувствах!
Нет, Горин сейчас видел другое… Он её терял…
– Чего же ты ждешь? От жизни что хочешь взять?
– Наверное, Горин, вот эта встреча искупила все мои страдания за два года и за всю свою жизнь, такую счастливую и нелепую, такую возвышенную и развеянную по ветру. А почему?
Подняв голову, она смотрела на Горина, не отрываясь, и видела его прежним, каким он был до разлуки. С её дрожащих ресниц вот-вот готова была скатится слеза. Она её спрятала.
А Горин стоял и думал, что, в сущности вот эта женщина, без которой ему до этой встречи, казалось, можно было обойтись и без которой он действительно обходился, она, эта женщина, была причиной его одиночества, потому что стоило приблизить к себе другую, как она тут же начинала раздражать его либо тем, что никак не напоминала Наташку, к чему привык за долгие годы, либо, напоминая одним, не могла дать остального. Нет, её он не вспоминал денно и нощно, но именно рядом с другими она возникала со всем тем, что так необходимо было ему, удаляя этим самым других, может, и интересных женщин.
Стараясь понять состояние Горина, Наталья Николаевна в то же время думала о своем, наболевшем, чего еще вчера не посмела бы высказать человеку, который был многие годы для нее дороже жизни. Ей до этой встречи казалось, что она свою боль и тоску унесет в могилу, навсегда, на века.
И она заговорила.
– Пусть, Горин, я тебе была не нужна: во что-то не вписывалась, чему-то не соответствовала, но здесь, в Москве, есть умные и порядочные женщины, достойные тебя. Не понимаю, почему ты до сих пор один? Не понимаю! – Наталья заволновалась. – И не хочу понять! Просто не могу! Ты достоин по всем твоим данным лучшей женщины Москвы, но ты почему-то без этой женщины. Ты всё твердил мне: «Работа! Работа!» Ну, хорошо, Горин! Тогда скажи: во имя чего твоя работа? Во имя будущего? Но где оно, если у тебя нет настоящего?
Снова дрогнули уголки его губ и по лицу прошла заметная тень боли. А Наталья продолжала:
– Не все так просто, как сейчас кажется. И тебе, и мне… Чем будем завершать нашу жизнь?
Вадим Сергеевич бодро, деланно, будто очнувшись, поднял руку и глянул на часы.
– У тебя, Горин, всю жизнь на первом месте стоял вопрос: работа и достижение цели, а я в это время оставалась в твоей тени, тобой недолюбленная и не разгаданная. А когда тебе было меня разгадывать да любить без остатка? У тебя одно не позволено, а другое – бестактно, а жизнь-то бежала и бежала от тебя… И часть этой жизни, самой яркой, самой звучной, уже не догнать…
Выслушав её горькие упреки, Горин, нет, не защищался, а развивал мысль Наташи дальше, вовсе не желая оградить себя.
– Знаешь, Ёжик, у каждого человека должен быть тормоз. Он-то и не позволяет переступить черту к вседозволенности. Человек не должен никогда сойти с широкой дороги чести, даже под благовидным предлогом, что цель оправдывает средства. К благородной цели всегда можно прийти лишь честным путем. А если нельзя это сделать честно, значит, и цель не достойна доброго слова. Это святая истина, Наташка!
Горин каким-то чувством понял, что Наташа сейчас все его слова и фразы будет непременно примерять на себя, и, чтобы этого не случилось (а он очень хотел для неё покоя), сказал для завершения неразрешимого для такой короткой встречи вопроса.
– Ничего на свете, даже сама жизнь, не стоит того, чтобы её украшать похвалой и почестями, ценою малейшего ущерба для своего достоинства.
Чуткое сердце Наташи дрогнуло: опять достоинство, честь, обязанность! Она сама эти понятия знает не хуже Горина, и она, кстати, никогда еще не поступилась своей честью, а что любила его, Горина, больше жизни своей и белого света, не её в этом вина. Боролась с собой, как могла, топтала эту самую любовь, сжигавшую её ежечасно дотла, до головешки, но она еще больше сверкала, будто тысячи солнц.
– Совесть всегда должна быть с молоточком: и постукивает, где надо, и погрюкивает, чтобы о ней не забыли… – Наташа снова тронула выбившейся из-под шапочки роскошный локон золотистых волос. – Вадим, а, Вадим! Время уже!
Гарин снова взглянул на часы. Лицо его помрачнело..
– Ну, Ёжик! У меня последний поезд… – И, отвечая на её удивленный взгляд, заметил: – Да, время бежит быстро. Давай я тебя провожу несколько метров.
– Нет, нет! Ни к чему всё это! Ты беги!
– Я не хочу оставить тебя, маленькую и такую беззащитную, в этом огромном городе.
Они спешно вышли из здания вокзала. Ветер усилился: он то хороводил снежинками, закручиваясь в спираль, то сеял мелкой крупой, а то хлестал прохожих сплошной сыростью, которую и дождем-то назвать нельзя было.
Вадим Сергеевич и Наталья Николаевна шли молча. Через несколько минут они снова разъедутся по своим углам, каждый в свою жизнь, неведомую другому, а где-то из глубины их жизни поднималось их прошлое, слитое воедино, придавленное пластом времени и непреодолимых обстоятельств того же прошлого.
К РОДИТЕЛЬСКОМУ ДОМУ
Почти на ходу Вадим Сергеевич вскочил в пустой вагон, в черных проемах окон которого, как в зеркале, отсвечивалось его содержимое: ряды кресел, три пассажира, он сам – и больше никого! Казалось, что там, за пределами этих стен, – сплошная пустота: ни леса, ни ветра, ни снега. Нигде ничего вокруг не было, так он сам был одинок.
Там, за холодными окнами, в снежной круговерти, осталась его Наташка.
«Странно, – думал он, плотнее кутаясь в воротник пальто. -Странно, что я посадил её, свою единственную на целом белом свете женщину, не в этот поезд, где я сижу, где я смог бы её обнять и защитить от непогоды, от одиночества, от двухлетнего молчания, а в троллейбус, в маленький троллейбус, в котором она сейчас едет не с ним, Гориным, а с чужими ей людьми, отдаляясь от него всё дальше и дальше. В то же самое время и он едет с незнакомыми пассажирами и тоже с каждой минутой удаляется от нее, такой желанной и любимой. Как он допустил всё это?! Почему сейчас её нет здесь? И снова виноват в этом он, Вадим Горин. Только он один до сих пор вершит судьбу Наташи. Сколько же она натерпелась от его передышек? А сколько его необъяснимых взрывов и молчанок?
Вспомнилось её письмо, первое после их разлуки:
«Милый! Родной мой! Кажется, разрезали меня пополам, и из каждой клеточки сочится кровь. Кровь моя, живая… От этого боль невыносимая. Не знаю, что делать? Говорят, время лечит… Но сколько нужно времени, чтобы затянулся этот разрез на самом сердце? А если и затянется, то какой же рубец будет… Он не даст дышать… Он не позволит жить…»
«Затянулись, видно, все раны, – рассуждал Горин, разглядывая свои удлиненные пальцы, которые почему-то мелко дрожали. – А шрамы… А к шрамам можно привыкнуть. В том-то и штука, что любовь – живое чувство и, как всякое живое, прежде, чем умереть, находится в клинической смерти, когда её еще можно оживить… А потом? Потом необратимые процессы – и все попытки приводят к уродству души и тела. – Горин съежился от неожиданного вывода и, чтобы пальцы не дрожали, сжал их коленями. – Чтобы спасти наши чувства, я опоздал на целых несколько драматических лет… Это слишком большой срок».
«Поздно!» – почти вслух проговорил он, и сидящий напротив пассажир переспросил:
– Вы что-то сказали?
– Да нет! Просто говорю, что уже поздно.
– Да, поздновато, – поддержал разговор сосед. – Я тоже едва успел на этот поезд… – и дальнейший разговор тут же прекратил, увидев, что симпатичный пассажир смотрит не на него, а куда-то в пустоту.
Горин думал о своем. А кто-то другой, в нём, в Вадиме Сергеевиче, спорил:
«В конце-концов, мог бы пригласить Наталью просто в гости. Столько лет мечтал о близости с ней и в своё время не захотел этой возможностью воспользоваться…»
Другой же голос нашептывал:
«Да, да! Выпить по рюмочке ароматного вина… Потом заглянуть в самую глубину ее зеленых глаз и там… там утонуть на всю жизнь… А еще прижать её, такую незащищенную, такую нежную и целовать, целовать недоцелованную в своей несчастливой жизни до изнеможения…»
Горин не мог дальше додумывать ту картину их желанной встречи, которая могла бы случиться, будь он понастойчивей.
И он сник… Сник надолго, заставляя себя не думать о Наталье. Но мыслям не прикажешь, и они, разрывая его сердце, роились и роились, желая побольнее ударить по нервным клеткам.
Мерно постукивали колеса электрички на стыках, мелькали остановки – и в ночную пустоту распахивались двери, из которых никто не выходил.
Примостившись полулёжа, втянув голову в воротник пальто, Горин прекратил собственные дебаты, закрыл глаза, но от этого мысли не улетучились, а только приобрели ясную образность.
«Восемнадцать лет прошло с того дня, когда он, Горин, впервые увидел её, Наташку Гаврилову. Восемнадцать!.. Целая жизнь, – думал он, изредка облизывая начавшие гореть губы. – Из них – двенадцать прожито рядом, глаза в глаза, во взаимной неистовой любви, за рабочими столами напротив друг друга, по восемь часов в сутки, а то и больше. Двенадцать лет не вместе, а рядом, не познав друг друга в постели… «Не бывает такого!» – кто-то скажет. «Бывает! Еще как бывает!» – ответил бы каждому сомневающемуся Горин, испытавший всё на себе.
Я видел, – продолжал он свою горькую думу, как её чистые и не замутненные ничем и никем глаза часто затягивались пеленой недоверия, затравленной настороженности, пока не тонули в пучине грусти, не проходящей даже во время её самого искреннего смеха.. А она смеялась очень редко: жизнь не позволяла…»
Наташа возникала перед ним то совершенно иной, девятнадцатилетней, то в расцвете мягкой, манящей красоты, то видел её в день его отъезда в Москву. Сколько грусти, рвущей сердце, было в её глазах! Сколько борьбы, нечеловеческой, неземной! Он, Горин, это видел… И он, Горин, тоже страдал…
Вспомнилось, как перед последним экзаменом зимней сессии на 4-м курсе пришло письмо от матери, определившее всю его жизнь и всё, что в ней было потом.
«Вадик, сынок! Не знаю, с чего начать свой разговор, но выхода нет. Поподумала я и слёз сколько пролила, а придумать так ничего и не сумела. Отец наш последний год шибко хворать стал. Пуля у него в лёгком, говорит он, шевелится. Почти не работает. А што мы без него? Я со своими ногами не работник. Юра совсем еще несмышленыш. Одна надёжа на тебя.
Сыночек мой, ты уж прости, но, может, ты будешь учиться заочно, как Сашка Громов? У нас, говорят, завод будет большой, там, где были мастерские и сейчас туда людей берут. Ты узнай в своем институте. Может, можно тебе здесь доучиться…»
Приехал на каникулы, оказалось – навсегда. Только звякнула щеколда калитки, вышла мать, едва передвигая свои распухшие со вздутыми венами ноги; вихрем налетел десятилетний Юра, схватил руками за шею и повис на нём, обхватив талию ногами. А на веранде уже стучал ногой-костяшкой отец и добродушно ворчал:
– Ишь, старая, чего придумала, пока я в больнице лежал? Парня с учебы сорвать. Ты что? Меня уже хоронить собралась? Ну, болел… С кем не бывает! Пошевелилась там пулька клятая, затихнет. А ты вот что, Вадька, и не смей делать всё, как мать говорит. Что это за учеба, когда работать надо? Помогать шибко мы тебе не сможем, ты уж сам как-нибудь, а мать и сына я еще в состоянии прокормить.
– Хорошо, хорошо, папа. Так и будет, как ты советуешь, – ответил Вадим, целуя по очереди всех своих родных. – А как у тебя дела, братуха?
– Всё хорошо. В школе одни пятерки. Только вот… – и пошел выкладывать все свои ребячьи жизненные неувязки.
Вадим почесал затылок, не в силах ответить на все возникшие дома вопросы.
– Ладно. Разберемся. Вникнем во все твои проблемы.
Вадим видел, что отец просто хорохорится и старается в его присутствии прибодриться. Вид у него был неважный: синюшного цвета кожа обтягивала выпирающие скулы, глаза под набухшими веками… Бессонница, наверное, измучила их.
Вадим решил окончательно: жизнь свою надо перестраивать! И не раздумывая более ни дня, ни часа – решил вернуться к родителям.
Поехал в Москву, забрал документы и перевелся на заочное обучение в свой областной город.
ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА
Машинно-строительный завод гудел людскими голосами. Их было множество: мужские, женские, совсем юные, голоса движков, моторов – всё смешалось в пестрой разноголосице.
Конструкторский отдел, куда взяли Горина, насчитывал всего шесть человек. Начальником отдела был тот самый Сашка Громов, о котором ему писала мать и который действительно в этом году должен был уже защитить кандидатскую диссертацию. Он же был и самым старым по возрасту. Остальные же были ровесники Горина и даже помоложе него.
Горин пришел на работу чуть раньше назначенного времени. Огляделся вокруг, присмотрелся. Ничего! Понравилось! Атмосфера почти та же, что и в студенческой группе.
Веселые и дружные ребята приняли его добродушно, и контрастных наблюдений у Горина коллектив не вызывал. Чем-то симпатичен был ему Юра Синицын, с коротко остриженной круглой головой и темно-карими блестящими глазами. По отдельным репликам и фразам понял, что здесь есть еще и седьмой человек – девушка-калькировщица, которая в это время была в декретном отпуске и должна была вот-вот родить. Говорили о ней так часто и так подробно, что у Горина даже возник её удивительно красивый образ, хотя речь велась о беременной женщине.
Отживал свои дни не очень-то теплый весенний месяц. Наступила пора облагораживать небольшой клочок земли возле заводоуправления. Накануне был объявлен воскресник. Задание было вполне конкретное: вскопать утоптанный заводчанами грунт, обновив клумбы, и посеять цветы. Чтобы сохранить для отдыха воскресенье, конструкторский отдел решил выполнить эту работу после трудового дня.
Приятно было после восьмичасового рабочего дня в маленькой комнатушке оказаться на улице под ласковым апрельским солнцем, размять мускулы и свое молодое, требующее движений тело. Копали, сгребали, толкались и шумели.
Вдруг почти у своего уха Горин услышал восторженный возглас:
– Наташка! Привет! Как дела? Куда топаешь?
Работа тут же остановилась. Все выпрямились, наперебой выкрикивая свои радостные приветствия, подняв лопаты и грабли над головой.
Горин увидел женщину. Она шла к ним по тротуару… Нет, не шла, а гордо выплывала откуда-то из неведомого края, как показалось ему, неся под просторным синим в белый горошек платьем свой большой округлый живот. Вздернутый маленький носик, поднятая головка в крупных светло-русых локонах, которые волнами сбегали по её прямой спине и в которых плескалось солнце, подсвечивая их изнутри и играя бликами в каждой волосинке.
Горин чуть не ахнул. Он понял, что это и есть та Наташка, о которой так много говорили ему коллеги. И он напрягся. Да, она была именно такой, какой и раньше вообразил для себя он, Горин, с молодым и горячим сердцем. Да, Наташка была та и не та: в ней было столько таинственной женственности, столько величия и юной красоты, что Горину казалось, будто это не обыкновенная живая да еще беременная женщина, а великая тайна природы, сотворившая такую чистую и редкую красоту.
Сияли, как начищенные золотники, все ребята, встречая Наташку: всем хотелось быть замеченным ею, всем хотелось, чтобы она, светясь белоснежной улыбкой, постояла бы рядом.
Необъяснимый мир! Необъяснимый восторг в груди Горина! Отчего всё это? Отчего?! Не с этой ли первой встречи? Не с этого ли горячего, как огонь, взгляда началась его, Горина, любовь?! Первая и последняя! Настоящая и непререкаемая! Глубокая до самых краев; всколыхни – и прольется неудержимым потоком, сметая на своем пути всё: и законы, и препоны и всякие препятствия, окажись они на пути.
Потом это чудо повторилось, когда они всем «кубриком» прибежали к ней домой поздравить с рождением сына. Прибежали без предупреждения, накупив подарков, а она, богиня, с распущенными золотисто-русыми волосами, с блестящими от материнского счастья серо-зелеными глазами, которые излучали столько счастья, что его бы хватило на сто юных мам, как раз, искупав малыша и завернув в большое махровое полотенце, кормила его грудью, упругой и бархатной, с целебным материнским молоком.
Настежь распахнулась дверь – и шесть улыбающихся ребячьих физиономий в нерешительности застыли на пороге, не зная, как им поступить? С одной стороны, коль открыли дверь – надо заходить; с другой – Наташка с оголенной юной грудью и младенцем на руках.
Она в естественном порыве дернулась, чтобы прикрыться, но малыш так властно держал сосок своей мамы крупными и сильными губами, что Наташа поняла: отныне она сама себе не принадлежит, а смутившая её обнаженная грудь на какое-то время уже не её собственность, а сынишки. И хотя почти физически она ощутила какой-то странный и цепкий взгляд незнакомого ей парня, осталась сидеть ровно, не двигаясь и не дергаясь, чтобы не потревожить малыша…
…Раскачиваясь и едва замедляя ход на некоторых остановках, поезд шел мимо подмосковных лесов, вспугивая их тишину то ярким светом горящих глазниц, выхватывая из ночной тьмы отдельные стайки кустов и деревьев, то монотонным стуком колес, то скрипом старых вагонов. Вадиму Сергеевичу казалось, что поезд на всех парах несёт его мимо прожитой жизни со всеми ее остановками, поворотами и глазами памяти выхватывает из тьмы забвения мелкое и значительное, доброе и злое, печальное и радостное, – всё, из чего состояла его жизнь, вполовину уже сгоревшая и не принесшая ему по его же, Горина, вине ни счастья, ни славы.
ДОРОГА В ПЕЧАЛИ
Наталья Николаевна, проехав шесть остановок, вышла из троллейбуса и тихо, пряча глубоко в тайниках своего сердца свое волнение от встречи с Гориным, вошла в свой номер, который устроил ей её бывший коллега по работе, а ныне сотрудник одного из Министерств Павел Мартынов.
Время было позднее. Тихо раздевшись и, уговаривая себя успокоиться, ибо сердце неугомонно колотилось до сих пор, Наталья Николаевна сняла со спинки кровати полотенце, ощупью нашла мыло в тумбочке и пошла в ванную.. Открутила кран и стала во весь рост, разглядывая себя в большом, ярко освещенном зеркале.
«Странно! – думала она. – Очень странно! И что находят во мне мужчины, которым я по-прежнему нравлюсь? Вот морщинки возле губ и на лбу уже намечаются…»
Наталья Гаврилова была на этот раз не права, обманывая себя: из зеркала на нее смотрело красивое утонченное лицо молодой женщины с легким румянцем на щеках, блестели каким-то особенным блеском озорные серо-зеленые глаза, а золотисто-русые локоны снова ниспадали на её красивые оголенные плечи. И никакой не было причины у хозяйки этих всех женских прелестей быть собой недовольной!
Она была царицей из цариц! Зеркало врать никогда не будет!..
Запустила пальцы в густые волнистые волосы. Какая роскошь! Льются по плечам, словно волны с солнечным отливом. По-прежнему, густые, по-прежнему с ароматом душистой мяты.
«Эх, Горин, Горин! Мой самый-самый! Как же ты перевернул всю мою жизнь! Может, и прав, что оставил меня, может, действительно всё это лучше, чем если бы остались вместе… Кто знает?! Кто знает?! Но сам-то ты не живешь, а маешься одиноким. А я? Что я видела в этой жизни?.. Но и ты не видел… А почему? Кто виноват в этом?..»
Закинув копну волос за спину, Наталья включила воду. Она полилась шумно, горячей струей. Она не вздрогнула и даже не шевельнулась: все её мысли в это время были с человеком, который сейчас, в эти самые минуты, всё дальше и дальше отдалялся от неё, Натальи Гавриловой.
А мысли, путаясь и перебивая друг друга, вновь овладели ею.
«Горин, мой Горин! Ты подарил мне счастье чувствовать себя женщиной, самой счастливой и любимой. Как только я поверила в это и ринулась, сломя голову, за тобой, не разбирая дороги, не замечая вокруг никого и ничего, оказалось, что ничего уже не надо… Всё закончилось… Ты открыл для меня столько прекрасного, о чем даже и не подозревала. Открывал, открывал, и оно засверкало всеми красками радуги… Я сначала потянулась к нему, потом рванулась, но тут дверца и захлопнулась. И я словно проснулась, сжимая в ладонях пустоту и не веря ей… Сколько потом билась в эту дверь, не желая возвращаться в действительность, не признавая её… Сколько шишек набила!.. И что же в результате? А то, что случилось два года назад… Я не поняла ничего… Ты болел в какой-то тайне, ничего мне на сказав… Потом ты уехал, оставив меня..
И сегодня, пару часов назад, тоже уехал и тоже оставил меня, говорил, что родную и самую любимую, но оставил, впихнув в троллейбус, к чужим людям… А сам, такой родной и дорогой, остался за холодными окнами с поднятой рукой… Остался на какое время? На год, на два? А, может, навсегда?..
Я, Горин, не побегу за тобой не то что по первому зову, а и подумав… Нет! Не побегу! Хотя, по-прежнему, ты мой самый-самый на всю жизнь: самый главный, самый лучший и самый родной. В какой черной бездне оказалась я, когда закрылись те дверцы! И всё же, если стоит человеку родиться, то именно ради того, чтобы увидеть тот мир, который показал мне ты, хотя бы узнать о его существовании. Но как знать, что лучше: жить, ничего не ведая и удовлетворяться имеющимся, что есть на сегодняшний день, или мучиться неудовлетворенностью, не принимая малость, стремиться к большому, не достичь его, но знать, что есть, что существует иная жизнь, другие отношения?..
Что лучше? И чем была бы моя жизнь без тебя?..»
Горячая вода с напором била мощной струёй и, разбиваясь на мелкие брызги, стекала на пол. Наталья Николаевна спохватилась, чуть прикрутила кран, убрала волосы с лица и начала энергично умываться, чуть сильнее, чем положено, похлопывая ладонями по щекам и лбу, словно хотела выбить из головы эти разгоряченные и тревожные мысли, которые пару часов назад её не посещали и были глубоко спрятаны в тайниках её души. Казалось, спрятаны навсегда, но сегодня… Сегодня – такая встреча! Сегодня- он, Горин, и они оттуда выплеснулись фонтаном, перевернув в одночасье её жизнь наизнанку, и теперь навряд ли они оставят её в покое. Не оставят! Нет!..
Тихонько, на цыпочках, чтобы не разбудить соседок, зашла в комнату и в потемках расстелила кровать, сняла халат и нырнула под холодное одеяло с намерением уснуть.
За окном гулял осенний ветер, и деревья хлестали друг друга голыми, почерневшими от сырости ветками. Эта сырость и холод всегда мешали ей быстро уснуть, а тут вдруг такая встреча!.. Она долго ждала её, искала, думала о ней… Она уже устала ждать и сегодня, в вечерний слякотный день, не думала ни о Горине, ни о встрече. И вдруг она, встреча! За какие такие заслуги?! За что ей такая награда?!
Сейчас, согреваясь, пыталась снять душевное напряжение, силясь сосредоточиться на мыслях о тепле, о завтрашнем совещании, но ничего не получалось: мысли вновь и вновь возвращали её к Горину.









