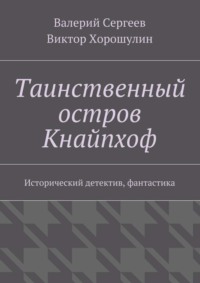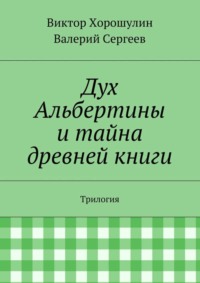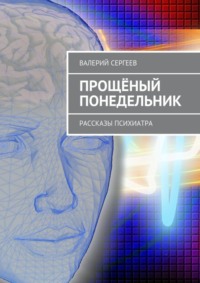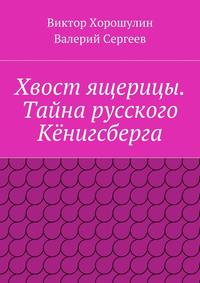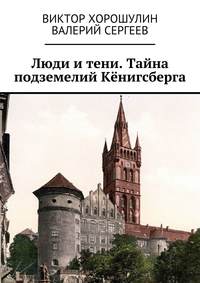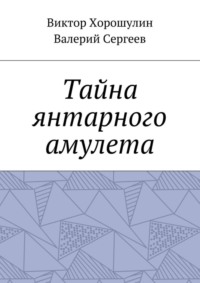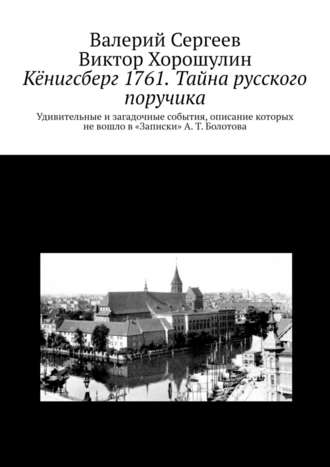
Полная версия
Кёнигсберг 1761. Тайна русского поручика
Всё началось с воинственной Пруссии, которая в августе 1756 года напала на Саксонию. Русская императрица Елизавета Петровна тут же объявила войну Фридриху. Тот, однако, времени не терял, саксонские земли присоединил к своим, а затем в 1757 годуразгромил австрийцев при Лейтене.
Тогда в дело вступила русская армия. Активные действия русские войска начали в том же 1757 году. Перейдя границу с Пруссией, они нанесли ей существенный уронв битве под Гросс-Егерсдорфом. Однако, вместо того, чтобы двигаться далее к Кёнигсбергу, командующий русской армией генерал Апраксин отдал приказ об отступлении. За это он был лишён звания и арестован.
Менялись военачальники русской армии: Фермор, Салтыков, Бутурлин. Но силу русского оружия Фридрих II испытал в полной мере. В августе 1758 года состоялось Цорндорфское сражение. Русские войска одержали победу, несмотря на большие потери.
В июле 1759 года у Пальцига русские войска разгромили прусскую армию.
В августе 1759 года состоялось Кунерсдорфское сражение, закончившееся полной победой русско-австрийских войск.
Наконец, в октябре 1760 года русские войска овладели Берлином, являвшимся тогда столицей Пруссии.
В настоящее же время русские войска не вели активных боевых действий, предоставив это право французам и австрийцам.
Здесь же, в Кёнигсберге, после трёх лет «покорения», Россия уже чувствовала себя заботливой хозяйкой. Повсеместно действовали трактиры, рынки, ремесленные мастерские, строились дома, чеканилась своя монета. В промышленных размерах добывались зверь, рыба и янтарь. В помощь генерал-губернатору, управляющему Восточной Пруссией, пришли местные чиновники, знающие и уважаемые люди. Работали Университет, храмы и кирхи, суды и биржи, госпитали и приюты для сирот и бедноты.
Прибывшие из России офицеры отмечали, что Кёнигсберг выстроен нисколько не хуже Москвы, поскольку здесь имеется множество красивых домов, памятников искусства и старины. Всего же зданий насчитывалось не менее четырёх тысяч, а жителей около сорока тысяч. И всё это, несмотря на то, что полвека назад здесь свирепствовала ужасная чума, унёсшая четверть населения города.
В будни Кёнигсберг казался торопливым ималолюдным, но, когда наступали ярмарочные дни, множество народу выходило на улицы и впечатление «нелюдности» тут же исчезало. Река Прегель, которая протекала через город, неширока, всего 25 саженей, зато так глубока, что большие купеческие суда следовали по ней прямо из моря. В окружности же город занимал приблизительно 15 вёрст.
В городе было разбито много больших и малых садов, парков и скверов, в которых охотно прогуливались местныежители. Здесь повсюду поражали своим великолепием старинные скульптуры и барельефы, прекрасно оформленные внутренние дворики жилых зданий, красивые, витые чугунные решётки и скамейки, цветочные клумбы. Болотов сам охотно любовался по весне такими видами из окна дома, и часто совершал прогулки, присматриваясь к гражданам. Ремесленники и торговцы, художники и учёные с удовольствием отдыхали на чистом воздухе после трудового дня. Горожанину незачем было выезжать за пределы столицы, чтобы побыть наедине с природой, деревья же значительно оздоровляли царящую в Кёнигсберге атмосферу «каменного мешка. »
В городе было множество кирх, чьи остроконечные крыши со шпилями, казалось, хотят проткнуть небо. А при виде огромного Кафедрального собора, расположившегося на острове Кнайпхоф, у поручика порой захватывало дух. Он неоднократно бывал в нём, осматривал древние доспехи и оружие, шлем герцога Альбрехта (17), боевые и трофейные знамёна. Порой они навевали ему странные мысли. Казалось, образы прошлых лет, духи воинов-рыцарей покидают свои склепы и выходят в наш мир, снисходительно посмеиваясь над сегодняшней безмятежной, тихой и спокойной жизнью, пропитанной мирным духом просвещения, а не войны.
Довелось Андрею Тимофеевичу тщательно обследовать и Королевский замок, расположенный на берегу Прегеля, на небольшом возвышении. Некогда могучая крепость превратилась в старинный дворец. Группа российских офицеров, в число которых входил и наш герой, с интересом осматривала цейхгауз и знаменитую Серебряную библиотеку, от которой сохранилось два десятка старинных фолиантов, окованных серебром. В Замке на них произвёл впечатление обширный Зал Московитов, названный так ещё герцогом Альбрехтом в честь московского посольства, останавливавшегося тут. В длину Зал достигал более 160 шагов, в ширину – 30. Свод его был сведён без столбов, в центре стоял старинный восьмиугольный стол, как узнал Болотов, ценою в 40 000 талеров.
Будучи приписанным к Архангелогородскому полку, Андрей Болотов, «осел» в канцелярии, ив боевых походах более не участвовал. Случалось, командир полка обращался с рапортами к высокому армейскому руководству с просьбой отпустить офицера из «штабистов» в полк, но тогдашний губернатор генерал Корф неуклонно ему отказывал, не желая расставаться с толковым переводчиком, коих в канцелярии катастрофическине хватало. И предусмотрительно делал запрос в Петербург о том, чтобы из столицы выслали в Кёнигсберг знатоков немецкого языка. А когда те приезжали, то губернатор проводил с ними довольно жёсткий экзамен, в результате которого, «забраковывал» присланных студентов. Последние продолжали обучение в Кёнигсбергском университете, ибо взять кого-либо из них на место Болотова в канцелярию, Корф просто не желал.
Болотов подружился со многими прибывшими из России студентами, а через них обрёл знакомства с профессурой Университета. Немногим позже Андрей Тимофеевич получил официальное разрешение начальника канцелярии на посещение лекций в Альбертине.
Как известно, и новый губернатор Кёнигсберга Василий Иванович Суворов, прибывший в Кёнигсберг в самом начале 1761 года, был расположен к Болотову, потому тоже старался удержать его «при себе».
СамАндрей Тимофеевич не только стремился к наукам, но был горазд и к работе руками. Он самолично смастерил «фонтанную галерею», состоящую из множества трубок и насоса, подающего воду в маленькие фонтаны. Эта игрушка немало забавляла как друзей Болотова, так и хозяев его дома. Один из фонтанов молодой поручик специально искривил так, чтобы струя воды, выбрасываемая им, летела в сторону. А поскольку вся конструкция располагалась у окна, то этот фонтан брызгал на улицу, на голову прохожим.
Кроме этого, Андрей Тимофеевич сконструировал собственный «прошпективический ящик». Как-то, во время прогулок по городу, его заинтересовала демонстрируемая жителям «камера-обскура» (18), заглядывая в которую, зрители могли созерцать необычную картину «в перспективе». Для подобного эффекта необходимо было иметь специальные линзы и, конечно, соответствующие картинки. Линзы он приобрёл у знакомого торговца, старика Генриха, частого гостя в кабачке «Усы сома», а картины нарисовал сам, благо, бумага и краски всегда были под рукой.
«Прошпективический ящик» получился на загляденье! Все без исключения зрители, а таковых оказалось немало, восторгались увиденным, к вящему удовольствию Болотова. Разумеется, более всего его интересовало мнение хозяйской дочери, и Марта с милой улыбкой заявила ему: «Это восхитительно, господин Андреас!» Но не более того…
Однако построенные Болотовым фонтаны и «прошпективический ящик», хоть и имели успех у зрителей, у самого него вызывали лишь добродушную усмешку. «Детские забавы», – говаривал он о своих конструкциях. – Вот если бы смастерить что-либо действительное стоящее, нужное и полезное людям! Да чтобы это изделие воплощало новейшие достижения науки!»
Поэтому больше всего Андрей Тимофеевич стремился в Университет, где можно было и восполнить знания, и обогатиться свежими идеями. Кёнигсбергская Альбертина славилась на всю Европу. Однако, эта известность не избавляла её от средневековой отсталости. До сих пор в Альбертине действовал университетский статут 1546 года, а также старая королевская привилегия 1560-го. Финансирование Университета осуществлялось плохо – от налогов с городского округа Фишхаузен (19) и пары «университетских» деревень. Жалование профессоров и доцентов было столь незначительно, что многие из них давали частные уроки. Недаром среди профессорского состава Альбертины бытовала поговорка: «Идущий в Кёнигсбергский университет дает обет бедности» (20). И всё же, здесь трудилось много достойныхучёных мужей, а уж об обилии студентов-буршей говорить не приходится. В те времена Академия всё ещё располагалась на острове Кнайпхоф, хотя ей давно уже пора было подыскивать более просторные помещения и более удобное местоположение.
Болотову, как, впрочем, другим русским студентам и офицерам, слушающим лекции сухощавого и сутулого приват-доцента Иммануила Канта по пиротехнике и фортификации, гораздо более интересно было внимать его рассуждениям, как философа. Идеи Канта, проскакивающие в сухих докладах, которые он читал тихим, бесцветным голосом, нередко оказывались подобны искрам, которые тотчас зажигали огонь дискуссий. Так, на одной из лекций была высказанамысль о том, что у человечества имеются всего два пути: вечный мир или вечный покой на кладбище. Это вызвало бурное обсуждение, к удовольствию самого приват-доцента, которому льстило внимание студентов к его научным размышлениям.
Так, в конце зимы, разгорячённый спором между русскими студентами, который разгорелся из очередной фразы Канта, Болотов решился подойти к нему лично.
Приват-доцент встретил его в своём кабинете. Был он невысок (152 см роста) ихудощав, носил аккуратный парик, одевался в серый сюртук. Казалось, внезапное появление молодого русского офицера не смутило и не удивило его.
– Имею честь засвидетельствовать своё личное почтение…, – произнёс Болотов, глядя в большие, светлые глаза Канта. Былая уверенность как-то слишком уж быстро покинула его, и причина, из-за которой он осмелился зайти в кабинет приват-доцента, тоже где-то затерялась.
– Присаживайтесь и будьте как дома, – пригласил философ. – Хотите кофе? Я сам люблю кофе, но предпочитаю чай. Своим же гостям я непременно предлагаю именно кофе.
– С удовольствием, – ответил Болотов, но же с грустью подумал: «Интересно, захочет ли он угостить меня чем-то, после нашего с ним разговора?..»
Кант сложил стопку из нескольких книг и оставил их на краю деревянного, видавшего виды, стола.
– Я слушаю вас. Вы ведь служите в канцелярии нашего губернатора. Приятно сознавать, что и военный человек проявляет интерес не только к своему непосредственному делу, но и желает больше узнать об окружающем мире…
Голос философа был тихим, но губы его дрогнули в улыбке. Он сам не спеша приготовил кофе гостю, который, наконец, набрался решимости.
–С раннего детства я страстно полюбил чтение, – начал Болотов. – Мною даже собрана немалая библиотека по краеведению, агрономии и ботанике, а также иным естественным наукам и философии. Пусть военная служба порой и затрудняет для меня живое общение с просвещёнными и умудрёнными опытом людьми, но, если я остаюсь один на один с книгой, то никогда не чувствую себя одиноким!
Брови над глазами его собеседника резко взметнулись вверх.
– Да, книга заставляет нас думать, переосмысливать и сочувствовать… Читать полезно в любое время дня или ночи. (21). Это дисциплинирует наш ум, обогащает его знаниями, стимулирует память и творческие способности. Серьёзное чтение – неторопливое и важное занятие, точнее заметить – труд. Но на каждый час чтения, должно приходиться не менее двух часов обдумывания, только тогда от него будет максимальный прок. Alit lectio ingenium
– Я всё прекрасно понимаю, уважаемый господин приват-доцент. Кроме того, и сам пытаюсь делать некоторые выводы, даже веду дневниковые записи, кои считаю существенными для последующей моей практической и хозяйственной деятельности. А, возможно, немаловажными и для потомков…
Кант понимающе кивнул головой.
Мне знакомо нетерпение молодости, господин офицер, жажда познаний, исследований и открытий.В ваши годы я сам был таким же кипучим, теперь же стал намного сдержанней в словах и желаниях. У меня появилось правило: сначала смотри на самого себя и внутрь себя, а лишь затем – вокруг себя! Тем не менее, любые непраздные размышления полезны. Правда, один глядит в окно и считает ворон, а у другого при этом в голове происходят удивительно важные и интересные процессы. Только вот не каждому дано положить их на бумагу: ведь исписать белый лист всё равно, что истоптать первый снег! Жалко и страшно… Не всем дано, но многим хочется донести до других людей свои мысли. Я не первый, кто считает, что творческие изыскания – самое большое наслаждение в жизни. Они сближают нас не с одним человеком, как, например, в любви, а сразу со многими. – Кант задумчиво взглянул в узкое окошко, единственный источник света, если не были зажжены свечи. – По моемумнению, хорошо писать так же непросто, как печь добрый хлеб: тяжело и хлопотно, но нужно и крайне важно – ведь всё это даёт кому-то силы, поддерживает и питает чью-то душу. Однако, если отнестись к данному занятию недобросовестно, то можно отравить своего читателя или, в лучшем случае, вызвать несварение… Да и сам писатель похож на пекаря: он замешивает память с воображением, раскатывает тесто сюжетов, а потом лепит из него хлеба по своему образу и подобию… –
Болотов начал чувствовать себя увереннее.
Вот вы, господин приват-доцент, насколько мне известно, все свои силы отдаёте служению науке. Но человек должен понимать, для чего он так много трудится. Грандиозные идеи, это – очень хорошо. Но как же маленькие мелочи, которые так радуют и улучшают настроение? Ведь необходимо помнить и об отдыхе, чтобы не подорвать здоровье и не остаться вовсе без средств. Тем более, в здоровом теле – здоровый дух. –
– Начитались Гофмана! – усмехнулся Кант. – А покой в душе, несомненно, зависит от порядка в голове! Ничто земное, мой друг, мне не чуждо, и, поверьте, я умею радоваться жизни. Правда, во главу угла всегда ставлю самодисциплину и неукоснительное соблюдение распорядка дня. Иначе невозможно достигнуть намеченной цели: (22). Ad augusta per angusta
– Ваши слова следует начертать на стенах университета, – промолвил молодой офицер, —а то в нашем гарнизоне большинство вольных слушателей только стенают об упущенном времени, как будто их постоянно отрывают от чего-то исключительно важного, а сами с чрезвычайной леностью относятся к своей службе и досугу. Ваш пример величайшей собранности станет для них весьма поучителен…
– Прошу вас, угощайтесь кофе, – Кант широко улыбнулся, протягивая русскому офицеру изящную чашку. – Но вы напрасно считаете, что выдающиеся идеи рождаются только благодаря способности максимально сосредоточиться. На деле нередко оказывается, что и при отвлечении внимания может произойти озарение – прорыв, необходимый для поиска правильного решения. Когда вы утомлены и вряд ли способны мыслить ясно, в голове чаще всего рождаются новые идеи… Нечто подобное происходит у меня, порой, и во сне…
Андрей Тимофеевич пригубил ароматный напиток и изящнымкивком головы выразил восхищение его вкусом.
– У каждого человека есть яркие или необычные случаи в жизни, которые научили его многому, причём, гораздо крепче и основательнее, чем книги или лекции. Дело в том, что эти конкретные примеры окрашены его собственными переживаниями и размышлениями. Именно из таких эпизодов, бесчисленных бесед и раздумий, из отдельных наблюдений, ошибок и удач складывается индивидуальный опыт – главное богатство всякого учёного человека. Так было и так будет всегда. Вы согласны со мной?
– Конечно,—согласился учёный.– Но тольколюбые наши выводы, обобщения и предположения являются всего лишь гипотезами, которые подкреплены определенным набором фактов. Наилучшей является та теория, которую подтверждает большинство фактов. Но даже и такое мнение никогда не является окончательным, и не заслуживает безусловной веры: вероятность не есть очевидность. Даже перед самой внушительной научной статьей следует снять шляпу, но никак не голову. Единственной защитой от ошибок является здравый смысл. Но полностью избежать казусов в наших рассуждениях невозможно, поскольку изыскания и последующие умозаключения делают люди, а человек, как известно, слаб. К тому же причиной неправильного вывода может оказаться не только логическая погрешность, но и более земная причина… Ведь исследователем порой движет не только похвальное и естественное человеческое любопытство. У него может быть ещё какой-то дополнительный, посторонний мотив, например, обида, зависть или алчность. Эти противоположные интересы могут вступать в конфликт друг с другом, и тогда результат будет зависеть уже не обязательно от того, как обстоит дело в действительности, а того, чего хочет данный исследователь. Но даже в тех случаях, когда созерцатели руководствуются исключительно чистыми и честными интересами – познать истину и принести пользу людям, полученные по всем правилам доказательной науки результаты, могут вводить нас в заблуждение. Также не стоит забывать о роли провидения и влиянии некоторых всеобщих метафизических законов природы…
– Что вы имеете в виду? – оживился Болотов.
– Наш рассудок обычно сам же и предписывает природе её законы. Дело в том, что мир познается нами только в своих являемых формах, которые суть построения нашей умственной деятельности. Помимо нашего представления они вовсе не существуют. За явлениями, доступными опыту, находится мир предметов «самих в себе», познать который мы не в состоянии. А мы имеем дело только с нашими представлениями, лишь являющимися нам как объекты. Но образ и понятие – это совершенно разные вещи. Пространство и время, которые мы также воспринимаем в опыте, субъективны, то есть они – наши суждения и не существуют сами по себе. Так что всё без исключения, даже самих себя, мы знаем лишь как явления, а не как «вещь в себе»… На данную тему я могу говорить сколь угодно долго, но тогда у нас получится не дружеская беседа, а скучная лекция.
– Действительно, – Болотов непроизвольно почесал затылок, – сказанное вами требует некоторого осмысления… Быть может, мы прежде обсудим вопросы, более соответствующие моему складу ума и уровню знаний? – засмущался он.
В глазах Канта сверкнула весёлая искорка.
– Вы верно слышали расхожую фразу: «кто чего боится, то с ним и случается». Это – закон притяжения, означенный ещё в неимоверной временной дали мудрым Гермесом Трисмегистом на изумрудных скрижалях. Я согласен с ним в том, что, думая о чём-то постоянно, мы посылаем сигналы во Вселенную, на которые она реагирует, притягивая к нам то, о чём мы мыслим. Чтобы привлечь в свою жизнь желаемое, необходимо сосредоточиться именно на этом, а не на том чего вы не хотите. Вы замечали, что чем больше какой-то человек плачется – тем больше имеет того, на что он жалуется. И чем сильнее и ярче его чувства, тем быстрее всё происходит в его жизни! Подобное притягивает подобное. Кто много говорит о болезнях – тот их и получает. А кто размышляет о благоденствии – тот и живёт в процветании. Каждый из нас должен осознать, что всё, что у него сейчас есть – это результат того, что он сам к себе сознательно или подсознательно притянул. В том числе и все те вещи, на которые он сетует. Мы всегда получаем то, о чём думаем, а верим в это, или нет – совершенно не важно. В каждом из нас заключена бесконечная сила Вселенной, и она действует по своим законам и правилам…
Эта короткая беседа многое дала Болотову. Являясь приверженцем Веймана, считающегося противником Канта, он много переосмыслил в своей позиции по отношению к последнему. И стал задумываться: почему там, в России образованные людитак далеки от философских страстей?
Глава 3. Размышления об электричестве
Большинство русских студентов, которые обучались в Альбертине, предпочли факультет философии. Но, помимо самой философии, здесь немало внимания уделяли и естественным наукам. В «царстве» метафизики, нашлось немного места и самой физике.
Под изучение физики в Альбертине было выделено несколько небольших помещений с окнами на Прегель, который нёс свои воды тут же, под стенами Университета.
Никита Богомольцев, один из петербургских студентов, смышлёный парень гренадёрского телосложения с густой шевелюрой, с удовольствием посещал лекции по физике, которые читал приват-доцент Михель Коль. А поскольку Никита приятельствовал с Болотовым, то и Андрею Тимофеевичу оннемало рассказывал о последних достижениях этой науки.
– Ты, Андрей, большой выдумщик и мастер на все руки, – как-то в трактире «Усы сома», куда приятели заглянули на «вечернюю кружку пива», поведал Никита. – У тебя полным-полно всяческих хитроумных приспособлений и инструментов. Видел я твои фонтаны и «прошпективический ящик» … А сможешь ли ты построить электрическую машину?
– А это что за штуковина? – удивился Болотов, сразу отметив про себя, что идея очень неожиданная. – Неужели, та самая, что производит электричество? Но зачем она тебе?
– О-о, – хитро усмехнулся Богомольцев, отхлёбывая тёмное альтштадское пиво с белой пеной. – Умные люди с его помощью творят чудеса! Но это – только начало! Чем больше наука будет уделять внимания этому феномену, тем больше нужных и полезных вещей придумает человечество!
– Скажи на милость, – Болотову было неловко признаться, что об электричестве он знает лишь понаслышке. Мол, существует такое явление, но оно пока мало изучено… – И о чём вам рассказывают университетские светила?
– Если ты закажешь мне жареных колбасок и ещё одну кружку пива, то, так и быть, поведаю! – притворно важничая, заявил Богомольцев.
Болотов подозвал кельнера, пожилого мужчину в чистом сюртуке и белой салфеткой на руке, и сделал ему заказ.
– Вот, теперь я вижу, что ты не на шутку заинтересовался! – весело воскликнул Никита, потирая руки.
– По правде говоря, – ответил Андрей Тимофеевич, – я ожидаю услышать от тебя нечто действительно стоящее… Я и сам давно хочу сконструировать что-то подобное. Но не для увеселения публики, разумеется, а для определённой пользы людям.
Нынешним вечером народу в трактире собралось порядочно. Шумные разговоры иногда перекрывались звуками скрипки – юные исполнители, брат и сестра Апфель – Георг и Элиза, как обычно, услаждали слух посетителей своей музыкой.
Когда тарелка с дымящимися колбасками появилась перед Богомольцевым, а рядом с нею возник редут из трёх кружек с пивом, студент не смог сдержать радостных эмоций:
– Всё! Теперь я – твой! Спрашивай о чём угодно!
И поведал переводчику канцелярии губернатора Восточной Пруссии об удивительных вещах (о некоторых, впрочем, тот уже слыхивал, но большей частью речь шла о том, что для него на данный момент оставалось тайной).
Первооткрывателем электричества считается древнегреческий философ Фалес. Задолго до Рождества Христова он заметил, что янтарь, по-гречески – «электрон», если его потереть о ладонь, притягивает к себе волосы и легкие материалы, например, пушинки идревесную стружку. Долгое время люди только наблюдали за этими явлениями, да удивлялись наличию искр в шерсти кошек.
Но почти два столетия назад английский физик и придворный врач королевы Елизаветы, Уильям Гильберт (23), с помощью хитроумного «версора» показал, что способностью притягивать соломинки обладают также алмаз, сапфир, карборунд, опал, аметист, горный хрустать и сланцы, которые он назвал «электрическими» минералами. Кроме того, он установил, что магнит всегда имеет два полюса – северный и южный. Одноимённые полюса отталкиваются, а разноимённые притягиваются. Однако, распиливая магнит, нельзя получить вещицу только с одним полюсом. Гильберт также подметил, что пламя уничтожает электрические свойства тел, приобретённые ими при трении, а все железные предметы, под влиянием магнита, приобретают схожие свойства, поэтому природный магнетизм можно усилить с помощью железной арматуры.
В прошлом веке наблюдения Фалеса и Гильберта были уже подробно изучены некоторыми учёными. А немецкий физик Отто фон Герике (24) создал первый в мире электроприбор. Его работа была опубликована в 1672 году. В ней он описал своё изобретение. Электрическая машина представляла собой большой шар, изготовленный из серы, закреплённый на железной оси. Герике, вращая шар вокруг оси, наэлектризовывал его ладонью руки. Позже другие учёные заменили шар стеклянной трубкой, вращающейся с помощью педального механизма. Эта трубка натиралась уже не ладонями, а кожаными подушечками, отделанными конским волосом. С помощью проводящих столбиков эти подушечки соединялись с землёй. А ещё позже, уже в наше время трубка была заменена более удобным стеклянным диском.
– Теперь мы знаем, – увлечённо говорил Никита, – что некоторые материалы, например, металл и вода, по отношению к электричеству являются проводниками, а другие, например, стекло, – непроводниками.
Болотов, забыв про пиво, внимательно его слушал.
– Пятнадцать лет назад, – продолжал Богомольцев, – был изобретён аппарат, способный накапливать электричество! Это – так называемая «лейденская банка», соорудили её двое учёных независимо друг от друга. Это голландец Питер ван Мушенбрук со своим учеником Кюнеусом, и немецкий физик Эвальд Георг фон Клейст. Кстати, последний своё изобретение назвал «медицинской банкой»!