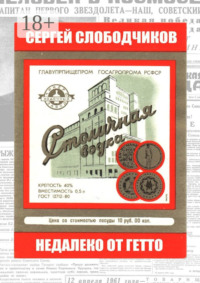Полная версия
Все пророки лгут
Любовь – это большая слабость, ведь надавить на человека можно лишь через то, что вызывает у него большие эмоции. Припугни зека расправой над его любимым чадом, вот и станет он ласков с тобой и обходителен. Все что ценно тебе, береги пуще глаза, никому не рассказывай, люби молча. Он этот урок отлично выучил еще в Матвеевке, когда пускали по рукам понравившуюся ему девочку.
Девку же, бросившую ребенка, Майорка нашел быстро. Она поселилась в какой-то обезлюдевшей, разоренной деревне, коих на дальнем востоке в 90-е годы возникла тьма. Она там успела сесть на шею какому-то «колхознику», с которым быстро и безостановочно спивалась. Чтобы понять ее поступок, нужно принять и тот факт, что времена меняют нравы. Женщина та была детдомовской, в чем и состояла ирония. На словах она, конечно, беспокоилась за ребенка, подражая общечеловеческой морали, но всегда находила себе какие-то оправдания для своего поступка. Да так находила, что иной слушатель начинал жалеть не ребенка, а ее.
Поскольку она знала тайну Майорки, он ее убил, пощадив, однако, ее мужика, который все равно не разбирался в происходящем. Изначально он не планировал убийства, лишь хотел убедиться, что тайна его останется тайной, но глупая пьяная баба стала над ним смеяться и шантажировать. Вспомнив все свои женские обиды, она, не думая, решила проявить свою женскую власть. Майорка хотел ее попугать, достав нож, и, как это часто бывает, она не испугалась, а лишь подзадоривала его. «Достал – значит, бей» – прошептал он себе под нос и с большим сожалением пошел на мокрое дело. Нож легко вошел в мягкое тело, но с трудом из него вышел, как будто тело не желало отдавать металл, жадно обжимая холодное лезвие. Руки его затряслись. Одно дело в драке и мужика, другое дело пьяную, глупую бабу. Но выпив стакан водки с трясущимся от страха «колхозником», он быстро пришел в себя. Если состояние Майорки вскоре пришло в норму, то «колхозник» еще долго дрожал, ощущая убийцей себя, а не бывшего хахаля мертвой подруги. В то же время он ощущал себя убитым, перед его глазами стояла картина воткнутого по рукоятку ножа, и он чувствовал медный привкус крови, как будто это его тело получило урон. Бандит приказал ему бабу утопить в проруби и помалкивать. Конечно, он знал, что этот алкаш не сможет долго молчать, потому нож пришлось хорошо вымыть, затем отдать его мужику, дабы тот отрезал кусочек огурца для того, чтобы закусить водку. Этот нелепый поступок на самом деле был весьма прагматичен и продуман. Закусив, Майорка надел на руку пакет, взял нож и вышел из избы. Позже он выкинет его в деревне на видном месте.
В душе вора Майорки удивительным образом добро пересеклось со злом, он оставался свирепым, хитрым уголовником, и вместе с тем нежным отцом. Если вам удавалось увидеть хоть раз, как волк играет с волчатами, вы поймете, что аналогия очень точная, хотя и поверхностная.
Однако о его слабости вскоре узнали враги.
Милиция, чтобы выжить в то время, вынуждена была содействовать с группировками, а часто и вовсе чуть ли не напрямую подчинялась бандитским кланам, коих было совсем немного. Все бандитские кланы в той или иной степени были частями одной машины, одной системы, центр которой находился в Комсомольске-На-Амуре. Запад России, погруженный в свои проблемы, связанные с развалом страны, не мог помочь периферии, структура государственной безопасности перестала существовать, а новая не успела образоваться. Все это привело к тому, что бандиты всех мастей и расцветок стали получать от милиции множество секретной информации.
И милиция усердно капала на бандитов, чтобы по тем или иным причинам слить ее другим бандитам. Не надо думать, будто воровская стая сплоченная, крепкая и дружная, ей не чужды законы конкуренции. Тут есть свои внутренние разборки и конфликты. Тут так же делают карьеру и идут по головам. Притворно пожимают руку и радуются неудачам ближнего. Любая конструкция стремится к хаосу и инволюции.
Благодаря милицейской наколке кое-кто из воров узнал о дочке Майорки. Эта информация в умелых руках была хорошим рычагом.
И повод применить эту информацию как оружие вскоре нашелся. Когда настало время отправлять очередную порцию денег на общак, вдруг выяснилась большая недостача. А за такое могли полететь головы многих людей, а то и вовсе разразиться бандитская война. Подобные инциденты уже случались, когда один приближенный к общаку человек вложил часть денег в пирамиду и потерял их. Сумма недостачи была внушительная, и вскоре стало ясно, что так просто это дело не замять. Те, кто крал с общака, быстро поняли, что если не найти подставное лицо, им не отвертеться. Необходимо было подставить одно из колен механизма, а Майорка как раз занимался сбором средств на общак в очень доходном месте, на городском рынке подле дома профсоюзов, кроме того, Майорка не умел считать, грубо говоря, он был неграмотным, хотя и скрывал это, потому на него и решили повесить долг. Тут надо сказать, что неграмотность – явление отнюдь не редкое в наше время, как кажется; деревенский парень, попавший смолоду в тюрьму, естественно, мало задумывался о школе. Тем более, что такие вещи, как институт и высшее образование были еще не в моде. Еще жило в народе отвращение к интеллигентности и образованности. Такая социальная схема, как школа, институт, работа только начала зарождаться. Еще существовали фазанки и училища при заводах, вот они-то и были в моде. Пусть вор с трудом читал и считал, но у Майорки был и большой плюс, он жил по воровскому кодексу и это все знали, а значит подставить его будет не так просто. Вот тут и пригодилась информация о его любимой дочке.
Сначала почти ласково, по-братски провели они с ним несколько бесед, в ходе которых как бы ненавязчиво намекали, что он зажал определенную сумму денег, но хитрый Майорка сразу понял, куда они ведут, и сказал, что он все приходы и уходы денег записывает, есть документы и в нужный момент он сможет дать маляву в Комсомольск. Эти слова не понравились ворам, и все последующие беседы проходили во все более напряженной обстановке. Кто-то сделал лживый донос, кто-то подтвердил его, и в очередной раз судьба отвернулась от вора. А чтобы он не смог оправдаться, ему начали угрожать расправой над его дочкой. И тот факт, что он скрывал ото всех наличие семьи, тоже негативно отразился на его воровской карьере. Хотя всем плевать, но все равно скажут, что не по понятиям, что если врал про дочь, то соврет и про деньги.
Неудивительно, что матерый вор снова полез в бутылку, стал более угрюмым и осторожным, часто срывался на близких, легко заводился, плохо спал. Его друзья по-тихому называли его параноидом, шутили о поехавшей крыше, и все как один старались держаться от него подальше. А он не мог никому рассказать о своих проблемах, о своем горе. Нужно было прятать своего ангелочка, спрятать дочь, но за ее квартирой установили слежку, и он это знал. Круг возле него сужался, он чувствовал, что на него началась охота. И его не тревожило предательство, он привык к нему, не было обиды на корешей, на тех, с кем когда-то братался, с кем выпивал. Он был способен предать любого из них точно так же. Ради денег, ради положения и авторитета, из страха, и даже ради упавшего с дерева листочка. Предать в честь трехсот лет граненому стакану. Его брала злоба на собственное бессилие, которое еще больше выводило его из себя по причине его силы. Он не считал себя слабым. Он привык, что с ним считаются. Но был и еще один фактор, еще одна мысль, которая унижала его. Ведь он сам не раз влезал в интриги и аферы, чтобы с корешами кидать лохов, и вот его нарочито записывают в лохи. И не надо думать, будто ему легко было собрать братву и начать открытую войну, он вдруг осознал, что неожиданно у него не осталось сторонников. Даже те, кто знал правду, не хотели впутываться, а другим же было весьма удобно его подставить. Так даже среди сильных бывают слабые, и он им нежданно оказался. Из него все согласовано и сговорившись делали козла отпущения. Дело тут было не в том, что он попал в немилость к кому-то, просто сумма была велика и соблазнительна.
Чтобы разрешить конфликт, достаточно было отдать ворам документы о приходе и уходе денег, но без них он уже не сможет доказать свою невиновность и воровской мир наверняка его накажет за крысятничество. Его помощник, который калякал бухгалтерию, повесился у себя дома. Майорка понимал, что его убили. Но все выходило очень складно, скажут, что сам Майорка и заделал жмура, дабы замести следы.
Воры любят ходить в церковь, туда же стекается вся нечистая сила города, там пристанище калек и бездомных, всех воров и проституток, наркоманов, цыган и, конечно, вездесущих бабушек. Туда последнее время повадился ходить Майорка, ставил свечки всем святым, слушал монотонное бормотание батюшки, и много думал о своей жизни, сам не подозревая, как резко и неожиданно меняется его характер, как душа, уставшая от жизни воровской, ищет покоя.
***
Утром возле кладбища из милицейского бобика сильные мужские руки вытолкнули в канаву безвольное тело. Ни одна живая душа не видела этого. Стоял утренний туман, город спал, только редкие машины с шумом проносились мимо могил. Менты плюнули вслед доходяге, захлопнули дверь и дали газу.
В канаве было сухо и это вполне устраивало Плешь, тело его лежало в неестественной позе, у него не было сил перевернуться. Большие деревья раскачивались на холодном ветру. Синий пиджак человека был вымазан сгустками сухой крови, синие опухшие губы едва шевелились. С растрепанными волосами и небритой, поседевшей щетиной он был похож на тряпичную куклу. В какой-то момент он то ли потерял сознание, то ли просто уснул. Тело уже не ощущало боли. Его били и раньше, и не только менты. Он тоже кого-то бил. Чаще, правда, в юношестве, чем во взрослой жизни. Удары его тогда были мягкими, игрушечными. Ему казалось, что он всегда жалеет того, кого бил, что руки его в последний момент расслаблялись, кулаки разжимались и удары более походили на женские пощечины. Он жалел тех, с кем дрался, и ждал того же к себе, оттого часто нарывался на неприятности, ожидая сострадания в ответ на борзость. Он порой удивлялся жестокости, тому, что чужая рука не дрогнула, как его. Тому, что жалость не присуща его врагам, но присуща только ему.
Он еще был пьян, еще гудела голова, еще путались мысли. Когда он так сильно напивался и когда веселье проходило, когда алкоголь переставал быть наркотиком и становился просто ядом, отравленный мозг рождал вереницу ярких образов и грез. Это были почти видения, более красочные, чем жизнь, наполненные таинственным смыслом. Такие образы никогда не приходили, если он выпивал, но всегда являлись к нему в тяжелом похмелье. Вот и сейчас он увидел странный сон.
Плешивый находился в большом храме с высоким, разноцветным сводом, который держался на мраморных колонах. Лучи света, искаженные фресками, падали на землю цветными пятнами. Он видел лики святых, строгие канонические образы, которые смотрели на него с иконостаса. Святой престол и прилегающие к нему алтари, украшенные золотом и камнями. Все это место пронизывало его мистическим трепетом ушедших эпох. Как будто он путешественник во времени, которому разом открылись все эпохи, видения прошлого, войны и катаклизмы. Но это было ощущения прикосновения к мистерии, а не полное погружение в нее. Поскольку он не мог понять этого послания.
Тут свершались великие таинства Евхаристии. Отсюда душа плыла из бушующего океана жизни в тихую небесную гавань.
Но и притвор, и сам храм был заполнен разными людьми. Тут были люди всех конфессий и вер, всех национальностей и социальных статусов. Оттого сложно было понять, какую веру тут исповедуют, и исповедуют ли. Символы и образы, как это часто бывает в бреду, перемешались между собой. Египетские боги могли охранять парапет, вместе с тем на колоннах стояли херувимы. И было непонятно, то ли Плешивый летал духом в храме, то ли видел его снаружи. Он был и там и тут, он был везде, как и полагается духу.
Люди говорили на всех языках мира, были всех оттенков кожи, и звуки их голосов эхом неслись ввысь, туда, где на фресках изображались библейские сцены. И разные языки не мешали людям понимать друг друга, потому что были у них единые прародители, которые породили бесчисленное множество рас и племен. Были здесь и богатые дамы, наряженные в меха убитых животных. Были и более бедные уличные женщины, одетые в старые лохмотья. Были и уродливые, безногие, безрукие, кривые, старые, мерзкие и страшные. Были и вовсе кошмарные люди-химеры, трехногие, многорукие, шестиглазые. Были они из разных времен и разных стран. Были молодые девки с ужасными изувеченными лицами, их обнимали такие же разношерстные, странные и страшные господа с лицами важными и свирепыми. И вся эта серая масса гудела и смеялась, поедая мясо и упиваясь крепкими винами. В золотых чанах подавали им человеческие руки, ноги и черепа. Прекрасные пери, нимфы и русалки сидели в золотых клетках. На вертелах вместе с каплунами, рябчиками и прочей дичью были наколоты дети в неестественных позах, более походившие на молочных изжаренных поросят.
Красивых и уродливых, бедных и богатых объединяло одно – они все были безразличными ко всему миру. Безразличие в лицах, в повадках, в разговорах. Богатые были пресыщены и равнодушны, бедные изо всех сил подражали им.
Плешь услышал музыку одноногого горбуна, который играл на клавесине. И звуки клавесина были ужасны, диссонансы и тритоны неслись к самому своду этого проклятого места.
Внезапно из огромных дубовых дверей повеяло холодом, свечи на стенах задрожали, всколыхнулось пламя в закопченном камине, затрещали петли, двери отворились, и в залу вошел козел. Это было большое животное с длиной сваленной шерстью и желтыми кошачьими глазами. Рога у него были длинными, завитыми и острыми на концах. Он дышал жгучим паром, расходившимся в разные стороны. Весь вид его говорил о здоровье и силе.
Он встал туда, где диаконы читали евангельские и апостольские послания, на самый амвон. И если с него, по легенде, ангел возвещал о приближении Мессии, то козел был подобен ангелу, который будет вещать о приближении Антихриста.
Следом за ним вышли его слуги, достойные отдельного описания, и стали справа и слева от козла. Прекрасный рыцарь с хвостом змеи, верхом на лошади бурой масти, вышел первым. От него веяло силой и могуществом. Следом показался волк со змеиным хвостом, изрыгая огонь из своей алой пасти, усеянной острыми зубами, лев с головой осла, учтивый длиннобородый старец верхом на крокодиле, с ястребом на запястье, птица-феникс с чудесным серебряным ангельским голосом ребенка, которая пела прекрасные песни, и множество других странных химер и уродов.
Всего вышло семьдесят два слуги.
Козел же смотрел на людей холодными глазами, выражающими железную волю и решимость, и в то же время спокойствие духа. Он был подобен льду и огню одновременно. Спокойствие и энергия. Казалось, только Хронос, которого боятся даже боги, мог бы поколебать его покой.
Кто-то из людей поднес ему золотой кубок с вином, и козел принял угощение, как и полагается царю царей.
– Зачем все это? – немощно прошептал Плешь.
Козел повернул к нему свою морду и произнес:
– Они счастливы, разве ты не видишь, это род людской!
– Я не понимаю, – простонал он.
– Счастливы слепые – они не видят прекрасного и, не ведая о том, могут жить подобно червям, роясь в трупах. Счастливы жестокосердные и грозные – ибо мир принадлежит им. Счастливы глупцы – ибо глупость их оправдание. Счастливы больные – все сострадание принадлежит им. Счастливы слабые – вся добродетель принадлежит им. Счастливы убийцы – они вкусили крови. Счастливы трусливые – они схоронятся. Счастливы ростовщики – они откупятся. Счастливы лгуны – они оклеветают других. Потому увидишь их всех в раю. Это род человеческий!
– Я не понимаю! – прохрипел Плешь, упав на пол перед козлом.
– Род человеческий счастлив в грехе. Если все же что-то случится с ними, настигнет их вдруг беда, они молитвами призовут моего отца, Господа твоего, и будут просить еще трупов, чтобы слаще было в них рыться, и Бог милостивый даст им шанс исправиться, потому они и далее будут клеветать, убивать, воровать и насиловать.
– А как же знание, как же наука, как же идеал!?
– Знание есть грех!
Так сказал козел, стукнув семь раз копытом о камень, с которого когда-то вещал ангел, высекая из него огонь. Он улыбался, смотря на то, как люди дерутся из-за куска курицы, из-за женщины, из-за вина. И всего бы хватило каждому, но почему-то не хватало…
***
Пришел в себя Плешь от странного сна или видения только тогда, когда кто-то начал громко молиться и причитать рядом с ним, то была одна из старух, что продают цветы возле кладбища. Ее молитвы хорошо сочетались с его сном, потому он не сразу понял, бред это или реальность. Она шла мимо канавы и подумала, что нашла покойника. Однако покойник открыл один глаз, чем еще больше напугал бабку.
– Живой, живой, собака! Алкоголик, синяк! – вздохнула она то ли с каким-то сожалением, то ли с раздражением.
Плешь хотел ей что-то ответить, но губы не слушались его. Язык еле двигался, а второй глаз так оплыл от побоев, что не открывался. Тут и пришла настоящая боль, от которой он громко застонал, но не смог даже пошевельнуться. Бабка его узнала по синему пиджаку, но помогать не стала, а лишь перекрестилась и пошла дальше торговать цветами. Плешь часто засыпал со стаканом в руке в неестественной позе мертвым сном. В такие моменты его нельзя было разбудить даже ударами по лицу, потому все местные бомжи и бабки часто находили его валяющимся в канавах и скверах. В этом не было ничего странного или нового. Многие настоящие, профессиональные алкоголики, живущие одной ногой в могиле, знают, им легче общаться с духами, погружаясь в мир интуитивного. Даже белая горячка была своеобразным погружением, прикосновением к мистерии. Такие, как он могли страдать лунатизмом и нарколепсией, пробужденной постоянным отравлением мозга, но переживать это как откровение или чудо. Отравленный мозг не мог мыслить, и за него мыслило сердце, которому была чужда логика. Уснуть с сигаретой в зубах на полуслове, это было так естественно в этой среде.
Бывали и более сложные автоматизмы, своеобразный транс. Когда он напивался вусмерть, не помнил, что творил и где был. Но часто куда-то бежал, что-то важное пытался успеть. Потом просыпался далеко от города в очередной канаве. Но в этот раз его еще и избили, и это не было бредом, он не так много выпил, чтобы все забыть.
Он бессильно закрыл глаза, и тут же погрузился в странные, бессвязные видения, которые калейдоскопом проносились перед его взором. Он просыпался через каждые полчаса, когда его начинало тошнить, затем пытался тянуть руки вверх, как будто хотел к кому-то прикоснуться или кого-то звал к себе, но руки, едва отрываясь от земли, падали на землю. Потом делал губами сосущее движение, такие движения свойственны младенцу.
– Эк тебя, брат, уделали, – раздался чей-то добрый голос над его головой.
То был Калека с кладбищенским сторожем. Они добрую половину дня отсыпались в сторожке после вчерашнего, а ближе к обеду сильная жажда вынудила их отправиться в магазин на разведку. По дороге торговки цветами сообщили им, что видели их друга пьяным в канаве. Но друг оказался не пьян.
Иван спустился в канаву и осторожно приподнял Плешь от земли, тот легонько застонал.
– Потерпи, Плешивый, сейчас согреешься, водочки выпьешь, – почти ласково заговорил сторож.
– Кто тебя так? – беспокоился Калека.
Но Плешь не мог им ничего ответить, язык совсем опух, двух зубов не хватало. Иван взвалил его себе на плечо и бодренько выскочил из канавы на пыльную дорогу, тело его товарища было по-детски легким, кукольным. Под пронзительный и жалобный скрип инвалидной коляски они отправились в сторожку. Почти Святая Троица, жалкие ангелы, погруженные в земную пыль и тщету, они влачили свое существование, наполняя свои головы мелкими заботами. Бабки качали головами и цокали языками, провожая их недобрыми взглядами. Тощая, грязная болонка на всякий случай облаяла их. Ветер играл спутанными волосами Ивана и его ноши.
В сторожке Плешивого положили на кушетку и стали думать, как быть дальше.
– Ты же врач в прошлом, – взволновано зашептал Калека. – Вспоминай, что делать надо.
Иван достал полупустую, недопитую вчерашнюю бутылку водки, выдохнул, хлебнул немного из горла и сказал:
– Остатки оставим для Плешивого, для дезинфекции. Первым делом надо бы раздеть его.
Он аккуратно снял с Плешивого пиджак и бросил его под кушетку. Вся грудь была исполосована синяками, которые успели по краям пожелтеть. Высохшие струйки крови обвивали змеями сморщенную шею. Когда сняли штаны, то обнаружили ту же картину, ноги были похожи на сплошной синяк, к тому же местами кожа на бедрах была рассечена, из глубоких ран сочилась кровь.
Плешь в это время, похоже, снова отключился и осмотру не сопротивлялся.
– Вот падлы! – сквозь зубы сказал Иван. – Не знаю, кто его, но отделали на славу. Похоже, били или плеткой, или тонкой палкой, или стальной проволокой. Смотри, даже по голове били, весь затылок рассечен!
– Это работа Майорки, – мрачно заметил Калека, – Плешь ему денег должен.
– Может быть, – почесал голову сторож. – Майорка – зверь, конечно, но и менты не лучше. Могли и они отделать. Хотя те любят бить осторожно, опыт у них есть. Могли и малолетки, могли и местные. В любом случае, пока он не придет в себя, мы этого не узнаем.
После этих слов Иван отодвинул в угол инвалидную коляску, чтобы не мешалась под ногами, открыл стол и извлек на свет красную аптечку.
– Положено иметь. На кладбище всякое случается. Я ее и не открывал ни разу, видимо, настало время.
В аптечке они нашли аммиак, анальгин, раствор марганца, зеленку, стерильные бинты, вату и ножницы.
– Негусто, – сторож пошаркал рукой свою жесткую щетину.
Он взял бутылку минеральной воды, сполоснул в ней руки, протер их водкой, затем смочил ей вату и стал аккуратно обрабатывать раны. Затем наложил на них бинты и туго стянул.
– Деньги есть? – спросил он у Калеки.
Инвалид достал всю мелочь, которая у него была, и протянул Ивану. Тот пересчитал, сказал, что этого должно хватить, затем дал понюхать аммиака Плешивому, чтобы тот пришел в себя. Это средство мгновенно подействовало. Плешь пришел в себя, открыл один глаз, но говорить по-прежнему не мог. Сторож выскочил на улицу и отправился в аптеку.
Калека остался со своим другом.
– Я видел дьявола, – прошептал Плешивый так тихо, что Калеке пришлось нагнуться поближе к губам, чтобы разобрать его речь.
– Кого ты видел? – не понял он.
– Нашего создателя. Дьявола, он и есть Бог, и он никого не любит. Холод в его глазах, а мы – его отвратительная картина.
Калека осмотрелся по сторонам, увидел аптечку, достал из нее кусок бинта и смочил его водой, затем положил на лоб своему другу. Он был уверен, что у того бред. Но все это не помешало продолжать шептать свои откровения последнему.
– Если бы ты видел нас, людей со стороны, как видит он, ты бы сам стал жестоким, алчным, злым, циничным, беспощадным, лживым. Все те, чье сердце еще не ожесточилось – дети, так как не ведают мира. Если же сердце твое еще ласково, а ты не дитя, значит, в тебе есть сила противоречия, в тебе есть протест. И только благодаря одной этой силе ты можешь вопреки логике быть добрым, великодушным, самоотреченным, щедрым. Чтобы быть таковым, надо отрицать своего создателя, уметь ненавидеть его мир, презирать созданные им блага, отказываться от них и жить в страдании. Ненависть к миру это разве не сатанизм? Но уж лучше я буду сатанистом, чем полюблю всю эту органическую массу, которая бесконечно пожирает друг друга. Проклятый горбун, какие тритоны…
Калека грустно смотрел, как капли черной крови стекают со лба Плешивого на пол. Капля за каплей. Он с трудом понимал своего друга, вытирая испарину с его лба.
– Потому ты и кричишь по ночам, – прошептал он в ответ, – что тебе снятся кошмары. Бредовые кошмары. Ты уже начал путать сны с реальной жизнью, – ответил он Плешивому. – Иван поможет тебе. Он врач.
– Ты не понимаешь меня, мой друг. Бог никого не любит.
– Ну и что, ты, главное, люби хоть кого-нибудь, – ответил Калека.
– Себя? Бога? Кого любить?
– Как ты обозлился на силы высшие… Хочешь, люби Бога, даже если он мерзок и имя его вызывает тошноту. Потому что кроме тебя, никто не знает, как выглядит Бог. Кроме тебя никто не знает его настоящего имени. Кроме тебя никто не знает всех его дел. Он живет в твоей голове, и от этого не менее настоящий, чем я или ты. Ни один поп, ни одна вера, ни одна религия не знает столько о Боге, сколько знаешь ты. И если Бог злой, он злой в твоей голове. Сделай его любящим и сострадательным. Ведь Бог слушается только тебя.
– Я сделаю, – прошептал Плешивый. – Обязательно сделаю его таким, каким он должен быть. Обещаю.