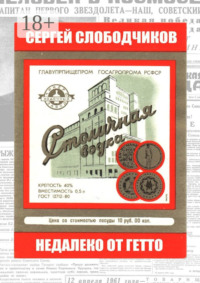Полная версия
Все пророки лгут
Вскоре вернулась Зинка с большой, грязной, вязаной сумкой в руках.
– Вот тебе мой касатик, лучший спирт.
Она достала из сумки бутылку из-под пива, наполненную белой жидкостью и туго заткнутую газетной пробкой.
– Если тебе еще захочется, ты говори, может, и брату твоему надо. Дешевле спирта тут не найдешь. Тут тебе еще пару яичек из дому и кусок ливерной колбасы. Стакан-то нужен?
– Спасибо, имеется.
Ловким движением руки Калека достал из-под коляски граненый стакан. Дыхнул в него и сказал весело:
– Наливай!!!
Зинка достала из сумки газетку, постелила ее на ноги Калеке, и разложила там нехитрый стол. Порезала колбасу и тоже достала стакан.
– Выпью с тобой, милок. Домой идти не хочу, мой кабан опять нажрался, а ты знаешь, он когда пьяный – дурак дураком. Уж я его и сковородкой била, и посылала, и милицию вызывала, только бы рожи его уголовной не видеть у себя. Не уходит, и все. Человеческого языка не понимает он.
– Конечно, куда же он пойдет, ты его прикормила, – улыбался инвалид.
– Припоила, точнее. Раньше он хоть работал, за спиртом ходил, да и сам приторговывал, а теперь проку от него никакого. Еще бы мужиком был, и то ладно!
Она похотливо засмеялась, от этого смеха Калеке стало не по себе, не каждый готов к тону пошлости, не каждый пропустит его в душу. Тут Зинка огляделась по сторонам и заметила голодные глаза Ивана Васильевича. «То, что надо» – подумала она.
– Слышь, прохиндей, у тебя сторожка свободна? – помахала она ему рукой.
– Апартаменты – высший класс, – отвечал радостно Иван в хорошем предчувствии. – Лучше только у Ежевики в склепе. Но там убранство не про нашу честь.
– Ну пойдем, покажешь свои апартаменты, – отвечала она. – Только помоги безногому, он сам-то не справится, чего нам мерзнуть, выпьем по-людски.
Иван бросил свою метлу в сторону, выдавая свое состояние, но потом одумался и спрятал ее в канаву, затем выбежал за калитку, схватил за ручки кресло Калеки и повез его в сторожевую будку, за ними неуклюже ковыляла старуха. Плешь знал про эту сторожку и что там иногда выпивают бродяги, потому он без труда найдет своего друга, думал Калека.
Троица быстро добралась до нужного места. Сторожка представляла собой небольшой одноэтажный домик с косой крышей, засыпанной сухой листвой. Он стоял на небольшом возвышении, и его единственное мутное окошко выходило как раз на кладбище. Отсюда сторож следил за вверенной ему территорией. Тут, бывало, он и жил неделями. Иван когда-то был военным, прапорщиком, успел жениться и вырастить двоих детей, но потом попался на воровстве в части и, чтобы умять скандал, быстренько уволился. Лишившись военной карьеры и работы, он начал много пить. Если раньше в армии его еще хоть что-то удерживало от бутылки, хотя бы еженедельные проверки начальства, то сейчас он был полностью предоставлен сам себе. Он пытался вернуться в армию чуть позже, но к тому времени армия перестала существовать. Точнее, та армия, к которой он привык. Кое-где еще сохранились гарнизоны, но они более походили на феодальные островки, нежели на российскую армию. Их феодализм заключался в том, что каждая часть выживала сама по себе, на какое-то время она была лишена всякого довольства и всякого контроля со стороны Москвы. Но это отдельная, грустная история.
Друзья пристроили его на это кладбище сторожем, и тут он мог тихонько, никому не мешая, спиваться дальше. Детям до отца-синяка не было никакого дела, а его жена была только рада, когда он уходил в запой на неделю и не возвращался домой. Изредка, когда ему промывали кровь, он как будто о чем-то задумывался, возвращался в семью, но потом начиналось все снова.
Лицо его было изрыто морщинами, щетина короткая, но грубая, слега поседевшая, разговаривал он хрипло, но нагло, любил армейские анекдоты и байки. Но как бы он ни пытался казаться веселым, было понятно, что человек этот полон грусти и нервозности, он лишь привык маскироваться, чтобы в компании получить свое. Чтобы с ним было приятно выпивать. Но при первой же возможности он старался остаться один, удалиться от людей в сторожку и там уже выпивать в угрюмой тоске.
Зинка и Иван зашли в сторожку, кое-как затянули с собой Калеку и подкатили его к деревянному засаленному столу. Обстановка тут была скудной: стол, пара табуреток и лежанка, накрытая старым одеялом. На стене висела икона с Богородицей, рядом с ней пара метел, большой совок и снегоуборочная лопата. Калека с удивлением рассматривал небольшую черно-белую фотографию в рамке, которая стояла на столе. На ней были запечатлены четверо молодых людей в белых халатах. Они размахивали какими-то бумагами, а лица их выражали большую радость.
– Че уставился, как баран на новые ворота? – Иван перевернул фотографию изнанкой, чтобы никто не смел посягать на святое. Этот невольный и немного резкий жест показывал, как в дряхлом теле живет еще страдающая душа, хранит еще свои тайны, опекает свое прошлое.
– Не первый раз вижу, кто это? – подивился Калека.
Иван достал стакан, вынул откуда-то соленый огурец, молча порезал его и сказал:
– Сначала выпьем.
Они разлили спирт по стаканам и, не жмурясь, опорожнили их. Инвалид закусил ливерной колбасой и, ощущая, как по телу разливается тепло, довольно причмокнул. В голове кружилась мысль: «Понеслась, родимая»!
После стакана спирта Иван подобрел.
– Никогда не запивай эту гадость водой, – поучал он, подставив кулак ко рту и рефлекторно кашляя. – Если бы я в армии запивал, давно уже без кишок бы остался.
– Да какое у тебя здоровье, хрен ты старый, – засмеялась беззубым ртом Зинка. – Кровь промывает раз в неделю, а о кишках своих думает! Через год тебя уж сторожить тут будут.
– Дура ты! – заорал он на нее. – Что несешь?!
И они начали ругаться, правда, не по-настоящему, просто так принято. Пока они ругались, Калека перевернул фотографию и снова начал рассматривать ее. Молодые люди в белых халатах, четверо. Один из них был похож на Ивана, только молодой, счастливый, и лицо такое наивное, такое безгреховное, чистое. Да, точно, Ивашка и есть. Когда смотришь на старые фотографии, если у тебя есть воображение, то невольно поддаёшься какому-то трансу, тебя затягивает в прошлое. Он увидел молодого Ивана, который учился, радовался, мечтал. Совсем другой Иван жил в совсем другой стране. Сам Калека не любил фотографии, они казались ему ужасными отпечатками прошлого, от которых душа начинала ныть.
Разлив еще немного спирта и выпив его, напарники перестали ругаться. И тут Иван снова заметил, с каким интересом инвалид смотрит на фотографию.
– Нравится? – спросил он, доставая сигарету.
– Расскажи, – потребовал Калека.
– Ну и расскажу. Я это с моими друзьями. Видишь, вот Митька, хирург. За границей работает. Вот Петька, тоже хирург, в милицейской больнице начальник сейчас. Вот Азимут, скотина та еще! В общем, просто скотина. А вот я. Видишь, какой был?
– Красавец, – подтвердил Калека. – Лицо сияет.
– А то, – Иван выпустил облако дыма. – Это мы дипломы отмечаем, видишь, в руках их держим. Врачи мы, брат, врачи.
– И ты врач?
– И я, – он задумался. – Мог бы стать им, если бы армия не затянула. Сколько сейчас врач получает? Как в армию забрали, так я там и остался. Меня не карьера волновала, а то, что можно было со склада тащить домой. По-человечески зажил, а диплом врача можно было на помойку выкинуть. Но вот тогда…. в то время, когда был пацаном несмышленым, мечтал стать врачом. Ума плата была. Не поверишь, людям помогать хотел. Звучит, конечно, глупо как-то, но чувствовал я… призвание, что ли.
Он плюнул прямо на пол.
– Женился, все не так пошло. В душе я врач. Интеллигент вшивый, значит. Любимая армия и жена, а еще сами знаете кто, сделали меня говном.
– Говном, – повторила Зинка.
– Вот уж не думал Иван, что ты хотел людям помогать, – искренне удивился Калека.
– Ага, хотел. Вот и осталось у меня две святыни, это воспоминание молодости, да Богородица. Я один раз украл в части какое-то барахло, домой принес, жена и надоумила меня, мол, оставайся в армии по контракту, домой таскай барахлишко. А врачом кому ты нужен? Молодой был, послушал ее. До сих пор ей простить не могу.
Потом он посмотрел на инвалида и сказал:
– В целом это, конечно, не твоего ума дело!
Он как бы дал слабину, рассказал то, чего так сильно стеснялся и боялся. Открыл миру что-то сокровенное, в то же время понимая, что ничего вызывающего и не говорил, ситуация до смешного банальная. В самом деле, кто-то в эти лихие годы опустился на дно, но ведь кто-то и поднялся. Внутреннее чувство стыда за свою слабость подняло со дна его души какую-то агрессию, которая и вылилась в эти грубые слова. Правда, считал это слабостью только сам Иван, который уже жалел, что повесил фотографию на стену. Казалось, фотография порождает или пробуждает свой собственный эгрегор, обнажая его эмоции, похороненные в этом куске картона.
Старуха поморщилась на эту грубость, как будто съела лимон. Она могла простить самый грубый мат, но не прощала слабостей в мужике, так как свою душу давно заменила цинизмом. И хотя Иван нагрубил Калеке, слова эти предназначались старухе. Это был подсознательный посыл отчаянья, потому как он догадывался, что прожжённая бестия умеет колко смеяться над чужой душой за неимением своей.
– На кой черт мне еще два алкаша сдались, своих девать некуда, – злобно сверкнула глазами Зинка.
Они налили и выпили еще. И часто, как это бывает, разговор перетек в русло житейской философии о насущных проблемах, но в этом разговоре и кроется наивная, как дитя, мысль. Такая наивная, что ей можно было бы и не придать значения, о чем только не болтают пьяные? Но позже раскроется вся важность этого пьяного разговора.
Иван дал Калеке сигаретку. Инвалид глубоко затянулся и в блаженной задумчивости выдул сизый дым. Потом начал рассказ:
– Мне Плешивый рассказывал, жил да был один зек. В тюрьму попал ни за что. Просто так посадили его.
– Ага, – перебила его старуха. – Знакомая песня…
– Да ты послушай. Плешь не врет. Был такой зек, засадили его несправедливо, невиноватый он был, но ходку свою воспринял как знак свыше, смирился с ней. Зону называл школой, а тех, кто его бил – учителями. Уж вертухай его учил уму-разуму, мужики его учили, черные его за клоуна держали, а он только благодарности сыпал в ответ. И такой характер у него в тюрьме стал добрый и набожный, что многие стали к нему чуть ли не на исповедь ходить. Полюбили его зеки. В общем, неожиданно стал он чуть ли не в авторитетах ходить. Хоть и не вор, а уважение к нему было большое. И пообещал он людям, что как срок окончится, на воле построит приют для бомжей, проституток, воров, алкашей и наркоманов. И будет за всеми ухаживать и всех любить, как отец любит своих детей.
– Слышал я, что американцы такие притоны делают в России, – пожал плечами Иван.
– Это совсем другая история. Все эти приюты куплены, все они просто барыш для кого-то, очередная кормушка. А этот зек, выйдя из тюрьмы, построил настоящий приют, большой, чтобы всех вмещал. Денег ему воры и дали, ибо понравился он идеей своей сильным мира сего. Они ведь тоже боятся упасть, чуют, что в любой момент сами с сумой по миру пойдут. В общем, ушел этот зек в леса, в пустыни и построил что-то вроде монастыря, только не на религиозной почве. Все в этом мире рано или поздно покупается и продается. И зек этот тоже боялся, что придут злые, темные люди и сделают из его монастыря балаган. И тогда зеки в 1992 году между собой подписались под негласный договор, что монастырь этот не будет крышеваться, ни один урка не будет пакостить. А тех, кто попытается это сделать, ждет смерть. В общем, по понятиям все стало. Но, чтобы избежать соблазна, чтобы обезопасить святое место, те, кто туда вхож, приносят страшную клятву, что под страхом смерти не выдадут его координат. Бродяги, нищие, шлюхи, все, кто там бывал, помалкивают об этом. Там ведь житье райское, многие и уходить не хотят, так и остаются там навсегда. В общем, это то самое зимовье, о котором я мечтаю. Чем вам не светлая мечта? Понимаю, что сказка, но ведь красивая же!
– Ерунда какая-то, – почесал небритый подбородок Иван. – Ну и что же в этой ночлежке хорошего, кроме того, что она халявная?
– Ну, то, что она халявная, уже делает это место святым, часть общака идет на ее спонсирование, потому там халявная не только койка, но и еда. Ешь, что хочешь, пей, что хочешь. И это тебе не спонсорство, не отмывание денег, не закулисная возня, не политика. Никакого подвоха. Только алкоголь и наркотики там запрещены. Люди живут коммуной. Все друг другу помогают. Был ты распоследним вонючим бомжом, был ты мокрушником, да хоть петухом, а там становишься братом. К тебе как к человеку все относятся. Ты представь только, что есть место, где прощаются все грехи, где нет никакой масти, где по негласному сговору дружат непримиримые начала. Статус кво. Ты понимаешь, что такое быть человеком?
Иван замолчал, хотелось сказать что-то гадкое, колкое, но язык не поворачивался. Даже Зинка, которая никогда не лезла за словом в карман, решила не язвить.
– Вот ты Иван, хранишь фотографию своей молодости не просто так, ведь чувствуешь, что человеком был. Сам вот и говоришь, что стал говном. А я бы не отказался найти это место и зиму там провести. Хотя бы зиму. В тепле, в уюте, сытым. Не слышать нашей ругани, не видеть эти бесконечные драки, не видеть эти унылые морды, чьи сердца полны злобы. Не видеть этой бытовухи, где родители дерутся с детьми, воруют на работе, или сидят на пособии.
– Такое невозможно, – не выдержал Иван.– Утопия. Чем же там это коммуна занимается? Ты только представь себе, столько народу, и все целыми днями только и делают, что братаются да обжираются! А кто будет работать? Кто будет хлеб добывать?
– Работают, наверное, – пожал плечами Калека. – Работают, как и все люди.
– Да ни один вор работать никогда не станет, у них же понятия. Да и бомжа заставь работать! Ты меня сможешь заставить работать?
– А у нас никто не работает потому, что власть воспитала нашего человека так, что работа как рабство принимается, труд неуважаем. Ты вкалываешь на нашу страну, сохнешь, а чиновники сидят себе в кабинетах и жиреют. Тут никто работать не захочет. Но если ты действительно видишь, что труд твой не пропадает просто так, что труд твой нужен людям и делает счастливым брата твоего, и что труд твой действительно благороден и никто не смеется над твоим трудом, никто не стремится у тебя отнять твое добро, никто не стремится разжиться на тебе, то труд становится в радость. Понимаешь, там даже матерый волк берется за лопату, ибо все понятия становятся ненужными, когда вокруг тебя бывшие авторитеты трудятся. Кто плотником становится, кто фермером.
– Красиво запел, – Иван плеснул еще спирта в стаканы. – любо-дорого слушать. Ну, ты рассказывай дальше, а я помечтаю.
Все трое собутыльников уже порядком опьянели и, хотя они не верили не одному слову Калеки, слушать его было приятно. И хоть диалог получался глупый, но, бывает, и трезвые люди ведут не менее глупые беседы.
– А что же там со шлюхами становится, – спросила его Зинка. – Неужто каждой бляди ручки целуют?
– Может и целуют, – продолжал свой рассказ Калека. – я ведь не блядь, не знаю. Но женщину там боготворят, женщина – это мать, она надежда человечества. К ним никто не лезет, никто не просит. Там нет похоти.
– А как же прописка? – удивился Иван. – Менты-то такой балаган точно разгонят.
– А менты не знают про это место. Говорю же, все это большой секрет. Вы с трудом мне верите, я и сам не поверил никому, но это мне рассказал Плешь, а ему я верю. А менты думают, что это все байки. Да и ментов не интересуют те места, где барыша или навара нету. Нет денег, нет бед. Нет богатства, нет бед. Нет золота и серебра, нет бед. Там же нет бизнеса, крышевать никого не надо. Никого не надо пасти. Навара взять не с чего. Там нет купюр, нет долларов. Нет наркоты. Нет бухла. Место это за городом, и оно никому не мешает.
– Хорошо, – отвечал Иван. – Но по мне так жизнь без бухла – и не жизнь вовсе. Уж лучше дохнуть с голоду, но бухать.
– Лучше как собаки подыхать тут по синьке? – удивился Калека.
– Нажрался уже, – вздохнула Зинка.
Она встала, выпила на посошок глоток спирта и закусила его колбасой.
– Гонит твой Плешивый.
Иван понял, что старуха покидает их, он вскочил на ноги и с какой-то унизительной покорностью опустил голову. Прощался.
Она пнула ногой трухлявую дверь и, довольная собой, пошла к калитке. Иван бросился за ней, то ли спирта еще выпросить, то ли калитку открыть. Калека остался один, взял со стола недокуренный бычок и с удовольствием затянулся. Плешь действительно задерживался, такое редко случалось, хорошо, если менты повязали, а то ведь мог и сам пропасть. Про этот приют, возможно, он и выдумал многое, скорее всего, все это ложь, но лично он лучше будет верить доброму слову, даже если оно ложь, чем верить злому, но правдивому. И пусть друг его врет, он за его ложь горой стоять будет. Тут ведь дело было не в поиске правды, иной раз ее стоит не искать, а самому придумать эту правду. Калека, конечно, тоже многое домыслил сам, что-то напридумывал, что-то действительно услышал.
Минут пятнадцать Иван где-то отсутствовал, потом неожиданно появился на пороге сторожки и, шатаясь на ногах, победоносно вскричал:
– Дала, стерва!
В руках он держал еще одну бутылку спирта.
– В долг, правда. Но дала.
Он присел рядом с Калекой, плеснул жидкость по стаканам, но потом его взгляд упал на стол. Вся закуска была съедена. Тогда Иван открыл ящик стола и из темноты извлек небольшую пачку сухого кошачьего корма.
– Не брезгуешь? – улыбнулся он.
– Я-то? – Калека удивился. – Чего мне брезговать… Ты тоже, брат, не побрезгуй, в туалет мне надо.
Иван вопросительно посмотрел в глаза инвалиду.
– Проклятье, – выругался он.
***
Майорка стал авторитетом не сразу. Многие проходят сначала малолетку, успевают хлебнуть горя, получив урок цинизма и мощную прививку против государственности и власти. Начинают с мелочи, драк, хулиганства и мелкого воровства, попадают по глупости. Если воля железная, идут вверх, если слабая – вниз, если плывут по течению, становятся мужиками. Наш герой сделал карьеру, после того как попал в 13-ю колонию строгого режима. Зона эта находилась на окраине города Хабаровска рядом с поселком Матвеевка. Раньше это была колония общего режима, но Майорка попал туда во времена великих перемен, когда в эту колонию начали завозить со всего Хабаровского края тех, кому был прописан строгий режим, а это была не лучшая компания. Потому начинающему свою карьеру вору первое время пришлось туго, тем более, что попал он за изнасилование, мягко говоря, статья не самая лучшая. С такой статьей старались не высовываться. Хабаровских тут не любили, считая, что раз они на своей земле, то и привилегий у них больше, мол – все они приблатненные. Менты тоже не любили Хабаровских, так как на своей земле им было легче строчить жалобы на волю, легче находить поддержку у родных и близких.
Первое время Майорку мусора беспощадно били. Они хотели, чтобы он работал на лагерное начальство, вставал на путь исправления. Менты то и дело вызывали его к себе на беседы за чашкой чая, и это очень не нравилась зекам, которые подозревали его в самом худшем. Если с тобой пытаются завести дружбу начальники в погонах – это уже преступление, хотя жертва, попавшая в эти сети, по сути своей невиновна. Все это сделало его нервозным, агрессивным, пару раз он кидался на надзирателя, за что получил определенное уважение одних и ненависть других. Его удача состояла в том, что ему не намотали новый срок за нападение. Впрочем, не стоит думать, что менты и наш герой были врагами до гроба. Чаще всего они просто играли свою роль, и в то, что это игра, пусть и жестокая, можно было поверить по таким эпизодам: стоило Майорке отпустить хорошую шутку другому зеку, как проходивший мимо вертухай, случайно услышавший ее, начинал смеяться вместе с заключёнными. Искрений смех скидывал с них театральные маски, возвращал к началу начал. Но антракт был недолгим, и они снова возвращались к своим ролям.
Положение Майорки становилось все хуже и хуже день ото дня, но не было счастья, да несчастье помогло.
По-хорошему договориться с ним милиции не получилось, и тогда ему почти случайно отбили почки, после чего к полуживому зеку пришел майор, осмотрел и решил забрать в сангородок. В сангородке отлеживалось множество местных авторитетов, с которыми за игрой в карты он очень быстро нашел общий язык, именно там он и познал все мудрости воровской жизни, все ее правила и порядки, приобрел нужные знакомства, возмужал и окреп, там же он и получил свою странную кличку – Майорка, производное от его фамилии.
На свободе Майорка любил выпивать с братвой, любил спорить, любил быть авторитетом для молодых школяров, которым еще предстояло сесть. Он собирал вокруг себя множество молодежи, разъяснял им, как жить правильно, по понятиям, чтобы люди тебя уважали. Отожествлял вора со святым, и, проповедуя среди детей и подростков зоновскую жизнь, был похож на святого. Часто возводил руки, будто хотел обнять паству свою, наказывал провинившихся и давал звания подхалимам. Он как великий Доминик обращал еретиков в истинную веру. Молодёжь сплотилась вокруг вора и росла его воровская секта.
Он проводил общаковские стрелки, и каждый раз видел новую паству среди еще зеленых, непуганых детей, которые уже стриглись налысо и учились сплевывать сквозь зубы. Всех его темных дел не перечислить, всех грехов не пересказать. Тем не менее Майорка никогда не работал, как и подобает уважаемому человеку, никогда не брал себе чужого в смысле того, что принадлежало братве, никогда не распускал рук по пустякам, не провоцировал, не задирал, не имел своего имущества. И, если честно говорить, то давно уже не воровал и не грабил, а жил за счет своей паствы, которая воровала, грабила и щедро скидывалась на общак. Малолеток ловили, сажали, но стараниями воров в девяти случаях из десяти выпускали на волю. Каждый год государство придумывало какую-нибудь амнистию, искало способы избавиться от заключенных. И сотни зеков возвращались в воровские ряды, сбивались в стаи и делили город. Одни охраняли вокзал и грабили приезжих вместе с цыганами, другие, наглея, лезли в самые поезда, пробегали по вагонам, брали дань, и в тот же день пропивали ее. Малолетки грабили людей, сидящих подле рынков со всякой мелочью с попустительства взрослых. Взрослым был дан тайный прогон – брать дань со всех, кто торгует рядом с рынками, а не на самих рынках. В том был мелкий, но чрезвычайно подлый сговор русских и армян. Продаешь картошку? Плати. Не можешь заплатить, малолетки будут опрокидывать твой товар на землю.
В целом, благодаря таким людям, как Майорка, ворам удалось невероятное. Они контролировали весь Дальний Восток, во всех его областях творилась власть воровская. Без одобрения Комсомольска-На-Амуре тут не мог появиться ни один залетный бандит. Под контролем были многие предприятия, торговля машинами, лесной и рыбный бизнес.
Майорку эта адская кухня вполне устраивала. Как человек предусмотрительный, он знал, что так долго продолжаться не может, рано или поздно либо посадят, либо организм дальневосточный окончательно сам себя съест, и не будет Дальнего Востока. Посадить-то всех не посадили, скорее, расстреляли, но это уже другая история. В такой вот кухне, достойной бандитской истории города Чикаго, закалялась душа зека.
Но была у Майорки большая слабость, об этой слабости никто не знал и не ведал. Берег тайну суровый зек пуще своей жизни. Он видел в жизни много горя и боли, много несправедливости, и это сделало его толстокожим и равнодушным. Но пять лет назад сердце его растаяло. Родилась у Майорки маленькая дочка от случайной связи, и грозный, угрюмый, беззубый зек, увидев этот живой, улыбающийся и тянущий к нему ручки плод, тронулся умом. Девка бросила ребенка возле какого-то притона, где хозяйничал Майорка, и сбежала жить в деревню. Ребенка заботливый папаша забрал себе, снял квартиру, нанял няньку и решил во что бы то ни стало вырастить. Каждую неделю он приходил к ребенку, маскировал свои наколки, забывал обо всех понятиях и делал то, что делает всякий заботливый родитель. Девочку назвали Аней.
Толстая, рябая домохозяйка не знала, кем является Майорка, если бы она узнала правду и проболталась об этом, возможно, он бы убил ее. Такая забота не укладывалась в воровские понятия, вор имеет лишь воровскую семью и достоин лишь воровского счастья, а оно вне человеческого понимания. Конечно, за дочку никто бы не стал его убивать – в 90-е, когда воровской закон стал претерпевать огромные изменения, возможно, его бы даже не лишили воровского сана и закрыли бы глаза на то, что дочь от шлюхи, но авторитет его бы пошатнулся, и неизвестно, к чему это могло привести.