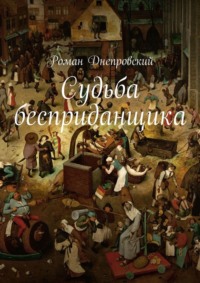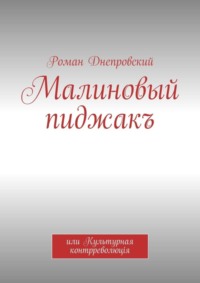Полная версия
Юность Плохиша. О восьмидесятых – без ностальгии
На этом можно было бы поставить точку, но прежде я в нескольких словах расскажу ещё об одном эпизоде, который случился после нашего возвращения из Улан-Батора. В один из вечеров дед вернулся с работы в каком-то странном настроении, а когда мы все вместе – он, я, и бабушка – сели на кухне ужинать, дед как-то озорно посмотрел на меня, а потом обратился к бабушке:
– Знаешь, Вера, а мы ведь, оказывается, неправильно воспитываем внука! Оказывается, я подаю ему очень плохой пример: в его присутствии я едва не спровоцировал международный скандал, на торжественном банкете оскорблял товарищей из Монголии! Чтобы погасить конфликт, сотруднику совецкого торгпредства, – дед снова хитро посмотрел в мою сторону, – сотруднику советского торгпредства пришлось вмешаться!
– Да что ты такое говоришь, Геннадий?! – бабушку, казалось, слова деда испугали не на шутку.
– Да, да! – дед уже откровенно веселился, – сегодня в Главке мне шеф показал анонимку, которая пришла из Улан-Батора – там чёрным по белому так и написано: «…вёл в присутствии несовершеннолетнего внука провокационные разговоры, принижающие значения совецко-монгольской дружбы и сотрудничества» – ну, это про тот случай, на банкете, я тебе рассказывал…
– И что теперь? – в отличие от деда, бабушке всё ещё было не смешно.
– Да ничего теперь! Поржали с шефом! Ты же знаешь Виталий Иваныча: неужели ты думаешь, что он стал бы этому делу какой-то ход давать?… Анонимка – у меня на работе, в столе, завтра захвачу… Хорошо, хоть не написали, что мы с министром на пару Ромку пытались спаивать, – и, вновь озорно глянув на меня, закончил: – Ты всё понял, Ромоон-нойон? Делай выводы! – и рассмеялся.
Выводы я, конечно же, сделал: ну кто ещё мог стукнуть на дедушку, написать на него анонимку, кроме того сотрудника торгпредства, который сидел рядом с нами на этом банкете, и к которому дед обратился с неосторожной фразой. Только он! – больше-то и некому! Паркетный шаркун…
Или, может быть, монголы? Вряд ли. Среди них паркетных шаркунов я тогда не наблюдал. И вообще: зачем монголам паркет, когда есть юрта?…
ДЕТСТВО НУМИЗМАТА
Во втором классе я увлёкся собиранием монет – нумизматикой. Это hobby, которому я остался верен и по сей день, сочетало в себе всё то, что меня интересовало: ведь монетки, которые я выменивал, которые мне дарили, а чуть позже – и те, которые я покупал – все они были либо из тех дальних стран, о которых я читал в своих книжках, либо из того «старого мира», к которому у меня ещё тогда возникла какая-то подсознательная симпатия. Словно волшебная музыка, звучали для меня названия дальних стран – Гернси, Тринадад и Тобаго, Острова Кука, Гвиана, Уругвай, Доминика, Мадагаскар – а монеты, которые каким-то чудом попадали оттуда сюда, «за чертополох», были реальным подтверждением того, что эти дальние страны – не выдумка…
Свою самую-самую первую монету я нашёл в песочнице, в которую домоуправление каждый год в начале лета привозило полную машину влажного речного песка. Вот в этом песке я и нашёл свой самый-самый первый коллекционный экземпляр – массивный серебряный кругляш 1847 года, на котором на одной стороне значилось: «Монета Рубль», а на другой был изображён коронованный Имперский Орёл. Вовка Рыжий, увидев мою находку, решил, было отнять монету у меня «по праву старшего» – но я вцепился в неё намертво! – и тогда Рыжий, видя моё упорство, тоже принялся разгребать песок в том месте, где я нашёл свою монету… и, представьте себе, тоже нашёл, и даже не одну, а две: серебряный полуполтиник и чеканившуюся для Царства Польского монету с двойным номиналом – 3/4 рубля и 5 злотых. Рыжему повезло больше: те монеты, которые достались ему, были более редкими и ценными – но «подсел» с тех пор на нумизматику не он, а я. Через двадцать лет, кстати, он принёс мне обе этих монеты, и продал их мне по цене двух бутылок водки, которые мы с ним и выпили под воспоминания о нашем детстве и наших тогдашних приключениях – а найденные им монеты получили с тех пор «постоянную прописку» в моём собрании.
А тогда… Едва я пришёл домой и сообщил, что нашёл такую замечательную монету, и теперь буду коллекционировать не только замки и ключи, но и заделаюсь нумизматом (слова этого я тогда, конечно же, не знал, и выразил свою мысль немного по другому), дома случился маленький ажиотаж. Первым на моё заявление отреагировал мой прадедушка, который в ту пору был ещё жив: порывшись у себя в комоде, он извлёк оттуда несколько завалявшихся у него со стародавних времён медяков: то были двух- и трёхкопеечные монеты эпохи последнего Императора, здоровенный медный совецкий пятак 1924 года, и безумно красивая и торжественная царская купюра достоинством в пять рублей 1909 года. Вернувшаяся с работы мама тоже извлекла из своего письменного стола какую-то мелочь: несколько японских монеток, германский десяток с изображением молодого дуба, марокканскую монету – с дыркой посредине, с пентаграммой и арабской вязью, а ещё – крошечный, похожий по размерам на совецкую копейку, югославский пятачок, и ещё один пятачок – итальянский, алюминиевый, с дельфином (он понравился мне больше всех, хотя и был исполнен из самого дешёвого металла).
Следом за домашними, к моему собирательству подключились и другие родственники: почти у каждого из них где-то хоть одна-две монетки, да завалялись. И, чем больше попадало таким образом монет в моё собрание, тем больше мне хотелось собрать их: я начал выменивать монеты в школе – в качестве «оплаты» принимались пластмассовые фигурки индейцев и ковбоев производства ГДР, которые высоко ценились тогда среди малышни. В те годы в городе уже много лет существовал полу-неформальный Клуб Коллекционеров, члены которого – филателисты, филокартисты, нумизматы и значкисты-фалеристы – собирались по субботам то на Набережной, то в фойе Дворца Культуры Профсоюзов – и вот однажды, оказавшись на Набережной в такой день, я стал бегать туда регулярно: сэкономленные гривенники и двадцатикопеечные монеты, которые выдавались мне на мороженное, превращались там в новые коллекционные экземпляры. Конечно же, в самом начале своего пути я мог позволить себе купить, разве что, «чешую» – то есть, самые-самые дешёвые монетки, которые опытные собиратели приносили на свои встречи специально для таких начинающих нумизматов, как я.
Видя мою увлечённость, мои мудрые дед и бабушка решили поддерживать во мне этот, в общем-то, достаточно безобидный интерес: начиная с четвёртого класса, дед каждый месяц выделял мне с пенсии целых двадцать рублей – гигантскую по тем временам сумму! – из которых десять рублей выдавались мне на покупку монет, а другие десять откладывались на книги (их доставала через знакомых моя мама). Бабушка поступила иначе: начиная с четвёртого класса, она переложила на меня обязанность покупать на всю семью хлеб, молоко, сметану, сливки и сахар – благо, хлебный и молочный магазины были в двух шагах. В качестве поощрения мне разрешалось оставлять на «карманные расходы» всю мелочь, которая оставалась после сдачи там же, в молочном, бутылок из-под молока и сливок и баночекиз-под сметаны. Сэкономленную таким образом мелочёвку я копил всю неделю, а то и две, чтобы, накопив рубля два-три, отправиться на встречу коллекционеров, и побаловать себя очередным приобретением. В те годы за рубль-полтора в Клубе можно было купить монетку какого-нибудь острова Цейлон, или Гонконга, или Сингапура, а пятак середины девятнадцатого века шёл копеек за семьдесят. Я сразу сообразил, что каждый мой поход в молочный, в ближайшую же субботу обернётся для меня приобретением одной, а если повезёт, то и двух редких (так мне казалось тогда) монет.
В школе о моём увлечении знали многие, и, время от времени, кто-нибудь приносил мне случайно завалявшуюся дома монетку – как правило, это была какая-нибудь ерунда, но иной раз попадалось и что-то, что заслуживало внимания. А однажды, в самом конце четвёртого класса, на перемене ко мне подбежали наши мальчишки, которые зачем-то бегали на ближайшую троллейбусную остановку:
– Ромка! Ромка! – кричали они, – там на остановке какой-то дядька старинные монеты продаёт! И книгу! Старинную!… Бежим!…
Я не заставил себя упрашивать, и уже через пять минут мои запыхавшиеся одноклассники, сопровождавшие меня, показали мне этого дядьку. Мужичок, как я теперь понимаю, мучился с похмелья – вот и вышел на остановку, чтобы загнать кому-нибудь свои сокровища. Слово это я пишу без кавычек, ибо то, что показал мне этот дядька, ими – сокровищами – и было. Продавал он три старых серебряных монеты: китайский лян 1911 года с профилем Юань Ши-Кая, гонконгский торговый доллар 1898 года, немецкую монету в две марки, одну из сторон которой украшал профиль Гинденбурга, а на другой стороне имперский орёл сжимал в лапах венок со свастикой. Но этого мало: кроме монет, у дядьки с собой была ещё небольшая толстая книжечка в чёрном переплёте – Новый Заветъ Господа нашего Iисуса Христа. Московская Сvнодальная Типографiя, 1905 годъ… У меня в кармане было целых пять рублей… и уже через минуту между нами состоялась не сделка даже, а обмен: он отдал мне монеты и книжку, а я вручил ему нежно-голубую бумажку с изображением Спасской башни. Обратно в школу я летел на крыльях, сжимая в одной руке три драгоценных монетки, а другой прижимая к форменной курточке книгу. Мои одноклассники были рады не меньше меня, рады искренне – и вот уже мы стоим кучкой возле школьного подоконника, и я даю им рассмотреть и подержать в руках свои сокровища… а к концу следующего урока уже весь класс знает о том, что «Ромка купил у дядьки монету с фашистским крестом, настоящий доллар и церковную книгу». На дворе стоит май 1983 года, и те, кто помнит это время, уже, как бы, всё поняли…
Последним уроком в тот день была история, которую у нас вела наша класснуха, Людмила Дмитриевна Давиденко по прозвищу Давида. Ей уже успели сообщить о моих коммерческих сделках, поэтому, можно и не удивляться тому, что вместо урока истории был устроен классный час, на котором было заслушано моё «персональное дело». Едва прозвенел звонок и мы расселись по местам, Людмила Дмитриевна торжественно обратилась персонально ко мне:
– Днепровский! Встань, возьми портфель, подойди к моему столу, и выложи на него всю ту гадость, что ты купил сегодня!
Что мне оставалось делать?… – встал, подошёл, и выложил «гадость» на стол.
– Церковная книга! – с деланным ужасом в голосе воскликнула Давида, – Церковная книга! Мне даже в руки противно брать эту мерзость!… А пионер Днепровский носит её в своём портфеле, и ему не противно! А может быть, он – боговерующий? – это слово она именно так и произнесла, и повернулась ко мне: — Роман, скажи своим товарищам: ты – боговерующий?
Я и слова произнести не успел – да моего слова, по всей видимости, по сценарию Людмилы Дмитриевны и не было предусмотрено – а она уже перешла к разбору следующего «вещдока» – германской монеты с Гинденбургом на аверсе:
– А это что?! Фашистская медаль!!! Ребята! — воззвала она к класу с подвыванием в голосе, — мне хочется выбросить эту дрянь на свалку! На этой медали изображён фашист! Его лицо полно ненависти к совецким людям!!! А на обороте этой медали нарисована свастика – чёрный паучий крест, под которым убивали совецких людей! Я рассказывала вам, как фашисты убивали совецких людей? Раскаливали штык до-крас-на… – историю о том, что на этот самый раскалённый до-крас-на штык насаживали голым афедроном партизанцев, Людмила Дмитриевна Давиденко рассказывала нам раз двадцать, и всякий смаковала подробности. Уже став взрослым мальчиком, я понял, что таким образом наша класснуха предавалась эротическим фантазиям, что у неё был ярко выраженный садо-мазохистический комплекс, и что произнося слово «штык», в своих влажных грёзах она представляла совсем не штык… Но тогда-то, в четвёртом классе, я ничего этого не знал!
Я стоял, не в силах понять, в чём, собственно, моя вина. В конце концов, ведь это не я умучивал этих самых партизанцев, нанизывая их, словно шашлыки, на раскалённый до-кра-сна штык – я, всего лишь, купил у дядьки старинные монеты и книгу. Он хотел продать – а я честно купил… А кроме того, я по наивности полагал, что уж кто-кто, а учитель истории сможет оценить мои приобретения по достоинству. Увы! – в те годы я не знал ещё, что «историк» в совковой системе – это не столько человек, изучающий историю, сколько боец идеологического фронта. Не знал я и знаменитую максиму основоположника совковой историографии, товарища Покровского, гласящую, что «История – это политика, опрокинутая в прошлое». Да что говорить, очень многого не знал я в свои неполных одиннадцать лет – а Жизнь, тем временем, преподносила мне уникальный Урок. Урок человеческой подлости и низости – едва ли, ни первый из многих и многих подобных Уроков, которые ждали меня впереди.
А Людмила Дмитриевна Давиденко, которая, видимо, представляла, как её насаживает на свой раскалённый до-кра-сна штык какой-нибудь белокурый фельдфебель Ганс, уже едва ни стонала: её подвывания звучали всё отчётливее, и, возбуждаясь всё больше, она перешла к обзору остальных моих приобретений:
— А вот – американский доллар! – взяв кончиками пальцев за краешек гонконгский доллар с изображённой на нём аллегорической фигурой Британской Империи, Давида подняла его так, чтобы он был виден всему классу, — Американский доллар! Тот самый, которым оплачена кровь никарагуанских патриотов, которых убивают фашисты из «Контрас»! Вы знаете, ребята, что делают «Контрас» в Никарагуа? Они отнимают у матерей грудных младенцев, подбрасывают их в воздух, и на лету разрубают огромными ножами-мачете, которыми рубят сахарный бамбук! Вот какую монету купил сегодня пионер Днепровский!… Роман, а ты знаешь о том, что доллар – это валюта, а скупка валюты в нашей стране запрещена законом?
Что я мог ответить на эту глупость? Пуститься в объяснения, доказывать, что это вовсе не американский, а вовсе английский торговый доллар, чеканившийся для Гонконга почти сто лет назад?… что он давно уже изъят из оборота, что это теперь лишь коллекционная монета, а никакая не валюта, и что никарагуанские «Контрас» здесь ни при чём?… Да и не об этом я думал, когда эта истеричка обращалась ко мне – я просто стоял, и улыбался. Дело в том, что я только что отчётливо услышал в монологе класснухи словосочетание «сахарный бамбук» – а ведь всего неделю назад, когда Алёшка Альбот выдал на политинформации этот ботанический перл, она же сама его и обсмеяла: «Альбот, ты хоть представляешь себе, что такое бамбук?! Сахарный тростник! Тростник – а не бамбук!…» – и вот только что сама же наступила в этот сахар. Мне было смешно.
– Ребята! — взвыла Давида, – Вы только посмотрите: он стоит, и улыбается! Ему, наверное, смешно, как никарагуанские фашисты убивают маленьких детей! Скажи нам, Роман, тебя это рассмешило, да?!…
Уже не в силах сдерживаться, я выдавил из себя:
– Сахарный тростник… тростник, а не бамбук…
С моей стороны это был удар ниже пояса, но одноклассники, похоже, этого не заметили. Класснуха же налилась краской, и менторским тоном произнесла:
– Это неважно сейчас! Объясни нам, зачем ты купил всю эту дрянь? И где ты берёшь такие деньги на то, чтобы покупать всё это?!
Вот тут-то я сплоховал! – услышав, что мне, наконец, задан конкретный вопрос об источнике финансирования моего хобби, я решил ответить по существу. Я полагал, что если я честно скажу, что деньги мне дают дома, то, может, удастся прекратить весь этот цирк, которым я был сыт по горло. Да только вот, фразу свою я построил безграмотно, и на вопрос о том, где я беру деньги, ответил:
— У дедушки…
– Ребята! Он крадёт деньги у дедушки!!! – загремела Давида, – он только что перед всем классом признался, что он КРАДЁТ деньги у дедушки!!! И покупает вот эту вот дрянь!…
Боже, что тут началось! – даже если бы я и попытался возразить, что вовсе не краду деньги у деда, а он сам выдаёт мне деньги на покупку монет с пенсии, меня всё равно никто бы не услышал. Уже со своей парты подала голос толстая и противная Наташка Черняева:
– А ещё он в магазине выпрашивает у кассиров олимпийские рубли! Я сама видела, он ещё мне хвастался!
В этом мелком доносе Черняевой правдой было всё, кроме слова «выпрашивает». Действительно, отправляясь в молочный за покупками, я обязательно спрашивал на кассе, нет ли у кассирши каких-нибудь памятных рублей, а иногда и заходил и в сосседние магазины – в мясной, в «Дары Природы», в «Диету» и в «Кулинарию». Кассирши знали меня, и время от времени, выдавали мне какой-нибудь интересный железный рубль, который я – естественно! – вовсе не «выпрашивал», а честно обменивал на рубль мелочью. А однажды случилось так, что я встретил эту дуру Черняеву в «Диете», и она стала свидетельницей операции по обмену мелочи на какой-то редкий железный рубль – кажется, с Гагариным – и вот теперь она вот так, ни за что-ни про что, возводит на меня напраслину. «Выпрашиваю» я железные рубли!… видимо, за просто так «выпрашиваю»? … Но как мерзко это звучит!…
Вслед за Черняевой, потянулись и другие обличители: все они старались припомнить какую-нибудь гадость, случайную оговорку, или ещё что-нибудь – и, хоть каждый их мелкий донос по отдельности выглядел вполне безобидно, будучи собранные вместе, все эти эпизоды превращались в целое обвинительное заключение. А я стоял, и удивлялся: мне и в голову не могло придти, что всю эту ерунду, о которой я уже сто раз и думать забыл, кто-то вдруг вспомнит и вытащит на свет Божий. А самое смешное – точно такие же претензии можно ведь было предъявить любому из них. Вот Ванька Одношивков: когда в школьной столовой я заявил, что эту дрянь, которой нас кормят, мне противно есть, он не только согласился со мною, но и сам предложил пойти и купить на обед коржики и компот – а теперь этот же Ваня называет меня «неженкой» и обвиняет в том, что я «противопоставил себя классу»… Ну не сволочь ли, а?… а остальные?…
Когда Давиденко подвела итог и вынесла на утверждение приговор, мне уже было всё равно. А приговор был таким: до конца учебного года исключить меня из пионеров и объявить мне недельный бойкот:
– А вот эту вот дрянь, – Давида брезгливо указала на лежащие на учительском столе мои приобретения, – я пока оставлю у себя. Я на днях зайду к Роману домой, – продолжала она уже своим обычным тоном (видимо, воображаемый фельдфебель Вермахта Ганс уже довёл её до множественного оргазма своим раскалённым до-крас-на штыком), – и покажу его дедушке, что покупает Роман на украденные у него деньги. Думаю, после этого дед поговорит с ним по-мужски, – в последних словах явно чувствовался намёк на то, что после её визита дед должен будет устроить мне порку.
– А теперь, Роман, сними свой пионерский галстук, и отдай его мне. Его я тоже принесу к вам домой…
Красную треугольную тряпицу я снял с облегчением: во-первых, это означало, что спектакль, наконец-то, подошёл к концу, а во-вторых… во-вторых, галстук этот меня всегда раздражал – своим нелепым цветом раздражал, а ещё тем, что постоянно выбивался из-под воротника, что концы всё время норовили высунуться наружу… Нет, не любил я носить пионерский галстук! – то ли дело было носить настоящий, тёмный и узкий галстук, как у взрослых!… А это недоразумение? – да заберите на здоровье, Людмила Дмитриевна!
Можете представить, в каком настроении возвращался я домой. Нет, не мифической «порки» я боялся – уж чего в нашей семье не было в заводе, того не было – просто, до меня никак не доходило, что же такое я натворил?! А обиднее всего было то, что мои одноклассники вот так, ни за что, ни про что вдруг отреклись от меня, принялись топтать. Тот же Сашка Гаскин: ведь это он сообщил мне, что «там на остановке дядька продаёт монеты», сам бегал туда вместе со мной – а потом, на этом классном часе, сам вылез сообщать, что я купил свои приобретения за целых пять рублей! Уж кто-кто, а он прекрасно знал о том, что ничего я ни у кого не «ворую», что дедушка сам выдаёт мне деньги на покупку монет – знал, но смолчал. А остальные?… им-то я что такого сделал, чем насолил? Почему? За что?… Погано было на душе.
Дома меня встретили бабушка и дед. Бабушка принялась кормить меня обедом, а дед, отложив книжку, как всегда, поинтересовался, что новенького у меня вшколе. А мне бабушкин суп не лез в рот: я давился слезами от обиды – и тут же, за кухонным столом, рассказал им всё – и про то, как мальчишки встретили на остановке возле «ВостСибУгля» того дядьку, и как прибежали ко мне, и как я купил у этого дядьки монеты и Евангелие – ну, и о том, что из этого всего вышло… К концу рассказа я даже немного успокоился, и душившие меня слёзы так и не пролились – видимо, мне было достаточно просто поделиться с кем-то своею бедой.
Когда я закончил рассказ, бабушка лишь вздохнула и произнесла:
– М-да…
Дед был задумчив. За всё время моего рассказа он не перебил меня ни разу, а когда я закончил, стал задавать мне уточняющие вопросы: попросил подробно рассказать о том, как именно происходила сделка с тем алкашом, отдельно уточнил, действительно ли купленные мною монеты имеют какую-то коллекционную ценность, и сколько бы они, к примеру, могли бы стоить в том же клубе коллекционеров. А когда я очень подробно рассказал ему о каждой из трёх монет – не только описал их внешний вид, но и сообщил, где именно, при каком правителе и по какому поводу они были отчеканены, дед посмотрел на бабушку, и произнёс:
— Вера, принеси альбом, – и, обернувшись ко мне, продолжил: – А ты, Роман, неси-ка сюда свою шкатулку с монетами…
Когда я вернулся на кухню со шкатулкой, на кухонном столе лежал новенький монетный кляссер – альбом с прозрачными страницами, состоящими из кармашков разного размера, в которые можно было составлять монеты. В коллекционерском клубе, у взрослых моих коллег-собирателей, были именно такие альбомы, и кляссер был моей хрустальной мечтой – но увы! – в Иркутске тех лет купить кляссер было, попросту, негде.
– Мы с бабушкой хотели подарить тебе альбом на День Рождения, – обратился ко мне дед, – бабушка ещё зимой попросила Ирину Викторовну купить его в Москве. Но, поскольку ты стал уже таким серьёзным коллекционером, что умудряешься приобрести столь ценные монеты, то мы думаем, что ждать до Дня рождения не имеет смысла. Главное – чтобы сейчас всё твоё собрание поместилось в этот альбом. Как ты думаешь, поместятся туда все твои монеты?
Монет, самых разных, у меня к тому времени набралось уже около двух сотен – для начинающего нумизмата очень даже солидное собрание! – но альбом, рассчитанный на тысячу единиц хранения, попросту «съел» их все, не подавившись. Впрочем, это случилось уже вечером, когда я, наконец, закончил переставлять в нём свои сокровища и так, и этак. А пока, вручив мне альбом и успокоив меня, дед произнёс лишь:
– Ну, а теперь мы будем ждать, когда к нам придёт эта твоя… как её?… Дмитриевна? – вот и подождём, пока Дмитриевна принесёт нам наши монеты и книгу. Ты, Роман, кстати, расставляй в альбоме монеты с учётом того, чтобы для тех, что ты купил сегодня, тоже места были.
Был конец учебного года, на улице уже во всю пробивалась майская зелень, я продолжал ходить в школу. Вместо пионерского галстука у меня на шее был строгий чёрный галстучек на резинке: узнав о моём отчислении из рядов «внучат Ильича», мама принесла откуда-то этот галстук, который, как оказалось впоследствии, был форменным галстуком авиаторов. Все те дни, что я провёл в ожидании визита класснухи, мои дражайшие одноклассники усиленно бойкотировали меня – выражали ей таким образом свою лояльность. Впрочем, были среди них три-четыре человека, которые плевать хотели на этот бойкот, и продолжали общаться со мной, как ни в чём не бывало: это была моя соседка по парте Юлька Кокорина, и ещё пара-тройка наших хулиганов. Так что, в общем и целом, жить было можно.
Давида заявилась к нам на второй или третий день, под вечер:
– Пришла поговорить с вами о вашем сыне и внуке, о том, что его ждёт… – многозначительно произнесла она с порога, — он, наверное, ничего не рассказал вам, но ребята в классе объявили ему бойкот! Ведь он крадёт из дома деньги – мы заставили его признаться в этом на классном часе!