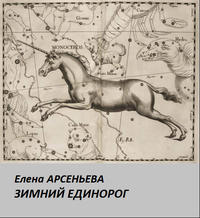Полная версия
Наследство колдуна
Однако ее ожидало разочарование. Там оказались только заметки Артемьева о его поездке в какой-то совершенно неинтересный Марианне Саров.
Может показаться странным, почему эта особа, столь же трусливая, сколь и неосторожная, не выбросила эти бумаги, едва заглянув в них. Ведь в них встречались замечания, настолько откровенные и опасные, что я счел бы их за провокацию, если бы услышал от самого Артемьева! Думаю, Марианна именно из страха не показала их Бокию. А впрочем, кто его знает, Артемьева! Возможно, он наложил на эти записи некое магическое заклятие, которое вынудило его дочь исполнить предсмертный приказ отца. От Артемьева можно было ожидать чего угодно…
Чтобы можно было лучше понять дальнейшее, я должен рассказать об этом человеке подробнее.
Его тайные способности были сильнее, чем мои, – хотя бы потому, что Артемьев не боялся убивать. Может быть, это ему даже нравилось. Я вспоминаю, как давно, еще в Сокольниках в 1918 году, Лиза однажды сказала мне: «Тебе трудно даже представить, что человека можно убить мгновенным излучением своей духовной силы, убить с помощью гипноза или телепатии, – ты к этому не готов. А они готовы! У них уже есть опыт уничтожения людей! И они не остановятся ни перед чем, чтобы победить».
Артемьев был именно из таких людей. Пусть его уже нет на свете, пусть я узнал о нем поразительные, потрясающие вещи, – я все равно не прощу ему минувшего! Не прощу того, что он совершил ночью 31 августа 1918 года, и того, что сделал с нами!
Мы с Лизой были заложниками Артемьева. Несколько лет он держал мою жену под своим страшным гипнотическим контролем, внушив, что за пределами Садового кольца ее ждет смерть. Однажды, уже летом 1919 года, мы решили вдвоем съездить в Сокольники, чтобы побывать на том месте, где некогда началась наша любовь. Но как только извозчик пересек Садовую-Спасскую и двинулся дальше по Домниковской к Каланчевской площади, Лиза потеряла сознание. У нее прерывалось дыхание, останавливалось сердце… Я сорвал голос, так кричал на извозчика, чтобы он скорей поворачивал. Стоило нам вернуться в пределы кольца, как Лиза начала дышать и очнулась.
Артемьев не скрывал, зачем сделал это.
Еще в восемнадцатом, сразу после гибели отца Лизы и моего учителя, Николая Александровича Трапезникова, едва поправившись после ранения, я сбежал из госпиталя и от охраны, которую ко мне приставил Артемьев. Лиза тогда лежала в одной частной психиатрической клинике в Гороховском переулке. Артемьев очень боялся, что я вообще исчезну из Москвы, но я Лизу никогда бы не бросил! Я прибился к беспризорникам, которые обитали в асфальтовых котлах на Садовой-Черногрязской – как раз неподалеку от Гороховского переулка. Меня заметили, не знаю кто (не удивлюсь, если это был Павел!), и поймали во время облавы.
Артемьев тогда заявил: если я снова исчезну, то Лиза отправится в тюрьму как дочь и пособница человека, замешанного в двух покушениях на Ленина. Ее сразу поставят к стенке.
Я поклялся, что не сбегу. Если бы речь шла только о моей собственной жизни, я, конечно, попытался бы, но жизнью Лизы я рисковать не собирался ни за что. Однако Артемьев не мог вечно держать ее в больнице. К тому же он боялся меня. Мое здоровье восстановилось, а значит, восстановились и способности «бросать огонь». Артемьев не сомневался, что я попытаюсь его если не убить, то ранить, чтобы мы с Лизой могли скрыться. Этого он допустить не мог. Ему нужны были ее способности медиума! И он Лизе внушил под гипнозом этот страх смерти…
Теперь нам ничего не оставалось, как согласиться сотрудничать с Артемьевым.
Именно в те годы он начал заниматься организацией Спецотдела, который носил совершенно безобидное название шифровального.
У большевиков не было надежной системы шифровки секретных сообщений, а уж о том, чтобы находить ключи к чужим, речи вообще не шло. Поэтому Артемьев привлек к работе некоторых криптографов (специалистов по шифровке и дешифровке), которые служили еще в Третьем отделении императорской полиции и чудом остались живы после революции. С этого все и началось.
Однако с еще большим старанием Артемьев продолжал разрабатывать свою идею о внедрении коммунистических идей в массы с помощью оккультных действий и массового гипноза. Он искал помощников, причем не только таких, как я, которые работали с ним лишь потому, что он держал их за горло мертвой хваткой, но и тех, кто готов был сотрудничать с ним добровольно. Для этого ему и нам всем приходилось буквально по улицам разыскивать подходящих людей.
Что и говорить, в Москве всегда обитало много всевозможных знахарей, шаманов, доморощенных чревовещателей, гадателей по рукам, фокусников, медиумов, гипнотизеров и спиритуалов, на каждом углу видевших призраков. После революции – как всегда в смутные годы! – количество их увеличилось. О таких людях ходили таинственные, порою баснословные слухи – вот по этим слухам их и выискивали. Очень многие из них оказывались истинными шарлатанами, однако встречались и весьма ценные личности, которых брали на работу в отдел. Но сначала их проверяли Артемьев и Барченко[13], для чего в доме номер 1 в Фуркасовском переулке, где тогда размещался Спецотдел, существовала особая лаборатория под названием «черная комната». Там Барченко с успехом применял свои способности к яснослышанию. Он сам придумал этот термин и называл им тот дар, который помогает человеку общаться с потусторонним миром с помощью и сознания, и сверхсознания, то есть интуиции.
Именно Барченко подтвердил, например, таланты Валентина Смышляева. Он в то время организовал и возглавил театральный отдел в московском отделении Пролеткульта и поставил вместе с Сергеем Эйзенштейном спектакль «Мексиканец» по произведению американского писателя Джека Лондона. Мы с Лизой попали на этот спектакль по приказу Артемьева, до которого дошли какие-то странные слухи о необъяснимом успехе довольно средней постановки. Фактическим режиссером ее был Эйзенштейн, который в программке значился всего лишь как художник-декоратор. Однако мы сразу поняли, что триумф спектакля держится на гипнотических способностях Смышляева. Он внушал зрителям, что перед ними разворачивается гениальное зрелище. Потрясающее самомнение Эйзенштейна тоже работало на успех!
После спектакля мы дождались Смышляева, заговорили с ним. Едва увидев нас, он впал в транс и забормотал что-то о страшном голоде, который вскоре, летом 1921 года, начнется в Поволжье, на Южном Урале, на Украине и во время которого погибнет пять миллионов человек.
Это было страшно, в самом деле страшно даже для меня, мужчины, а Лиза была почти в обмороке.
Мы немедленно сообщили Артемьеву о встрече со Смышляевым. Его проверил Барченко и подтвердил наличие особых способностей. А жизнь подтвердила истинность его пророчества… и этого, и некоторых других.
Смышляев продолжал работать в театре – в Первом МХАТе, потом во Втором, – сотрудничал как режиссер с Московской консерваторией, однако оставался нештатным сотрудником Спецотдела. Бокий, пришедший на смену Артемьеву, и боялся пророчеств Смышляева, и жаждал слышать их снова и снова. Чтобы стимулировать его талант, Бокий приучал его к наркотикам. Это подорвало здоровье режиссера, и он умер в 1936 году.
А мы с Лизой, беспрестанно контролируемые Артемьевым, продолжали поиски спиритуалов и медиумов.
Как-то мы узнали о некоем кружке, который назывался «Общество исследования психизма»[14]. Обосновался кружок на Сивцевом Вражке, в квартире некоей дамы «из бывших». Это выражение тогда сделалось очень модным и прижилось надолго! Дама принадлежала к числу тех чудом выживших в революционных бурях старушек, благодаря которым Страстной и Гоголевский бульвары просыпались раньше прочих улиц. Ни свет ни заря на эти бульвары из Московского, Хлебного, Скатертного и других переулков выползали этакие обломки прошлого в мантильках и вуалетках – выгуливать своих очень злобно и очень громко тявкающих тонконогих собачонок.
Основательница упомянутого общества славилась как провидица. Нет, она не умела предвидеть пертурбации в жизни государств, однако довольно точно предрекала будущее отдельных лиц после того, как подержала в руках какую-то их вещь или просто сжала их пальцы. Тогда она закрывала глаза, как бы впадая в транс, и медленно пророчествовала, причем почти так же туманно и поэтично, как Нострадамус, о котором мне рассказывал еще Николай Александрович Трапезников. Ее адепты внимали с благоговением и потом старательно искали сходство пророчеств с реальностью. И снисходительно прощали «пифию с Сивцева Вражка», если ничего не находили.
– Она великолепно умеет пускать пыль в глаза, – сказала Лиза смеясь, когда старушка предсказала ей затянувшееся девичество и только после пятидесяти лет брак с богатым и важным генералом. – Ей очень хочется верить!
– Хочется? – помнится, буркнул тогда я довольно угрюмо. – Напрасно!
К этому времени Лиза уже была замужем за мной; богатым и важным я никогда не был и стать не смог бы, а генералов в России и днем с огнем ни тогда, ни теперь не сыскать[15]. Кроме того, я отчетливо помнил сон, приснившийся мне еще давно, когда Трапезников на даче в Сокольниках окуривал нас дымом от сожженных лавровых листьев, чтобы пробудить способности к предвидению. И предсказание самого Николая Александровича я прекрасно помнил – сделанное им в 1915 году на Арбате: о том, что я буду убит людьми в черном, не дожив до сорока. А если верить моему сну, вместе со мной будет убита Лиза. Так что старушенция-пророчица нагло врала!
Точно таким же шарлатаном оказался еще один предсказатель – на сей раз не чьего-то счастливого будущего, а конца света, найденный Павлом Мецем где-то на Кузнецком Мосту. Предсказатель сообщал, что видит высунувшуюся из облаков руку со стиснутым кулаком, которым рука сначала всем грозит, а потом разворачивает пергамент с надписью: «Россию скоро ждет небывалый вселенский мор!»
Артемьеву сообщил об этом Павел. Однако Лиза, присутствовавшая при этом, язвительно заявила, что совершенно такой же случай приключился лет пятьсот назад с Джироламо Савонаролой[16], о чем и написано в книгах о нем. Правда, Савонарола уверял, что небывалый вселенский мор ждет не Россию, а Италию.
Артемьев заявил, что этот обман подразумевает немалую образованность, и захотел познакомиться с обманщиком поближе. «Савонарола» оказался бывшим профессором-биологом Шварцем, который в свое время ставил опыты по передаче мыслей на расстоянии. Он истосковался по работе и охотно согласился сотрудничать со Спецотделом, заодно назвав своих лучших учеников, некоторых из которых Артемьеву тоже удалось привлечь к работе…
Мы с Лизой никак не могли понять, почему Артемьев, который в 1918 году хладнокровно руководил операцией по уничтожению самых сильных оккультистов России, теперь с бору по сосенке собирает в Спецотдел их жалкие подобия. Неужели раскаялся в том, что сделал? Мы не верили в его способность к раскаянию! Однако вскоре я понял, какие стремления вели его. Артемьев хотел создать свой отряд оккультистов, которые были бы заведомо слабее его, способности которых он мог бы полностью контролировать: стимулировать или ослаблять, в зависимости от того, что считал нужнее. Эти люди должны были подчиняться только ему. Артемьев завоевывал их преданность тем, что грудью заслонял от репрессий и подкармливал усиленными пайками. В большинстве своем сотрудники Спецотдела по качеству способностей и в подметки не годились тем, кто обагрил своей кровью исчерченный «латинскими квадратами» пол чердака одного из домов в Сокольниках. Однако кое-какими талантами они все же владели, и все эти их таланты Артемьев сумел подчинить себе, а значит, и новой власти, которой он служил.
Я начал читать его бумаги, переданные мне Марианной, недоумевая и не доверяя его неожиданной откровенности. Похоже, Артемьев сам был настолько изумлен случившимся, что писал о себе в третьем лице, как бы пытаясь взглянуть на то, что произошло в Сарове, со стороны, или вообще отстраняясь от того, что совершил. Однако подлинное значение его рассказа стало мне понятно позднее, когда я сам побывал в Сарове в 1927 году. Именно поэтому я эти заметки и сохранил.
Горький, 1941 год
В один из теплых августовских дней Ольга Зимина, по мужу Васильева, стояла на углу Советской площади, напротив кремлевской стены, держала на руках четырехлетнюю дочь и смотрела на вереницу автомобилей, поднимавшихся по Зеленскому съезду и сворачивающих на Университетскую улицу, по которой можно было проехать на Сенную площадь, а оттуда – на Казанское шоссе. Этой дорогой автомобили добирались и до самой Казани, и до Куйбышева[17], и до Уфы, и дальше, на Южный Урал, – да куда угодно, только бы подальше от Москвы, подальше от войны! Слова «эвакуация» и «эвакуированные» уже вошли в обиход…
В машинах сидели люди с испуганными, усталыми лицами. Кузова были загромождены запыленными пожитками. Однако немало проходило и легковых автомобилей, из которых выглядывали мужчины весьма важного вида – как говорится, ответственные товарищи.
«Странно, – подумала Ольга, – почему среди эвакуированных так много мужчин? Да еще призывного возраста! Им бы родину защищать…»
А не придется ли и ей с Женей из Горького уезжать? Некоторые знакомые уже подались в Сибирь, к родне, но у Ольги нигде никакой родни нет, ехать ей некуда.
До чего же тревожно на сердце! Всё как-то пусто и безутешно…
Говорят, иностранные посольства уже перебрались в Куйбышев; туда же якобы собиралось эвакуироваться правительство. Слухи в народе передавались самые страшные, причем многие исходили из вражеского лагеря, из тех листовок, которые разбрасывали с фашистских самолетов. Но листовкам верили. А чему еще оставалось верить? Сводки Информбюро были до того скупы и неопределенны, словно их составители нарочно пытались не рассказать об истинном положении на фронте, а скрыть его, причем как можно тщательней.
– Живем совершенно впотьмах! – ворчали люди. – Боятся нас напугать сводками Информбюро, что ли? Так ведь лучше знать правду! Неужели все и в самом деле так плохо, как рассказывают немцы в своих листовках?
А уж сколько говорили о том, что происходит в самом Горьком! Сначала сюда переправили из Москвы отряд метростроевцев. Потом милиционеры очистили от жильцов почти все дома на набережной имени Жданова – красивейшей улице города с роскошными домами, как оставшимися с былых времен, так и построенными в том классическом и монументальном стиле, который называли «сталинским ампиром». Закрылась гостиница «Центральная», все вокруг огородили, а под Откосом начали копать тоннель. Для чего? Секретом это оставалось недолго, и скоро даже малые дети в Горьком знали, что здесь строится бункер для Сталина – объект № 1.
С одной стороны, то, что в Горьком разместится вождь, обнадеживало: значит, город ни за что не сдадут. С другой стороны, это ужасало: значит, сдадут Москву?!
По слухам – опять же! – столицу бомбили каждую ночь. Горький пока не трогали, но чуть ли не с самого начала войны над ним мелькали фашистские самолеты, иногда пролетая так низко, что можно было рассмотреть лица пилотов, которые с каким-то совершенно невоенным, туристическим, исследовательским интересом рассматривали кремль.
Это наводило ужас! Но еще страшней Ольге было вспоминать, как на мостике, над вокзальной платформой, стояли, перевесившись вниз, женщины с детьми, провожавшие на фронт мужей, и не плакали, а выли от горя и отчаяния…
Василий, прощаясь, уже с вещмешком, похудевший и в какой-то нелепой и отчаянно не идущей ему военной одежде, умолял Ольгу не приезжать на вокзал – пожалеть и себя, и его. Она пообещала. Но все равно приехала, хотя к его вагону не подошла: стояла на том мостике над железнодорожными путями и плакала так, как не плакала никогда в жизни. Вернулась без единой силушки от этих слез и успокоилась только тогда, когда взяла на руки Женю.
Вот и сейчас – защемило сердце от воспоминаний, и Ольга покрепче прижала девочку к себе. Та положила голову ей на плечо, теплое дыхание коснулось Ольгиной шеи – и стало полегче.
Женей звали ее и Васильева приемную дочь. Как-то так вышло, что у Ольги не было на этом свете ничего собственного: жила в чужом доме, замуж вышла за вдовца, а ребенка нашла на Сретенском бульваре в Москве. Женя была тогда еще совсем крошечная, дней десяти от роду, однако Ольга твердо знала, что нет в ее жизни более важной цели, чем заботиться об этой девочке. Иногда Ольге казалось, что это было ей кем-то приказано… ей виделись какие-то убитые мужчина и женщина… потом эта женщина с родинкой в уголке рта – точно такой же, какая была у Женьки! – не раз являлась Ольге в снах и видениях, подсказывая, что делать в самые трудные минуты. Шло время, события той летней ночи 1937 года вовсе затуманились, но самозабвенная любовь к найденной девочке оставалась главным в жизни.
Сколько Ольга перенесла ради нее! Бежала из Москвы в Горький, скиталась бездомной, потом нашла приют в тайном борделе Фаины Ивановны Чиляевой, а чтобы их с Женечкой не вышвырнули на улицу, отдалась племяннику хозяйки, Анатолию Андреянову… На что она только не была готова ради этого ребенка! Однако Андреянов возненавидел Женю – и выкрал ее у Ольги, а затем тайно подкинул в дом своих дальних родственников Васильевых, у которых незадолго до этого умерла новорожденная дочь. Но Ольга каким-то чудом все же нашла этот дом! Явилась к Васильевым, и те взяли ее нянькой к Жене, потому что милая Ася, Анастасия Степановна Васильева, совершенно не умела управляться с детьми.
Всё вроде бы чудесно устроилось, да вот только Андреянов не оставлял Ольгу в покое и грозил рассказать Васильевым, что она была проституткой. Конечно, в таком случае Ася и Вася (так Ольга про себя называла своих милых, удивительно интеллигентных и чистых душой хозяев) ее и близко к Жене не подпустили бы! И тогда, действуя словно бы по чьей-то неведомой подсказке, Ольга написала донос на Андреянова, который служил начальником крупной снабженческой организации и не раз похвалялся своими удачными махинациями. Его арестовали; Ольга вздохнула спокойно, но ненадолго! Андреянов на допросе оговорил Васильева, и тогда забрали и его.
Ася тяжело заболела с горя, и Ольга, с Женей на руках, пошла, по совету добрых людей, просить милости у всесильного Юлия Моисеевича Кагановича, первого секретаря обкома. Тот с первого взгляда был очарован крохотной Женей, пожалел ее. И произошло чудо: Василия Васильевича из тюрьмы выпустили! Вот только сердце бедной Аси, которое надорвалось от горя, радости уже не выдержало…
Через год после ее похорон Василий Васильевич женился на Ольге, и они удочерили Женю. Теперь Ольга наконец могла назвать официально своей дочерью эту девочку, которая и так была для нее центром Вселенной! Женя обожала и ее, и Василия Васильевича, но вот что странно – ни разу не назвала их мамой и папой, а звала Лялей и Васем. В Лялю она перекрестила Ольгу, а имя «Вася», видимо, казалось ей недостаточно мужественным, так что теперь приемный отец звался лаконично и весомо: Вась. Каким образом постигла Женя, что эти люди – не ее родители, неведомо, однако она вообще была девочка непростая, порою даже странная. Как вспомнишь…
Загадочно, впрочем! Стоит Ольге попытаться вспомнить о Жениных странностях, как на ум приходят только какие-то затуманенные, бессвязные обрывки. Зато как ясно вспоминается их с Василием и Женей прошлогодняя поездка по Волге от Горького до Астрахани на огромном пароходе, и шлюзы, и предрассветная тишь, и шелковая волна огромной реки, и солнечные блики на воде… Как хорошо они жили, как счастливо! Но вот – война! Муж пишет из армии: «Ты знаешь, что я раньше боялся заколоть курицу и даже жалел ее. А теперь немца как увижу убитого – радуюсь, и сам с удовольствием стреляю в фашистов. Вот как меняет жизнь человека! Кончится война, если останусь жив, приеду домой, и все это будет казаться дурным сном…»
Кончится война! Да когда же она кончится?! Пока что наша армия только отступает.
…Женя, доселе смирно сидевшая на Ольгиных руках и даже, кажется, придремнувшая, вдруг встрепенулась и так резко дернулась вперед, что Ольга чуть ее не уронила.
– Что ты, тише, свалишься! – испуганно воскликнула Ольга, однако девочка замерла, неотрывно глядя на «эмку»[18], которая в эту самую минуту вдруг зачихала, задымила мотором – и остановилась прямо напротив них.
Шофер выскочил, открыл капот, из которого повалил пар, суетливо всплеснул руками, сунулся в багажник, выхватил брезентовое ведерко, завопил:
– Люди добрые! Где тут воды можно набрать?
– Вон там колонка, – махнула рукой Ольга. – За углом, метров сто.
– Метров сто?! – взвизгнул полный мужчина, сидевший на переднем сиденье. – Да мы загоримся!
И он с проворством, совершенно неожиданным для его корпуленции, буквально вывалился из машины.
С заднего сиденья из обеих дверец выскочили еще двое мужчин, правда, довольно худощавых, и стремительно отбежали подальше. Однако там остался еще кто-то сидеть.
Мужчины, оказавшись на приличном расстоянии, вдруг спохватились, обернулись, и толстяк крикнул:
– Тамара Константиновна! Что же вы сидите?! Выходите скорей, а то машина взорвется!
Из машины никто не показывался. Может быть, этой женщине плохо стало?!
Женя резко обернулась и взглянула Ольге прямо в глаза.
Та растерянно моргнула, потом поставила девочку на тротуар и строго сказала:
– Стой здесь, слышишь? Ни с места!
Женя кивнула.
Ольга подскочила к машине и заглянула в салон.
На заднем сиденье она увидела молодую женщину с ребенком на руках. Мальчик лет четырех мирно спал, положив темно-русую голову ей на плечо.
– Что же вы сидите?! – крикнула Ольга испуганно, однако осеклась, когда женщина приложила палец к губам и извиняюще улыбнулась:
– Тише, пожалуйста. Сын только что уснул. Прямо вот пять минуточек назад. Он за дорогу измучился весь, пусть отдохнет.
– Там в моторе что-то дымится, – нервно прошептала Ольга. – Надо вылезать, а то мало ли… Сделаем так: я его возьму осторожненько, а потом вы выберетесь. Хорошо?
Женщина взглянула на нее черными испуганными глазами:
– Ну давайте попробуем.
Ольга просунулась в автомобиль и потянула к себе ребенка. Он спал крепко, приоткрыв розовый ротик, чуть хмурясь во сне, и, похоже, просыпаться пока не собирался.
Ольга вытащила его, положила тяжелую со сна голову себе на плечо. Сердце ее радостно встрепенулось от этой сонной тяжести. Было в ребенке что-то до такой степени родное… Невольно слезы навернулись на глаза. Даже запах его казался родным! Ольга не удержалась и осторожно коснулась губами теплого виска с вспотевшими волосиками.
Из расстегнутого ворота рубашки мальчика выскользнул медный крестик и повис, качаясь на черном шелковом шнурке…
Ольга попятилась, чтобы мать ребенка могла, наконец, выбраться из машины, внезапно наткнулась на что-то, чуть не упала, обернулась – и вскрикнула испуганным шепотом:
– Женька! Ты что? Ты почему? Я тебе где велела стоять?!
– Там, – небрежно махнула рукой Женя, закинув голову и зачарованно глядя на спящего мальчика.
– Почему ты не слушаешься? – сердито шипела Ольга.
– Потому что Саша, – сказала Женя с таким выражением, как будто это все объясняло.
– Какая умная девочка, – послышался рядом голос, и Ольга, покосившись, увидела мать мальчика, которая уже выбралась из машины, однако еще придерживалась за дверцу, нетвердо стоя на затекших ногах. – Откуда ты знаешь, как зовут моего сына?
– Кого? – изумленно спросила Женя, смешно поднимая бровки.
– Ну, этого мальчика, – улыбнулась женщина. – Откуда ты знаешь, что его Саша зовут?
– Знаю, – серьезно ответила Женя.
– Может быть, ты даже знаешь, как меня зовут? – усмехнулась женщина.
– Нет, – покачала головой Женя. – Зато я знаю, что ты очень красивая!
И она восхищенно улыбнулась.
Черноволосая и черноглазая, с длинными ресницами и точеными чертами, смуглая, эта молодая женщина казалась сказочной царевной. Вдобавок одета она была так, что любое творение лучших горьковских закройщиков (а с их работой Ольга в былые времена неплохо познакомилась, так уж сложилась судьба!) казалось скучным и бесцветным. А туфли-то, матушка родная! Шелковые накладные банты, высоченные тоненькие каблуки…
Артистка, что ли, которую увезли в эвакуацию прямо с концерта?
Ольга мигом почувствовала себя бесцветной замарашкой, однако завидовать этой сияющей красоте было невозможно: она не ослепляла своим блеском, а согревала.
– Меня зовут Тамара, – сказала красавица. – Тамара Морозова. А вас как зовут? – Она переводила взгляд с Ольги на девочку.
– Это Ляля, – показала пальчиком та. – А я – Женя!
Она выкрикнула свое имя во весь голос, и мальчик на руках Ольги всполошенно вскинулся, открыл глаза.
– Ах, проснулся! – всплеснула руками Тамара. – Сашенька, не бойся, я здесь.
Однако он вовсе не казался испуганным. Огляделся затуманенными со сна глазами, мельком улыбнулся Тамаре, с интересом посмотрел на Ольгу – и тут увидел Женю, которая стояла, закинув голову, и неотрывно таращилась на него.