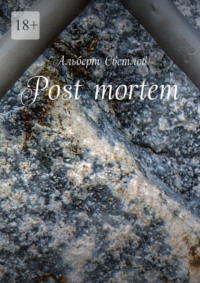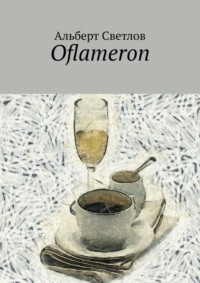Полная версия
Целуя девушек в снегу
– Дудки! Поздно. Вон и ломбард давно работает. Вам пора, компьютерный гений, владыка виртуального мира…
– О, сударыня, Вы невероятно предусмотрительны. Позволите ли проводить Вас, моя очаровательная барышня?
– Ни в коем случае, мой господин.
– Но вы уверяли, моя принцесса…
– Нельзя, о, повелитель!
– Вы изъясняетесь загадками, миледи!
– Напротив, милорд. Отгадками. Имеющий уши, да услышит! Чтобы получить внятный ответ, надо задать понятный вопрос. Понятный, не только отвечающему, а и вопрошающему.
Я потрогал свои уши:
– Не отвалились, кажись! А не слышу.
Лина хихикнула, и погладив, напоследок, привыкшую к ней лошадку, вздохнула, выхватила у меня из кармана перчаточки, поставила поняшу туда, откуда взяла её в начале беседы, и громким шёпотом обнадёжила потускневшего пони:
– Лили, не грусти. Хозяйка тебя непременно отыщет. Обещаю.
– Уже всё, моя королева?
– Да, мой король!
– Мне кажется, я догадываюсь, кто ты… Это ты спасла меня, когда Пострелова и Задова едва не прибили? Ты… Я чудом не пострадал. Ни на йоту… Киряева, услыхав о потасовке, объявила, что у меня сильный ангел—хранитель…
Лина протестующе подскочила и покраснела:
– Ты обольщаешься… Действительность гораздо сложнее. И проще.
– Неужели тебя не существует в принципе?
– Реши ты, что меня не существует, и мы более не увидимся…
– Должно быть, у меня шиза, и ты есть исключительно в моей башке, и разговариваю я с Каспером, с добрым и отзывчивым привидением из диснеевского мультика. Филиппович, мой институтский кореш, обзывал Каспером преподавателя по Средневековью Азии и Африки.
Лина несколько секунд молча созерцала мой жуликоватый оскал. Затем, отреагировала очевидностью на каверзу:
– Я по—прежнему буду являться тебе, независимо от того, втемяшишь ты себе, что я есть, или что меня нет. Не отделаешься!
– Настырные нынче призраки. Форменная семейка Аддамс. А тебя видят другие?
– Видят.
– Постоянно?
– Когда я с тобой.
– А ты не всегда со мной? Ведь ангел…
Лина оборвала:
– Ты заблуждаешься, Сергей. Я объясняю, разжёвываю… А ты не слушаешь!
– Лина, ты умеешь читать мысли?
– Твои?
– Хотя бы…
– При условии, что ты не возражаешь.
– То есть, ты можешь перелистать книгу в моих мыслях?
– Нет, любимый. Исключено. Она там не помещается, – Лина прыснула в кулачок.
– А! Ты – не волшебница! Ты – учишься!
– Максимов! Я в сотый раз упаду из—за тебя! Щас же перестань третировать и пытать несчастную девушку.
– Тебе открыто будущее?
– Чьё?
– Ну… моё… наше…
– Да.
– Поделиться, бесспорно, не дозволено…
– Оно, вообрази, неустойчиво, но ты не так глуп, как видится на первый взгляд, Максимов!
– Я борюсь с внутренней ленью, обломовщиной и невежеством, расту над собой, развиваюсь! А чумовые фокусы ты показываешь? Это… по воде аки по суше…
– Ты дебил?
Я притворился до крайности оскорблённым:
– Чего я сказал—то? Чуть что, сразу: «дебил, дебил». А ты не от этого? – я растопырил пальцы рожками и инфернально заухал филином. – «Князем мира сего именуют его»…
Ворона, испуганная моим гоготом, взлетела и пристроилась на вершине фонаря.
– Увы, Максимов. Я промахнулась. Ты, лишь стараешься казаться умнее! А на практике, намного дурнее. Ещё фигню скажешь, я с тобой знаешь, что сделаю?!
– Знаю! Поцелуешь.
Мы стояли у приотворённых дверей комиссионного. В проёме возник молодой лысеющий парень с картриджем и дисками, в свитере с узорами под морские волны, и без шапки.
Он поразительно смахивал на моего одноклассника Алика Светлова, застенчивого тихого троечника и доморощенного философа, фальшиво насвистывал мелодию, отдалённо напоминающую хит из репертуара Джо Дассена:
«Et si tu n’existais pas,j’essaierais d’inventer l’amourcomme un peintre qui voit sous ses doigtsnaître les couleurs du jour,et qui n’en revient pas.»4«На машине приехал. „Тачка“ за углом стоит».
– Дурачок. Глупенький дурачок! И почему я люблю тебя? А, дурачок ты мой?
Лина прижалась ко мне, глядя снизу—вверх и часто—часто моргая, словно ей под ресничкой колола соринка.

Рисунок Виктора фон Голдберга
– Сама утверждала: «Любят не за что—то, любят просто так». И на плёнку это записала.
– И не отрекаюсь от сказанного… Приглашай меня почаще, хороший мой. Ты не представляешь себе…
– Представляю себе. Я позову. Конечно, позову. Я хочу окунуться в прошлое, докопаться до причины…
– Когда—нибудь… К твоему сведению, есть причины, до которых докапываться рискованно для здоровья…
– Ладно. Лети. До встречи, моя ласточка.
– До встречи, золотко!
– «Милая моя, возьми меня туда… Там в краю далёком буду тебе…»
– Без раскаяния? И без сожаления?
– Без малейшего…
– Не жги все мосты… Мартовские иды враждебны к талантам… Прости…
– Сайонара!
Я шагнул в полутёмный коридор, закрыл за собой дверь, но поддавшись нахлынувшему порыву развернулся, нажал на ручку и выглянул на улицу.
Лины ускользнула. Только ворона неумолимой мойрой восседала на гараже. К горке вразвалку шли женщина в красной лыжной курточке и лёгкой вязаной шапочке, да мальчик лет пяти—шести в сиреневом зимнем комбинезоне с рябой колючей шалью, дважды обмотанной вокруг шеи, тащивший на бельевой верёвке недорогой снегокат. На сиденье подрагивало малиновое ребристое пластиковое ведёрко с торчащей из него жёлтой лопаточкой. Оно опасно покачивалось и норовило свалиться вниз, если ребёнок резко дёргал за шнур.
1В. А потом – рюкзак с котом…
Тридцать миль назад я гнал свой байк в закат,
И встречал рассвет у дальних берегов.
Тридцать миль назад без денег был богат,
Верил людям, жил без страха и оков.
DolmanoV.
Через несколько дней после выпускного я вместе с Ложкиным поехал в институт сдавать корочки, необходимые для поступления. По—моему, стоял понедельник, но так ли важно сейчас название того дня, когда мы с ним, приобретя в кассе билетики за восемьдесят копеек, прямоугольные жёлтые кусочки бумаги, испещрённые машинными циферками аппарата, в 12:30 залезли в оранжевый «Икарус», где тёплые поручни смотрелись желтоватыми от покрывавшей их дорожной пыли? Что сейчас значит наименование канувшей в Лету даты? Она ценна не более той питерской пыли, липнущей к нашим потным полудетским ладоням. Никто, кроме меня и не вспоминает о ней. Ни для кого, за исключением меня, она не имеет никакой святости.
Вопреки жаре и здравому смыслу, на ноги я нацепил хорошо разношенные коричневые туфли, в коих я недавно ходил в школу, а на плечи накинул серый костюмчик, ценимый за искусство скрадывать мою вопиющую худобу, нескладность и угловатость, а также за наличие карманов, по которым я и рассовал деньги и документы. О мужских барсетках в Питерке на заре 90-х и не слыхали. Жёсткий аттестат о среднем образовании, паспорт и «военник» покоились в левом внутреннем нагрудном кармане, синяя обесценивающаяся «пятёрка» – в правом. В боковые я сунул картонную пачку «Космоса» и спички. Верхние пуговицы свежей кремовой сорочки с твёрдым воротничком, были расстёгнуты. Я без стеснения водрузил на переносицу свои очки с толстыми линзами, побрился отцовской электробритвой, брызнул на шею и подбородок туалетной воды, и предпринимал нешуточные усилия, чтобы не расчёсывать зудящую кожу. Не в пример мне, Веня щеголял в светлой клетчатой безрукавке, в лёгких брючках, и в медового цвета, невесомых брогах. Ложкин настоятельно советовал мне снять «кафтан», как он выражался, но я, стесняясь своего заморённого вида, упорствовал.
В урочный час автобус со сдвинутыми до половины форточками и распахнутыми люками, что создавало некое подобие сквозняка, тяжело отъехал от остановки, а я стал, хотя, мне и предстояло прожить в деревне, минимум, месяц, прощаться с идиллическими и незатейливыми, исхоженными вдоль и поперёк улочками Питерки, жадно всматриваясь в разнокалиберные домики с типовыми шиферными крышами и резными наличниками, в поленницы, неказистые бани. И проводил телячьим взглядом наше обиталище с почему—то растворёнными настежь воротами. За ними мелькнул тротуарчик из брошенных на траву длинных досок, соседская бочка у акации, жёлоб на проволоке.
Под гам в салоне, под шум двигателя, я с тоской крутил башкой, в водовороте дискомфорта цепляясь за привычные образы, предметы. Для Ложкина подобные туры давно переросли в обыденность, и он недоумённо за мной наблюдал, похоже, не понимая тинистой тревоги в моей душе, и списывая нервозность на визит в приёмную комиссию. Но об этом я размышлял меньше всего. Неведомый ловец подсёк меня, я бессильно трепыхался у него на леске. Мошка в переслащённом ягодном вине.

Рисунок: Виктор фон Голдберг
Глядя в непромытое стекло с изображённой по слою пыли неизвестным остряком ехидной рожицей с топорщащимися на макушке волосиками, подставляя лицо ветру, грубо пристававшему к моим отросшим льняным космам, я, точно в парную воду Светловки, погрузился в воспоминания.
Вот дощатая дверь книжного. Она открыта, но теперь мне не взбежать на невысокий порожек. За магазинчиком – кирпичные развалины бывшей милиции. Здесь пока не разместили торговые точки и склады.
Скользнула библиотека для взрослых и двухэтажные деревянные хоромы Дерюгиных. Их низенькая кругленькая хозяйка, Мария Николаевна, долгие годы работала в кинотеатре капельдинером. Супруг тёти Маши вместе с папой Васей служил в милиции. Он отличался выдающимся животом и неповоротливостью, являясь объектом беззлобных хохмочек. Дерюгин бывал у нас по праздникам, и мы с Владленом мгновенно ухватили его медвежью манеру раскачиваться, выставив молочное пузо с пупком-свистком, рвущееся из—под форменной рубашки. Иногда бабушка Аня, усмиряя безобразно раскапризничавшегося Владлена, смеясь, говаривала ему: «Владька, а покажи нам Дерюгина!», и вредничавший карапуз, сразу успокоившись, вскакивал, выпячивал брюшко и, деловито вышагивал, качаясь с боку на бок обожравшимся забродившей вишни хмельным енотом.
Дерюгин не отставал от коллег по части дерябнуть спиритус вини. Заезжая в выходные за батей, чтобы дёрнуть на подлёдную рыбалку, он сначала подмигивал тому, уморительно дёргая щекой и гулко хлопая себя по овчинному тулупу, а потом, увидев, что отец, пряча улыбку, кивал ему, заговорщически пыхтел. С пруда папаня возвращался навеселе, и привозил мелких смёрзшихся краснопёрых окунишек, хилых, серебристых чебаков и щурят. Речную рыбу я недолюбливал из—за её чрезмерной костлявости, предпочитая запечённую во взбитом яйце икру, или колючие солоноватые румяные плавнички. Даже из пирогов я выковыривал на тарелку приятно пахнущие ломтики сома или щуки, и смачно, с хрустом, уплетал поджаристую, скользковато-ароматную от лаврушки, сдобу.
Миновали «Хлебный». В него завозили неповторимо-кисловатый сытный ржаной хлеб, бравшийся нами в кинотеатр напротив, на детский фильм. Сам кинотеатр покамест жив, да зрителей изрядно уменьшилось. В субботу мы с Веней ходили на авангардный «Дом под звёздным небом», и Ложкину он шибко не понравился, а я же, наоборот, пребывал в восторге от карнавальной экранной катавасии, от бесшабашного Абдулова и нежной Друбич.
За кинозалом, на берегу оврага, высилось продолговатое зелёное здание Дома Пионеров. Но пионерскую организацию скоро распустили, а помещение снесли, разбив на руинах жалкую пародию игровой площадки «а-ля благоустройство» с фигурками убогих лебедей из размалёванных лысых автомобильных шин, парой болезненных клумб и тощей песочницей.
Выше по улице – домина моего одноклассника, Ваньки Овечкина. Строение добротное, с высокими окнами, постоянно занавешенными тюлем, с крытым двором и неохватным тополем. Ванька кадрит «давалок» на дискотеках и бед не ведает, учится на механизатора в местной деревенской «учаге». Погибнет он по прошествии 22 лет, по пьяни, врезавшись на лакированной иномарке в опоры высоковольтной линии электропередачи.
Пока мы не подъехали к птичнику, в «Икарусе» было, несмотря на отсутствие пустых мест, относительно свободно. У птицефермы рейса в Тачанск всегда ожидало не менее двенадцати человек, и понедельник не являлся особенным и бесподобным днём недели. Поднялись новые пассажиры, нам пришлось потесниться. Меня передёрнуло, я не любил болтаться где—то в вязкой кисельной середине, без возможности за что—нибудь держаться. И для сего имелись веские причины.
В 1989-м дед с бабушкой бесплатно получили квартиру в Нижнем Тачанске, и мы с Ложкиным на уикенд ездили к ним. Въевшаяся в память поездка выдалась в апреле, перед одиннадцатой годовщиной гибели отца. Весь снег стаял, выбоины полнились мутной жижей, деревья пробуждались и стряхивали гипнотическое наваждение февраля. День мы выбрали для вояжа не блестящий, хмурый, дождливый, и люки в автобусе были надёжно задраены. А народу набилось более, чем прилично. Подсаживающиеся на холостых полустанках люди разъединили нас с Веней. Меня затёрли в серёдку и стиснули со всех сторон. За час дороги стало невыносимо душно, голова моя закружилась, а лоб покрылся нездоровой испариной. И ни глоточка уличного воздуха, ни ветерка в этой консервной банке, еле-еле ползущей к городу. Стресс усугубляла осенняя куртка на меху, и сколько я её не расстёгивал, это не спасало. Я задыхался. Закончилось предсказуемо. Когда до Нижнего Тачанска оставалось около восьми километров, в глазах замельтешили чёрные мушки, ноги ватно подкосились, и я провалился во тьму. Сжатый с боков, я не упал на пол, но соседи, перепугавшись моего посеревшего лица, крикнули водителю, что «ребёнку фигово». Шофёр ударил по тормозам, и меня вытолкали подышать. В низине, у дорожного знака, ограничивающего скорость 40 километрами, у сиротливого ивняка я и расстался со своим скромным «ленчем». Вытерев губы бумажной салфеткой, просморкавшись и, глубоко вдохнув, я нырнул обратно. Видя, что, если я и почувствовал себя лучше, то не в полной мере, какая—то сердобольная тётушка в фиолетовом болоньевом плаще уступила сиденье, и я, сглатывая горечь, плюхнулся на него, услыхав окончание предложения: «… я вижу, он белый, как привидение, и на меня заваливается…». Я не проболтался матери о происшествии, ей нашептали о нём её сослуживцы, ехавшие тем рейсом, и опознавшие в хлипком односельчанине сына Васи Максимова.
Это единственный случай, когда я почти потерял сознание, добираясь до Тачанска. Позднее доводилось путешествовать и во сто крат более тяжёлых условиях, но конфуз более не повторился.
В первый год после бабушкиного переезда в Тачанск, летом я наезжал к ним беспрестанно. Ложкин и я размещались на ночёвку в спальне-пенале с двустворчатым шкафом и окном. Окно выходило на поле. Вдали, за рожью, виднелась тропка, протоптанная сквозь жилистые лопухи и горько-пряную полынь. И тропинка, и дорога, по которой в купальный сезон к реке пылили легковушки, рулили велосипедисты и группки полуобнажённых тачанцев с узорными полотенцами и надувными кругами, весело переговариваясь, шли позагорать и искупаться, вели к стёртой с топографических карт деревушке, насчитывавшей, от силы, хат десять, просвечивающий, полурастасканный на дрова сгнивший совхозный коровник у дореволюционного кержацкого кладбища. От него рукой подать до дуги соснового мыса, и полумесяца безымянной речонки, впадающей в Тачанский пруд.
Останавливаясь у бабушки и дедушки, вечер, мы коротали за переключением каналов цветного телеприёмника «Темп», – вершины современной техники, – или радиолы «Спидола» с её «Голосом Америки» и «Свободной Европой». Мы фрондировали! В ту пору в Тачанске началось развитие муниципального телевидения, переполнявшего эфир поздравлениями, некрологами и голливудскими триллерами. В рамках тестирования крутили затрапезный сериал «Виктория» про рептилоидов, редкостную нудятину.
Кроме просмотра «Утиных историй», мы ребячились, и из чисто хулиганских побуждений скидывали с высоты, на проходящих внизу, небольшие камушки с розоватыми прожилками, сковырнутые с блочной стены. Ложкин припомнил рассказ Мандаринкиной, жившей на четвёртом этаже «сталинки» на центральном проспекте Тачанска. Она с подружками так же дурачилась невинным швырянием вниз, на снующих туда – сюда горожан, ракушек, собранных на речке, но для проказниц это даром не прошло. Хулиганили они в разгар праздничной первомайской демонстрации. Примерно через пятнадцать минут к ним постучался взмыленный участковый и застращал их настолько, что они до вечера боялись сунуться на балкон.
Перед тем, как уснуть, я слушал смешную и восторженную трепотню Вени про учёбу. Он красочно расписывал аппетитных пышногрудых однокурсниц, с которыми флиртовал, колоритных преподов с пронырливыми тараканами в головах, и выказывал неподдельное довольство выбором профессии. Беспокоил его лишь «голяк» с жильём. Ложкин за родительский четвертак снимал комнату над ювелирным магазином «Алмаз» в доме у городского фонтана. «Домомучительница» неустанно докапывалась до любой незначительной чепуховины, и постепенно эта тягомотина перестала Веню устраивать. Вселяться на птичьих правах в общагу представлялось ему самоубийством, он признавал, что не выдержит чахоточного коммунального быта, ибо по натуре индивидуалист, а они в студенческих командах не приживаются. Вениамин нуждался в покое, калорийном питании и комфорте, несовместимыми с общежитием и с разгульными полуночниками выпивохами. Посему, взвесив варианты, Ложкин перевёлся на заочное отделение и закрепился в партийной библиотеке питерского совхоза, незаметно переименованной в рабочую, старшим библиотекарем вплоть до её ликвидации. К июню 1991-го, Веня, опиравшийся на определённую протекцию главреда пригородной газетки, обладавший несомненными литературными талантами и доброй репутацией, оформился в школу преподавать словесность.
Наезжая в город, мы выбирались в кино, в мат и смешки видеосалонов. К сожалению, интересы наши радикально разнились. Буйство гормонов тянуло Ложкина на эротику, и он рвался на «Царицу ночи», «Греческую смоковницу», «Американский пирог», а я хранил преданность боевикам и фантастике, открыв для себя эпопею про Джеймса Бонда, Индиану Джонса и персонажей Брюса Ли.
Увлечение Венечки «клубничкой» однажды сыграло с нами злую шутку. Очередной тупейший эротический фильм, на который Ложкин уломал меня составить ему компанию, запускали в 21:00. Мы попали на второсортную комедию с Бертом Рейнолдсом «Самое симпатичное заведение в Техасе», и я по давности не скажу о содержании, но зато припоминаю зал, битком набитый любителями приобщиться к высокоинтеллектуальной штатовской культуре, и что завершился сей «шедевр мирового кинематографа» в половине одиннадцатого. Ценители обнажёнки по завершении воскресного сеанса ломанулись на остановку, где и без них столпилось полно желающих поскорей перенестись в уютные спаленки и кухоньки, навернуть омлет с ветчиной и «Жигулёвским» из холодильника, и по-барски вытянуться после душа на первозданных простынях. Будто назло, немногочисленные автобусы, утрамбованные до предела, у кинотеатра не задерживались. Стемнело, когда мы буквально чудом без мыла втиснулись в «ЛАЗ», следующий в частный сектор, мимо причала, к трамплинам у базы отдыха.
Вывалившись из салона у развилки, мы с Веней стремглав бросились к притормозившему недалече «ЛиАЗу», на нём могли бы доехать до дома. Но стоило нам подбежать к диковине отечественного автопрома, корыто, до отказа набитое людьми, висящими на приступке, просев, медленно и натужно отчалило во мрак, мигнув напоследок красными зенками фар. Более транспорта не предвиделось до утра.
Паникуя и костеря Ложкина на чём устроен свет, я пошкандыбал вслед за ним по шоссе. Четыре километра по плохо знакомой местности! Новые приключения неуловимых… Я случайно в декабре и днём—то в том нагромождении высоток заблудился, правда, в непроглядную вьюгу, в метель. Ближние новостройки скрывались за снежной пеленой. А тут чёрт рога своротит…
Складывалось ощущение, что Веню сложившаяся ситуация малость забавляет. Оттопав треть пути прямо по ровной однообразной трассе, я предложил размяться и пробежаться рысцой. Но Ложкин заартачился, и после череды непродолжительных препирательств, я, и без того обозлённый, цыкнул и помчался, оставляя приятеля позади. Повлияло раздражение, желание досадить, стремление быстрее окунуться в безопасность. Вениамин что—то кричал, а я в ответ притворно бодро поторапливал отстающего: «Давай, догоняй». Он, однако, и не подумал ускоряться.
Натолкнувшись у трамвайного депо на нетрезвую хохочущую кодлу, распивавшую на крыльце пиво из трёхлитровой банки и бренчавшую ни гитаре, я пожалел, о решении рвануть в одиночку, но парни благодушно хохотнули: «Э, чувак, спортсмен, что ли?» и, получив утвердительное: «Ага», искренне заржали и вразнобой заголосили вдогонку: «Спартак – чемпион!»
Родственники окучивали картошку и пропалывали овощные грядки в Питерке, и я, запыхавшийся, воспользовался запасным ключом. Блаженно разметавшись на антикварном продавленном дедовском диване, я хлебнул наскоро согретого чая без сахара, умылся и почистил зубы. Тут—то и нарисовался Ложкин. Я начинал тревожиться, как бы с Вениамином чего не вышло и, узрев его всклокоченным, но целым, здоровым, выдохнул. А он, не говоря ни слова, выпил полстакана отдающей фтором воды из—под крана, вытащил из кладовки раскладушку, разложил матрац и подушку и, что—то обиженно бухтя под нос, не реагируя на расспросы, рухнул спать, справедливо считая, что я его предал.
За завтраком из макарон с кетчупом, подрумяненных на сковороде сосисок, состоялось бурное объяснение. Никто не поступился мнением. В собственной правоте я и тогда был не уверен, и поныне сомневаюсь. В самом деле, я не уговорил Ложкина перейти на бег, и, по совести, полагалось оставаться рядом с товарищем. Но я не извинился. Часто в запале спора не удавалось совладать с присущим мне азартом нигилиста и резонёра, с безосновательной ослиной безусловной убеждённостью. Допуская несостоятельность доводов, я нахально отстаивал ошибочную точку зрения. Энное количество лет спустя набравшись храбрости, я раскаивался в излишней запальчивости и уверялся в сомнительности поступка. Сопливых вовремя целуют…
Мы удалялись от Питерки, и мною овладевала внутренняя неуверенность, дрожь в руках. Меня накрывало бессилие, если намечалось общение с чужаками, с незнакомцами. Я долго не решался, состроив харю кирпичом, открывать нужные двери пинком, громогласно заявляя о своих претензиях, как неподражаемо отчебучивал Ложкин, везде чувствовавший себя господином положения. Мало-помалу я и вовсе впал в ступор, вяло противодействовал тычкам в поясницу, производимым протискивавшимися к выходу, и сосредоточился на переживаниях. Не последнее место в них занимала периодически всплывающая искусительная идейка: «А, может, ну его нафиг, этот Тачанск, институт и истфак. Усвистать с вокзала домой?». И колебания, на что решиться, то ли выйти у моста, то ли с насупленной бычьей решимостью проехать до конечной, ни к чему не приводили. К счастью, панические соображения не учитывали фактор Венечки, который ни в жизнь не позволил бы мандражирующему спутнику слинять, и запросто мог выдернуть трусишку-зайчишку из людской массы и пенделем нацелить на ВУЗ, приговаривая: «Ты, чувак, *банулся?»
Протолкавшись ко мне, Веня предупредил:
– Готовься, следующая наша.
– Как? Неужели? – невнятно просипел я.
– Что? – не понял Ложкин из—за рокота мотора и, отклонившись к кабине водителя, пробасил:
– За шлагбаумом, пожалуйста!
Усталый желтобокий «Икарус» замер, шикнул «Пшли вон!», и цинично выплюнул на тротуар нас с Веней и двух девушек, моих вчерашних одноклассниц, Варёнову и Зудилину, девиц самовлюблённых, неуживчивых, вредных и склочных. Поглощённый ностальжи мыслями я не интересовался творившимся вокруг, не приглядывался к окружающим.
Мы вежливо кивнули друг другу, произнеся ни к чему не обязывающее: «Привет!» Я неторопливо, растягивая время, достал сигарету, размял её, прикурил с четвёртой спички, прищурился от удовольствия и удостоился неодобрительного хмыканья Вени. Он дождался, пока я, рисуясь, выпущу струю дыма и резво направился к светофору. Варёнова и Зудилина мелькали абстрактными мазками вычурных платьишек далековато, и перспектива угнаться за ними не просматривалась ни в малейшей степени. Но мы и не жаждали играть в догонялки.
Перебравшись через дорогу, мы нырнули под циклопическое сооружение путепровода и вышли к одноэтажным домишкам, выстроившимся волнорезом у мостовой. Ясени, ронявшие на землю скукоженные, пожухлые от аномальной жары и загазованного воздуха, листья, не заслоняли кронами столбы вишнёвых дымов, распространявшихся по небосводу грязным ядовитым лиловым пятном. Растительность практически не давала тени, я счёл за благо стянуть пиджак, небрежно повесить его на согнутую руку.