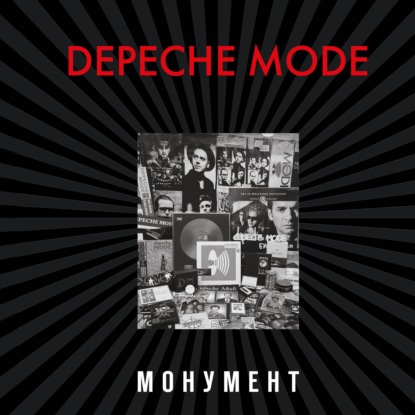Полная версия
Оззи. Автобиография без цензуры
Это было чертовски классное объявление. «OZZY ZIG NEEDS GIG»[9], – говорилось в нем большими буквами, написанными фломастером. Внизу я подписал: «Опытный фронтмен со своей акустической системой и усилителем», – и адрес (Лодж-роуд, 14), по которому меня можно найти с шести до девяти вечером по будням. Если только в это время я не в пабе и не выклянчиваю у кого-нибудь выпивку. Или на катке «Silver Blades». Или еще где-нибудь.
Телефона в те времена у нас не было.
Даже не спрашивайте, откуда взялось «Зиг» в прозвище «Оззи Зиг». Просто в один прекрасный день пришло в голову. Выйдя из тюрьмы, я всё время придумывал новые способы раскрутки в качестве вокалиста. Вероятность, что у меня получится, была один к миллиону – и это оптимистичный прогноз. Но меня устроило бы все, что угодно, лишь бы избежать судьбы Гарри с его золотыми часами. Кроме того, такие группы как Move, Traffic и Moody Blues доказали, что, для того, чтобы добиться успеха, необязательно быть родом из Ливерпуля. Говорили, что стиль brumbeat станет новой силой после merseybeat.
Не буду делать вид, что помню весь разговор со странным парнем в бархатных штанах, который появился у меня на пороге в тот вечер, но почти уверен, что было примерно так.
– Так у тебя есть для меня группа, Теренс?
– Ребята зовут меня Гизер[10].
– Гизер? То есть Хрыч?
– Ага.
– Шутишь?
– Нет.
– Как в песне «Этот вонючий чудак только что наложил в штаны»?
– Очень смешная шутка для человека, который называет себя «Оззи Зиг». А что это у тебя за пушок на голове, чувак? Как будто ты пострадал от газонокосилки. Нельзя же выходить на сцену в таком виде.
Я обрил голову, когда считал себя модом, но потом снова стал рокером и теперь снова отращивал волосы. Честно говоря, я и так стеснялся, поэтому мне не понравилось, что Гизер это заметил. Я хотел было ответить шуткой про его огромный шнобель, но в итоге подумал получше и просто спросил: «Так у тебя есть группа или нет?»
– Слышал про Rare Breed?
– Конечно, слышал. Вы ребята со стробоскопом и таким хиппи с бонго или чем там, да?
– Да, это мы. И мы только что потеряли вокалиста.
– Правда?
– В объявлении написано, что у тебя есть акустическая система с усилителем, – сказал Гизер, перейдя к делу.
– Верно.
– Ты раньше пел в каких-нибудь группах?
– Ну, ясный хер.
– Тогда ты нанят.
* * *Так я и познакомился с Гизером.
По крайней мере, так я это помню. Я тогда был сварливым маленьким ублюдком. Таким становишься, когда ждешь прорыва. Я стал очень беспокойным парнем: многое из того, что раньше никогда не волновало, стало выводить меня из себя. Например, жить с родителями в доме номер 14 на Лодж-роуд. Сидеть без денег. Не играть в группе.
И все эта хипповая тряхомудия, которую, когда я вышел из Уинсон Грин, крутили по радио, ужасно выводила меня из себя. Придурки-школяры в рубашках поло ходили и покупали песни типа «San Francisco (Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair)[11]». Ну, какие цветы в волосах? Сделайте мне одолжение, мать вашу, заткнитесь!
Это дерьмо даже начали играть в астонских пабах. Сидишь себе среди местных забулдыг с кружкой пива, с сигаретой и маринованным яйцом на закуску в обшарпанной дыре с желтыми стенами. Каждые пять минут, шатаясь, ходишь ссать, все вокруг уставшие до изнеможения, на мели и умирают от отравления асбестом или еще каким дерьмом, которым дышат каждый день на работе. И вдруг ни с того ни с сего слышишь это хипповое дерьмо о «добрых людях», которые собираются на оргии в Хейт-Эшбери, где бы это чертово Хейт-Эшбери ни находилось!
Кого вообще хоть как-то колышет, чем занимаются люди в Сан-Франциско, а? Единственные цветы, которые видели люди в Астоне, это те, что кидают в могилу на гроб умершего, который окочурился у станка в возрасте пятидесяти трех лет.
Я просто ненавидел эту двинутую хипповскую бредятину.
Чувак, как же я это ненавидел.
Однажды одна из этих песен звучала в пабе, в тот момент, когда там началась драка. Помню, какой-то парень схватил меня за шею и пытался выбить зубы, а я слышал, как в музыкальном автомате играет эта чертова песня на чертовом глокеншпиле, а какой-то урод с голосом, как будто у него яйца застряли в тисках, вещает про «странные вибрации». Тем временем парень вытаскивает меня на улицу и бьет по щам. Я чувствую, как у меня опухает глаз, из носа идет кровь, я пытаюсь уйти от удара и прислать ублюдку в ответ, лишь бы он отвалил, вокруг нас собираются парни и орут: «КОНЧАЙ ЕГО, КОНЧАЙ ЕГО». А потом ДЫ-Ы-Ы-ДЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-ЫЩ!
Открываю глаза и обнаруживаю, что лежу наполовину без сознания в куче разбитого стекла, ошметков плоти, вырванных из моих рук и ног. Мои джинсы и джемпер разорваны в клочья, люди кричат, повсюду кровь. Каким-то образом во время драки мы оба потеряли равновесие и упали спиной назад прямо в стеклянную витрину магазина. Боль была невероятная. Потом я увидел рядом с собой отрезанную голову и чуть не обделался. К счастью, это оказался один из манекенов с витрины, а не настоящая голова. Послышались звуки сирены, и всё почернело.
Почти всю ночь я провел в больнице, где меня зашивали. Стеклом мне отрезало столько кожи, что вместе с ней ушла половина татуировки, а врачи сказали, что шрамы на голове останутся на всю жизнь. Но это не проблема, если, конечно, я не облысею или не захочу побриться налысо. Помню, как на следующий день в автобусе по дороге домой я напевал мелодию «San Francisco» и думал, что мне нужно написать свою собственную чертову антихипповую песню. Я даже название придумал: «Aston (Be Sure to Wear Some Glass in Your Face)»[12].
Самое смешное, что я никогда особо не умел драться. Лучше быть живым и трусом, чем мертвым, но героем – вот мой девиз. Но почему-то в юности постоянно попадал в какие-то передряги и потасовки. Должно быть, я просто выглядел так, будто хочу получить по физиономии. Последняя большая драка была у меня в другом пабе недалеко от Дигбета. Понятия не имею, как она началась, но помню, что по всему пабу летали стаканы, пепельницы и стулья. Я и так был зол, поэтому когда какой-то парень упал на меня, то как следует пихнул его обратно. Но он поднялся с пола, ярко покраснел и сказал мне: «Ты ведь не хотел этого делать, дорогуша».
– Что делать? – спросил я, сделав невинное лицо.
– Не играй со мной в эту чертову игру.
– Тогда как насчет другой игры? – сказал я и попытался прислать ублюдку в рыло.
Это было бы круто, если бы не два факта: во‑первых, когда я замахивался, то упал, а во‑вторых, этот деятель был копом не при исполнении. Следующее, что я помню, как лежу на полу лицом вниз, во рту у меня ковер, и я слышу голос сверху: «Ты только что совершил нападение на офицера полиции, маленький придурок. Ты попал».
Как только я это услышал, то вскочил и дал стрекача. Но лягавый рванул за мной и с помощью какого-то приема из регби подсек меня, из-за чего я с разбегу рухнул прямо на тротуар. Через неделю я сидел в суде с распухшей губой и двумя фингалами. К счастью, штраф составил всего пару фунтов, которые я, хоть и с трудом, но смог наскрести. Но это заставило меня задуматься: неужели я правда хочу вернуться в тюрьму?
На этом драки закончились.
Когда мой старик узнал, что я хочу петь в группе, он предложил помочь купить акустическую систему с усилителем. По сей день я понятия не имею, почему он решил это сделать: ему едва хватало на то, чтобы прокормить семью, чего уж говорить о том, чтобы выложить 250 фунтов за усилитель и пару колонок. Но в те времена называть себя вокалистом, если у тебя не было своей акустической системы было стремно. С таким же успехом можно было пытаться стать барабанщиком, не имея ударной установки. Даже мой старик это знал. И привел меня в музыкальный магазин «George Clay’s» рядом с ночным клубом «Rum Runner» в Бирмингеме, где мы выбрали 50-ваттный «Vox». Надеюсь, отец знал, как благодарен я был ему за это, хотя и не выносил той музыки, которую любил я.
Отец сказал: «Позволь сказать тебе кое-что о The Beatles, сынок. Их надолго не хватит. У них нет мелодий. Не получится исполнять этот шум в пабе».
Сказать, что он меня изумил – не сказать ничего! Это у Beatles «нет мелодий». А «Taxman»?! А «When I’m Sixty-four»? Надо быть глухим, чтобы не оценить их! Я просто не мог понять, что с отцом не так. Но после того, как он выложил 250 фунтов за аппарат, согласитесь, спорить было бы несколько неуместно.
Как только люди узнали, что у меня есть собственная акустическая система, я тут же превратился в Мистера Популярность. Первая группа, в которую меня пригласили, называлась Music Machine, и лидером в ней был парень по имени Мики Бриз.
«Амбициозные» – неподоходящее слово для того, чтобы описать участников нашего коллектива. Пределом наших мечтаний было играть в пабе и зарабатывать себе на пиво. Проблема была в том, что, для того, чтобы играть в пабе, нужно уметь играть. Но нам никогда не приходило в голову учиться играть, потому что мы постоянно торчали в пабе и болтали о том, как однажды будем играть в пабе и заработаем себе на пиво. Группа Music Machine так и не дала ни одного концерта, насколько я помню.
Через несколько месяцев движения в никуда мы наконец что-то сделали – поменяли название. Music Machine стала называться The Approach. Но ничего не изменилось. Всё, чем мы занимались, – это бесконечно настраивались, потом я начинал петь высоким голосом, а остальные пытались вспомнить аккорды какого-нибудь избитого кавера. Я шутил, что по мне сразу видно, что на мне сказалась работа на скотобойне, потому что убивать такие песни, как «(Sitting on the) Dock of the Bay», мне удавалось с особенной легкостью. Но, по крайней мере, я хотя бы попадал в ноты. Высокие тона мне удавалось брать, не выбивая окон и не провоцируя местных котов спариваться со мной. А это уже хорошее начало. То, чего мне не хватало в технике, я компенсировал энтузиазмом. Еще со школьных времен на Берчфилд-роуд я знал, что умею заводить людей, но для этого мне нужно было выступать. А The Approach едва удавалось собраться на репетицию, что уж тут говорить о концерте.
Вот почему я повесил объявление в магазине «Ringway Musiс». Магазин находился в «Bull Ring» – бетонном торговом центре, который только что построили в центре Бирмингема. С самого начала это здание было куском уродства. Туда можно было попасть только по подземным переходам, где воняло мочой, шныряли грабители и дилеры и постоянно тусовались бомжи.
Но это никого не волновало: «Bull Ring» стал новым местом для встречи с друзьями, так что люди туда ходили.
Лучшее, что там было, это магазин «Ringway Music», где продавалось примерно то же, что и в «George Clay’s». Около него торчали круто одетые ребята, курили, ели чипсы и спорили о музыке, которую слушали. Нужно вписаться в эту толпу, подумал я, и всё сразу получится. Так что я написал объявление и через несколько недель ко мне в дверь постучал Гизер.
Он оказался не таким уж обычным парнем, этот Гизер. Начнем с того, что он никогда не использовал нецензурную лексику. Вечно утыкался в какую-нибудь книжку о китайской поэзии, древнегреческом военном деле или еще каком-нибудь сложном дерьме. А еще не ел мясо. Единственный раз, когда я видел, что Гизер прикоснулся к мясу, это когда мы застряли в Бельгии и подыхали от голода. Кто-то дал ему хот-дог. На следующий день он оказался в больнице. Мясо у этого парня просто не переваривалось – поэтому он не из тех, кто любит старые добрые бутерброды с беконом. Когда мы познакомились, Гизер курил много дури и нес всякую чушь. Идешь с ним в клуб, а он начинает говорить о червоточинах в вибрации сознания или еще какой гребаной упоротой херне. Еще у Гизера были проблемы с чувством юмора, поэтому я всё время клоунничал, стараясь заставить его рассмеяться – ведь только тогда мне становилось комфортно, и мы могли ржать часами напролет.
Гизер играл в группе Rare Breed на ритм-гитаре и был в этом совсем неплох. Но, что еще более важно, он прекрасно вписывался в музыкальную тусовку со своей прической Иисуса и усами Гая Фокса. А еще Гизер сам зарабатывал на модные шмотки. Он учился в гимназии, поэтому получил настоящую работу бухгалтера-стажера на одном из заводов. Платили ему хреново, но он всё равно зарабатывал больше меня, хотя и был на год младше. И сливал почти все деньги на шмотки. Он был стильным, ничто не могло быть для него чересчур. Гизер приходил на репетиции в лаймово-зеленых клешах и серебристых сапогах на платформе, а я смотрел на него и думал: «Как вообще можно облачаться в такой прикид?»
Хотя я и сам не был особо консервативен в одежде. Вместо рубашки у меня была старая пижама, а вместо ожерелья – водопроводный кран на струне. Очень непросто выглядеть как рок-звезда, когда у тебя ни черта нет денег. На помощь приходило воображение. И я никогда не носил ботинки – даже зимой. Люди спрашивали, откуда я беру вдохновение для «своего модного образа», а я отвечал: «Из жизни грязного нищего ублюдка, который никогда не моется».
Большинство людей, глядя на меня, считали, что я сбежал из дурки. А вот когда они смотрели на Гизера, то думали: готов спорить, он играет в группе. У Гизера было всё. Он настолько умный парень, что мог бы иметь свою фирму с табличкой: «ООО Гизер и Гизер». Но самое впечатляющее, что он писал тексты к песням: чертовски сильные тексты о войнах, о супергероях, черной магии и куче всего мозговзрывательного. В первый раз увидав их, я сказал: «Гизер, нам пора начать писать свои песни с этими словами. Они потрясающие».
Мы с Гизером крепко сдружились. Никогда не забуду, как однажды весной или летом 1968 года мы с ним гуляли по «Bull Ring», как вдруг из ниоткуда появляется парень с длинными вьющимися светлыми волосами и в самых узких в мире штанах и хлопает Гизера по спине.
– Чертов Гизер Батлер!
Гизер повернулся и сказал: «Роб! Как ты, чувак?»
– Ой, знаешь… могло быть и хуже.
– Роб, это Оззи Зиг, – сказал Гизер. – Оззи, это Роберт Плант – он раньше пел в Band of Joy.
– Ах да, – сказал я, узнав его. – Я был на одном вашем концерте. Чертовски потрясающий голос, чувак.
– Спасибо, – ответил Плант, озарив меня широкой очаровательной улыбкой.
– Ну, чем занимаешься? – спросил Гизер.
– Раз уж ты спросил, мне предложили работу.
– Круто. В какой группе?
– The Yardbirds.
– Ого! Поздравляю, мужик. Это круто. Но разве они не распались?
– Ага, но Джимми – знаешь, гитарист Джимми Пейдж – хочет играть дальше. И басист тоже. И у них есть контрактные обязательства в Скандинавии, поэтому они хотят продолжать.
– Здорово, – сказал Гизер.
– Если честно, я не уверен, что буду петь в этой группе, – признался Плант, пожимая плечами. – У меня еще кое-что хорошее намечается, понимаешь? На самом деле я только что собрал новую группу.
– О, э… круто, – сказал Гизер. – Как называется?
– Hobbstweedle, – ответил Плант.
Потом, когда Плант ушел, я спросил Гизера, не поехала ли у парня крыша.
– Он что, серьезно собирается отказаться выступать с Джимми Пейджем ради этой «Хоббстхерни»? – спросил я.
Гизер пожал плечами.
– Думаю, он просто волнуется, что у него не получится, – ответил он. – Но у него получится, если сменить название. Они же не могут вечно называть себя новыми Yardbirds.
– Уж лучше, чем гребаный Hobbstweedle.
– Верно.
Когда идешь с Гизером, то встретить кого-то вроде Роберта Планта – раз плюнуть. Казалось, он знает вообще всех. Он был частью этой толпы крутых ребят, поэтому ходил на правильные вечеринки, принимал правильные наркотики, тусовался с теми, кто по-настоящему крут. С ним я открыл для себя новый мир, и мне нравилось быть частью этого мира. Тем не менее над нами висела одна большая проблема: группа Rare Breed была полным дерьмом. По сравнению с нами Hobbstweedle казались гребаными The Who. Когда я пришел в группу, ребята были «эксперименталистами»: терзали всякий психоделический сценический реквизит и стробоскоп так, будто хотели стать новыми Pink Floyd.
Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться стать новыми Pink Floyd – позднее я иногда закидывался парой таблеток кислоты и слушал «Interstellar Overdrive», – но к успеху мы так и не пришли. Pink Floyd играли музыку для богатеньких студентов колледжей, а мы были им прямой противоположностью. У Rare Breed не было будущего, и мы с Гизером об этом знали. Репетиции представляли собой один длинный спор о том, когда начинается соло на бонго. Хуже всего то, что в группе не было порядка. У нас был один парень, который называл себя Бриком[13] и воображал, что он какой-нибудь хиппи из Сан-Франциско.
– Брик – мудак, – говорил я Гизеру.
– Ой, да всё с ним нормально.
– Нет, Брик – мудак!
– Угомонись, Оззи.
– Мудак он, этот Брик.
И так по кругу.
С остальными участниками группы я ладил. Но из-за Брика и того, что он всё больше меня бесил, у Rare Breed просто не было шансов. Спустя какое-то время даже Гизер стал выходить из себя.
Единственный концерт, который я помню с тех времен и думаю, что это происходило с Rare Breed (возможно, и под другим названием – тогда они менялись очень часто), – это выступление на рождественской вечеринке бирмингемской пожарной части. Зрителями были двое пожарных, ведро и приставная лестница. Мы заработали денег наполовину разбавленного пива на шестерых.
Но этот концерт произвел на меня впечатление, потому что тогда я впервые в жизни испытал боязнь сцены.
Черт побери, приятель, я готов был обосраться.
Сказать, что я нервничал перед выступлением, – всё равно, что говорить, будто атомный взрыв – это немножко больно. Я, черт возьми, полностью оцепенел, когда выходил на сцену. Я вспотел. Во рту было суше, чем на мормонской свадьбе. Ноги онемели. Сердце стучало. Руки дрожали. Я буквально сам себя довел. В жизни не испытывал ничего подобного. Помню, как выпил перед выступлением пол-литра пива, чтобы успокоиться, но это не помогло. Я бы выпил литров десять, если бы денег хватило. В итоге прохрипел пару песен, а потом накрылась одна из колонок. И мы свалили домой. Я не рассказал своему старику про колонку, просто поменял сгоревший динамик на рабочий из его радиолы.
Сказал себе, что куплю ему новую, когда получу работу. А было очень похоже на то, что мне придется искать работу, потому что, судя по концерту в пожарной части, карьера в музыкальной индустрии мне не светила.
Через пару дней я решил завязать с пением.
Помню, как сказал Гизеру в пабе: «С меня довольно, чувак, это ни к чему не приведет».
Гизер нахмурился, стал перебирать пальцами. А потом печально произнес: «Мне на работе предложили повышение. Я буду третьим по значимости сотрудником бухгалтерии».
– З-значит, это конец, да? – сказал я.
– Похоже, что так.
Мы допили, пожали друг другу руки и пошли каждый своей дорогой.
– Увидимся, Гизер, – сказал я.
– Не волнуйся, увидимся, Оззи Зиг.
Тук-тук.
Я просунул голову между штор в гостиной и увидел какого-то странного парня с длинными волосами и усами, который стоял у двери. Это что еще, на хрен, за дежавю? Но нет. Несмотря на длинные волосы и усы, парень был совсем не похож на Гизера. Он выглядел как… бездомный. Рядом с ним стоял еще один парень – с длинными волосами и приподнятой, как у хорька, верхней губой. Но он был повыше и немного похож на… Нет, не может быть. Только не он. Позади них на улице стоял старый синий фургон «Коммер» с огромной ржавой дырой над колесной аркой и потертой надписью «Mythology» на боку.
– ДЖОН! Открой дверь!
– Открываю!
Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я ушел из Rare Breed. Мне стукнуло двадцать, и я оставил надежду стать вокалистом группы или хотя бы выбраться из Астона. Со своим аппаратом или без него – это всё равно не произойдет. Я убедил себя, что нет смысла даже пытаться, потому что у меня всё равно не получится. Как не получалось со школой, с работой и со всем, за что я брался… «Из тебя не выйдет вокалиста, – говорил я себе. – Ты даже на инструменте не умеешь играть, на что тебе надеяться?» Так что дом номер 14 на Лодж-роуд превратился в крепость жалости к себе. Я уже поговорил с мамой о том, чтобы она снова попробовала устроить меня на завод «Лукас». Она обещала посмотреть, что можно сделать. А еще я попросил владельца «Ringway Music» снять мое объявление «Оззи Зиг ищет группу». Идиотское имя, черт возьми, – Гизер был прав. Так что не было никакого объяснения тому, почему два волосатых парня стоят у меня на крыльце в девять вечера во вторник. Может, это приятели Гизера? Они как-то связаны с Rare Breed? Ничего не понятно.
Тук-тук. Тук-тук.
Тук-тук-тук-тук.
Я отодвинул защелку и открыл дверь. Неловкое молчание. Потом тот, что пониже и погрязнее, спросил: – Ты… Оззи Зиг?
Прежде, чем я смог ответить, тот, что повыше, наклонился вперед и, прищурившись, уставился на меня. Теперь я точно вспомнил, кто это. И он тоже меня узнал. Я замер. Он закряхтел. «Ой, черт возьми, – сказал он. – Это же ты».
Я не мог в это поверить. У меня на пороге стоял Тони Айомми: красавчик, который учился на год старше на Берчфилд-роуд. Тот, что однажды принес в школу электрогитару, которую ему подарили на Рождество, после чего учителя лезли на стену от шума. Я не видел его около пяти лет, но много слышал. После окончания школы Тони стал легендой Астона. Все ребята знали, кто он такой. Если и хочешь играть с кем-то в группе, то это с Тони. К сожалению, обоюдных чувств он ко мне не испытывал.
– Ладно, Билл, – сказал он парню, похожему на бомжа. – Мы только время теряем. Пойдем.
– Погоди, – сказал Билл. – Кто это такой?
– Скажу тебе одно: его зовут не Оззи Зиг. И он не вокалист. Его зовут Оззи Осборн, и он идиот. Давай, валим отсюда.
– Подождите минутку, – вмешался я. – Откуда вы узнали этот адрес? Откуда вы узнали про Оззи Зига?
– «Оззи Зиг ищет группу», – пожал плечами Билл.
– Я просил их снять это объявление несколько месяцев назад.
– Тогда сходи и попроси еще раз, потому что оно висело там сегодня.
– В «Ringway Music»?
– На витрине.
Я старался не выглядеть слишком довольным.
– Тони, – сказал Билл, – почему нам не дать этому парню шанс? Он вроде нормальный.
– Дать ему шанс? – Тони уже потерял терпение. – Он был школьным шутом! Я не буду играть в группе с этим гребаным идиотом.
Я не придумал, что сказать, поэтому просто стоял, уставившись в землю.
– На безрыбье и рак рыба, Тони, – прошипел Билл. – Поэтому мы и здесь, так?
Но Тони только фыркнул и отправился обратно к фургону.
Билл покачал головой и пожал плечами, как бы говоря: «Прости, приятель. Но я ничего не могу сделать». Похоже было, что все этим и кончится. Но вдруг что-то привлекло мое внимание. Правая рука Тони. С ней было что-то не так.
– Черт побери, Тони, – сказал я. – Что у тебя с пальцами, чувак?
Оказалось, я был не единственным, кому нелегко давалась работа после окончания школы в 15 лет. Пока я травился дихлорметаном у аппарата для удаления смазки, Тони работал подмастерьем у обработчика листового металла. Позднее он рассказал мне, что даже научился пользоваться электрической сваркой.
Гребаная смертельная штука, эта сварка. Самая большая опасность – подвергнуться ультрафиолетовому излучению, которое, моргнуть не успеешь, буквально расплавит тебе кожу или прожжет дыру в глазу. А еще можно умереть от удара током или отравиться токсичными веществами, которыми обрабатывают листы против ржавчины. Днем Тони занимался сваркой, а по вечерам играл в клубе в группе под названием Rocking Chevrolets и ждал своего большого прорыва. Он всегда был талантлив, но благодаря ежедневной зубрежке всех песен Чака Берри, Бо Диддли и Эдди Кокрана стал просто настоящим мастером. В конце концов его заметил какой-то агент и предложил постоянную работу в группе в Германии, так что Тони решил бросить работу на заводе. Он думал, что у него наконец все пошло как по маслу.
Как бы не так.
В последний день работы в мастерской парень, который должен был прессовать и резать металл перед сваркой, не явился на смену. Так что Тони пришлось делать это самому. До сих пор точно не знаю, что произошло – Тони не умел как следует пользоваться аппаратом, или тот был сломан, или еще что-то, – но гребаный тяжелый металлический пресс обрубил ему кончики среднего и безымянного пальцев на правой руке. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я об этом думаю. Представьте себе эту ужаснаю сцену: кровища, вой, Тони ползает по полу, пытаясь найти кончики пальцев, а потом врачи «Скорой» сообщают ему, что он больше не сможет играть. Тони левша, так что правой рукой он держит гриф. За следующие несколько месяцев он обращался к десяткам специалистов, и все говорили одно и то же: «Сынок, твой рок-н-ролл окончен. Точка. Найди себе другое занятие». Должно быть, он думал, что все действительно кончено. Для меня это было бы все равно, что получить пулю в горло.