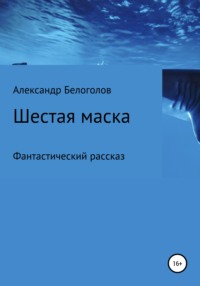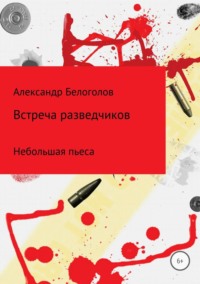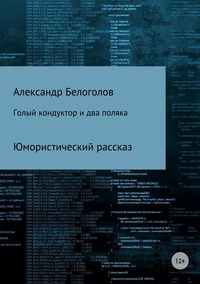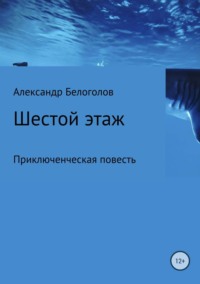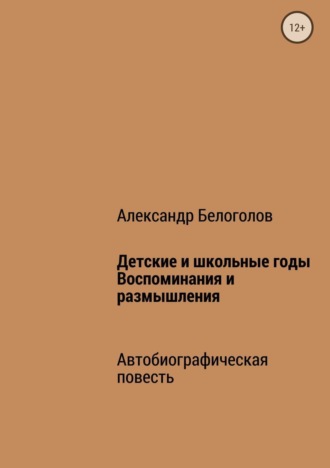 полная версия
полная версияДетские и школьные годы. Воспоминания и размышления
Нашу любимую реку люди, живущие на ней, портили из года в год разными способами. Первый способ – сплав леса по реке от мест вырубки до лесозавода, расположенного в Тулуне. Наиболее интенсивный лесоповал обычно производится зимой, поскольку так лесу причиняется меньше ущерба. На санях, которые тащат трактора или мощные машины или волоком, лес подвозят к берегу замерзшей реки. Затем, летом его спускают на воду, и дальше лес плывет самостоятельно. Часть деревьев при этом намокает, тонет и гниет на дне, выделяя в воду ядовитые вещества. Сплав, по крайней мере, осуществляется только летом. А вот второй способ нанесения вреда действовал круглогодично. В пятидесятые годы на противоположном от нас берегу реки Ии был построен гидролизный завод (химическое производство). Не исключено, что по всем отчетам на заводе были очистные сооружения, Но мы – мальчики совершенно точно знали, что отходы сливались в речку Азейка, которая впадает в Ию в практически недоступном для городских властей месте. Мы это видели воочию, когда катались на лыжах (нужно было пересечь реку). Азейка не замерзала даже в самые лютые морозы, а ужасный запах чувствовался издалека. Действовал, как всегда, девиз «Стране нужно то-то, то-то и то-то». Но река пыталась выжить. Работает ли сейчас этот завод мне неизвестно. Когда я закончил 10 класс мы с другом Анатолием и его братом Лёней ездили на автобусе куда-то вверх по реке (может быть в Гадалей, но точно не помню). Рыбачили спиннингами на блесну. Анатолий поймал большого тайменя, а его брат – ленка. Я вообще ничего не поймал. Не хватило терпения забрасывать и выкручивать, и так почти целый день подряд. Помню, что я отошел от братьев куда-то в сторону, покупался, а потом довольно долго сидел просто так у струящейся воды.
Семья Анатолия проживала на нашей улице через четыре дома от нас. Еще мы дружили с Юрой, семья которого проживала на соседней улице Ипподромной. Генератором идей у нас всегда был Анатолий, а я тянулся за ним. Чего мы только не делали. Начинали с простейших корабликов из дощечки, палочки и кусочка бумаги. Были воздушные змеи, модели планеров и самолетов, подводных лодок и парусников, которые могли ходить галсами против ветра. Благо, для этого были все условия: озёра для плавающих объектов и огромный луг для запуска объектов летающих. В старших классах от моделей перешли к различным радиоустройствам, а детали выписывали через «Посылторг». Все поделки мастерили по брошюрам типа «Сделай сам» и книгам, которых было предостаточно в городской детской библиотеке. Выписывали журналы «Юный техник» и «Техника молодежи». Не знаю – выпускается ли сейчас подобная литература и пользуется ли она спросом. Анатолий еще в школьном возрасте начал перенимать от своего отца Ивана Семеновича – прекрасного столяра, его искусство. Он всегда был чем-то занят, а из видов занятий на досуге воспринимал только чтение и рыбалку. Просто так погонять на велике, покататься на лыжах, сходить искупаться или поиграть в футбол с ним было невозможно, и в таких делах я контактировал с другими ребятами.
Моделирование и конструирование – вещи, конечно, полезные и развивающие, но занимались мы делами и нехорошими, и опасными. Делали ракеты, взрывали импровизированные гранаты. В качестве ракетного топлива и взрывчатого вещества использовали куски кинопленки и головки от спичек. Куски кинопленки нашли как-то случайно на небольшой свалке, когда ходили купаться, а потом стали регулярно туда наведываться. Обрывки пленки поступали на свалку из кинотеатра. Пленка была исключительно горючей, и, наверное, взрывоопасной. Маленькие ракетки делали так: кусок пленки, свернутой в рулончик, обматывали фольгой, один конец полученного рулона заостряли, а на другом конце делали сопло. Оставалось привязать стабилизатор в виде небольшой палочки, и ракета готова. Теперь нужно было поставить ракету вертикально и поджечь ракетное топливо. Самое главное было вовремя отдернуть руку, чтобы не обжечься вырвавшимся из сопла пламенем. Ракеты такие пускали на лугу. Но умишка хватало не всегда. Как-то мне удалось собрать довольно приличный запас пленки, и мы с братиком задумали сделать более серьезную ракету с корпусом из консервной банки. Все детали соединили пластилином, и одним чудесным вечером всё было готово. Чудаки – детали нужно было, по крайней мере, спаять. У меня возникло непреодолимое желание провести испытания немедленно, прямо здесь – на кухне, и я взял в руки спички. Хотя в глубине души была мыслишка, что делать этого не стоит. И ракета полетела, да еще как – с ревом и хвостом пламени из сопла. Этот стремительный полет прервал ногами дед Петя, благо он был не в тапочках, а в унтах, и стал затаптывать горящую смесь недогоревшей пленки и расплавившегося пластилина, который также загорелся. Испытательный полет закончился тем, что меня выпороли ремнем. Ну, а с гранатами всё было очень просто. В обычную стеклянную бутылку набивали куски кинопленки и выстругивали деревянную пробку так, чтобы она надежно закупоривала бутылку. Оставалось бросить в бутылку горящую спичку и закупорить бутылку. Эти эксперименты проводили с еще одним приятелем Колей. В этом случае ума у нас хватило на то, что мы сообразили, что как только пленка загорится, и мы заткнем бутылку, то отбросить ее, или убежать времени не будет. Поэтому сначала выкопали окоп, а снаряд ставили на бруствер. Нужно было только присесть и убрать руки и головы. Что интересно – пленка продолжала гореть и в закрытой бутылке. Наши гранаты прекрасно взрывались, усеивая поляну осколками стекла. И зачем мы это делали? Наверняка, сами потом и резались осколками. Слава богу, история с кинопленкой продолжалась недолго, т.к. горючая пленка перестала попадать на свалку, да и негорючих кусочков стало гораздо меньше. Промышленность перешла на более прогрессивную технологию производства кинопленки. И еще вспомнился один случай, связанный с огневыми делами. Как-то зимой забивали свинью, а шерсть опаливали паяльной лампой. Когда всё было закончено, мне дали задание отнести на задворки и вылить остатки бензина. Тогда хранить бензин дома опасались, а когда папа купил мопед, то другого пути уже не было. И я отправился, естественно, положив в карман спички. Вылитый бензин мгновенно впитался в снег без какого-либо следа, и я начал опыт с целью выяснить – загорится или нет? Стал зажигать и бросать горящие спички, но они на лету гасли. Тогда я присел, и уже собрался зажечь очередную спичку, но передумал, лег на бок и медленно поднес горящую спичку к тому месту, куда вылил бензин. Пары вспыхнули с хлопком, и яркое пламя взметнулось вверх в зарождающемся вечере. Прибежали взрослые и популярно объяснили глупость моего поступка. Руку чуть опалило, но я ее мгновенно отдернул и сунул в снег, так что всё обошлось без последствий.
Помню, когда мне было лет 10-12, папа принес нам с братом электроконструктор. В состав конструктора входили: плоская батарейка напряжением 4,5В, лампочка, выключатель, устройство для изучения воздействия электрического тока на организм человека и что-то еще простенькое. С лампочкой и выключателем и так всё понятно, а вот об указанном устройстве надо рассказать подробнее, потому что в современных конструкторах я ничего даже похожего не видел. Устройство состояло из двух блестящих металлических трубок длиной сантиметров 10 и диаметром примерно полтора сантиметра. К трубкам были подключены провода длиной около метра каждый. Опыт по изучению воздействия электрического тока на человека следовало проводить вдвоем. Один участник должен был взять в каждую руку по трубке и зажать их в ладонях, а второй участник должен был подключить отходящие от трубок провода к полюсам батарейки. Я не помню – проводили мы опыт вдвоем с братом, или с двумя Анатолиями (братом и другом), но по очереди убедились, что при подключении проводов явно ощущаются пощипывания и покалывания в ладонях и руках. В обычных условиях напряжение батарейки величиной 4,5В можно ощутить только языком, как кислинку. Кстати, эти батарейки тогда так и проверяли на пригодность. Дело в том, что металлические трубки обеспечивали огромную площадь контакта с ладонями, в результате чего переходное сопротивление по сравнению с обычными условиями было в сотни раз меньше, и напряжения было достаточно для обеспечения тока ощущения. Опыт нам понравился, и мы решили его продолжить. Не помню, кому пришла в голову идея подключиться к розетке радиотрансляционной сети. Однако точно помню, что я первым взялся за трубки и стал ждать ощущений, которые оказались ужасными. Меня начало трясти и корежить, руки судорожно зажали трубки, и бросить их было невозможно. Это участниками опыта было замечено и провода немедленно отключили от розетки, но я долго не мог прийти в себя. Хорошо, что не догадались подключиться к сетевой розетке. Это сейчас я знаю, что напряжение в радиотрансляционной сети составляет около 30В, т.е. почти в 7 раз больше напряжения батарейки, а значит и ток был в 7 раз больше. В обычных условиях напряжение 30В в соответствии с современными нормами электробезопасности считается безопасным, но с устройством оно было опасным.
Очевидно, что авторы электроконструктора пытались привить детям уважение к электрическому току. Невежества в этом вопросе, особенно среди малограмотного населения в глубинке было предостаточно. Так, папа был свидетелем, как одного мужика пытались закопать в землю. Когда он спросил, что делают, ему объяснили, что человека ударило током, ток остался во внутренних органах, и нужно срочно пострадавшего закопать, чтобы ток вышел в землю. Что-то, где-то люди слышали про заземление, да ничего не поняли. А здоровый мужик упал в обморок просто с перепуга – он никак не ожидал, что тоненький проводок отправит его в нокаут. Ему плеснули на лицо воды, потормошили и он пришел в себя.
Как и у всех мальчишек, у нас с братиком систематически появлялись синяки и ссадины, и даже серьезные травмы. Летом, скорее всего 1957 или 1958 года, я полез через высоченный забор в огороде, сделанный из горбылей, но не удержался, и свалился с него, повиснув на руках. Торчащий из забора гвоздь разорвал нижнюю губу слева так, что губа отвалилась вниз, а на груди под кожу воткнулась целая щепка. Было обильное кровотечение. Я как-то слез с забора и с громким рёвом побежал домой, отмечая свой путь кровавым следом. Как и что было дальше, из памяти отшибло начисто, но мама рассказывала, что ей пришлось меня тащить в поликлинику на себе, как она говорила «на закорках». Благо, было не очень далеко. Там губу зашили, а щепку вытащили. Врач сказал, чтобы я не бегал и не прыгал с тем, чтобы рана быстрее заживала, но заживала она значительное время, и мне долго пришлось ходить с повязкой, в том числе и в поликлинику на перевязки. Еще помнится, как мы с братом Толиком и другими ребятами были на озере возле мясокомбината – планировали половить поплавочной удочкой небольших и очень красивых рыбок гольянов. И там братик очень сильно порезал себе колено осколком стекла от бутылки. Осколок мы с пацанами вытащили, и рану как-то перевязали рубашкой, но брат идти не мог. Я его доставил домой на велосипеде, а когда бабушка увидела, как я заношу паренька в дом, страшно перепугалась, т.к. родители в это время были в отъезде, и вся ответственность была на ней. Но всё благополучно завершилось – рану обработали, и она постепенно зажила. Были, разумеется, и другие случаи, но рассказывать о них нет смысла.
Еще раз хочу вернуться к Братску и Братской ГЭС, на которой мне удалось побывать два раза. В первый раз мы ездили в Братск со школьной экскурсией, которую возглавлял мой папа. Было это летом, когда я закончил 4 или 5 класс. Бабушка Ася купила мне в дорогу зелененький футляр для зубной щетки, который жив до сих пор. Где он только не побывал вместе со мной. Уже и пластмасса, из которой он сделан, пересохла, но я его храню, как память о бабушке. Дорога в одну сторону занимала целый день, так как ехали на стареньком автобусе по разбитой грунтовой дороге, хотя расстояние не более 250 км. В начале пути девочки активно напевали песни из недавно вышедших на экран фильмов «Весна на заречной улице» и «Высота», но потом скисли. Кого-то даже немного тошнило из-за тряской дороги, но всё это быстро забылось. То ли в старом Братске, то ли в селе Падун мы посмотрели острог (военное укрепление), построенный русскими казаками еще в XVII веке.
Наш путь пролегал по зоне, подлежащей затоплению после сооружения плотины ГЭС, и там мы стали очевидцами любопытных явлений. По-видимому, местному населению сел и деревень было дано указание – ликвидировать все свои постройки, с тем, чтобы они не всплыли после затопления. И народ со слезами на глазах громил и рушил нажитые поколениями пенаты. Дома, недавно построенные разбирали по бревнышку, чтобы перевезти их на другое место. Старые постройки безжалостно разрушали или просто поджигали. Скорее всего, была разработана программа переселения из зоны затопления, но все прекрасно понимали, что родной дом – вот он, а где еще та программа. Кроме того, в зоне затопления все леса вырубались под корень и всё это из зоны вывозилось. Разумеется, что на огромной территории затопления всё почистить под ноль было невозможно, и что-то оставалось. Как рассказывали знающие люди, всплывающие после затопления бревна, деревья и прочий хлам создавал много проблем работе ГЭС. Всё это нужно было вылавливать из воды и ликвидировать. Что интересно, нам – школьникам везде всё показывали и увлеченно рассказывали. Экскурсии проводила какая-то девушка, по нынешним понятиям чей-то пресс-секретарь. Мы посмотрели, как бетонируется тело плотины, как делаются железобетонные изделия на мощнейшем заводе, где всё грохотало и визжало. Девочки из нашей группы пошептались между собой, и самая смелая спросила экскурсовода – можно ли встретиться, или хотя бы посмотреть на некого Генку Пыжова. Дело в том, что Иркутское книжное издательство выпустило книгу «Генка Пыжов – первый житель Братска». Этот Генка по книжной легенде приехал с родителями из Москвы на строительство ГЭС и совершил ряд подвигов. Девушка рассмеялась и объяснила, что это литературный образ, а никакого такого Генки не существует. Еще вспомнился такой эпизод. В Братске во многих местах продавали газированную воду с сиропом, чего не было в Тулуне, и наша группа с удовольствием посещала такие места. Один мальчик (фамилию помню, но опускаю) за один заход выпил 6 или 7 стаканов такой газировки, и не смог дальше идти. Он стоял, как сейчас помню, широко расставив ноги, и покачивался. Наверное, ему ударил в голову газировочный хмель. Его силком отвели куда-то в кустики, и всем пришлось долго ждать пока он придет в себя.
Дед Петя и бабушка Ася неоднократно брали меня с собой в лес по грибы, или просто так – походить, погулять. Если была возможность, и позволяло время, дед устраивал привал и жарил на разведенном костре грибы, нанизав их на палочку. Бабушка от грибов отказывалась, а мне их кушать не разрешала. Еще пили принесенный с собой чай из стаканчиков, которые дед тут же быстренько делал из берёсты. Что интересно, тогда никому и в голову не приходило отваривать грибы перед жаркой. Их просто мыли, и сразу на сковородку. В каждом месте и времени свои порядки. Как-то дед договорился со знакомым водителем бортовой машины, что он во время очередного рейса на лесобиржу отвезет нас в лес, а на обратном пути заберет в установленное время. И мы втроем отправились в путь. Куда-то, то ли в Тангуй, или в Бурхун. Первая часть задуманного плана прошла превосходно. Мы добрались до известного деду места, набрали по полной корзине отличных сырых груздей с толстыми загнутыми краями и даже раньше установленного времени вышли на дорогу. Время шло, мимо нас проезжали груженые досками лесовозы, но наша машина не появлялась. Наконец, дед не выдержал и остановил очередной лесовоз, двигающийся в нужную нам сторону. Водитель лесовоза рассказал, что на бирже его машина была загружена в последнюю очередь, и больше машин из города там не осталось. Получалось, что наша машина по каким-то причинам уехала раньше времени, и нам предстояло оставаться в лесу на неопределенное время. Водитель сказал, что он нас не бросит, и предложил ехать на штабеле досок. Место в кабине было занято. Тогда водитель и дед забрались наверх штабеля досок, уложенных «горкой», и переложили доски, образовав «ложбинку». Так мы и поехали, расположившись, полулежа, на верхотуре. Корзинки с добычей тоже не забыли. Водитель сильно машину не разгонял, опасаясь, что мы можем свалиться, но на поворотах и ухабах явно чувствовалось, как наше бренное тело стремится к краю штабеля, и как-то держались за выступающие края досок. Так и доехали до самого въезда в город, а дальше пошли пешком. Как мне помнится, никакой речи об оплате даже не заходило. Больше так ездить не приходилось, но иногда мне снится сон, что я еду, распластавшись наверху мчащегося фургона, и чувствую, что вот-вот свалюсь.
Если меня сейчас спросят, верю ли я в знахарство, ворожбу и прочую магию, то я, не раздумывая, отвечу, что верю. И на то есть причины, подтвержденные фактами.
Факт первый. У нас неожиданно потерялась корова. Паслась, как обычно, на лугу, и без следа исчезла. Паслась она сама, или вместе со стадом, охраняемым пастухом, я сейчас не знаю, но это значения не имеет. Корову искали дед и бабушка, обходя ближайшие улицы, и опрашивая местных жителей. Папа на велосипеде объехал все возможные места, которые корове могли понравиться, но всё безрезультатно. К исходу второго дня поисков стало понятно, что так дальше искать нет смысла, и бабушка с последней надеждой отправилась к какой-то ворожее. Вернувшись, бабушка сказала, что ворожея сделала очень простое заключение – «ищите за водой». Здесь нужно сделать небольшое отступление. Не очень далеко от нашего дома, за гончаркой тети Паши, еще в XIX веке была устроена паромная переправа через реку Ия. Паром – это несколько больших лодок/понтонов, составленных рядом с единым настилом, зацепленный через блоки к тросу, протянутому между берегами реки. На пароме установлен поворотный киль, ударяя в который, течение реки двигает паром от одного берега к другому. Чтобы изменить направление движения следует только повернуть киль. Всё как в парусном флоте. Мне приходилось переправляться на этом пароме – ездили с бабушкой к ее знакомым на лесозавод, за сеном, и еще куда-то. Но незадолго до пропажи коровы был запущен в эксплуатацию построенный через реку мост, а паром был ликвидирован. И вот, наши взрослые, получив информацию о том, что корова где-то за водой, стали обсуждать возможность того, что корова переплыла реку, совершенно не думая о новом мосте. В головах была полная уверенность, что сухопутного пути с нашего выгона нет. Разумеется, что, в конце концов, догадались, и утром следующего дня нашли корову на другом берегу реки, где она облюбовала себе лужок и на нем паслась. Всё-таки коровы – довольно бестолковые животные. Лошадь, кошка или собака всегда найдут дорогу домой. А ворожея оказалась совершенно права.
Факт второй. Брат Толик, когда был маленьким, начал заикаться, испугавшись коровы (опять корова), которая почему-то пошла на него, опустив рога. Его как-то лечили, заставляли говорить нараспев, но ничего не помогало. И тогда бабушка, а может быть мама, пригласили старушку-знахарку. Я, помнится, подсматривал за ее действиями. Она о чем-то разговаривала с братиком, наливала какую-то воду, шептала на нее, заставила эту воду выпить, поводила брата вокруг дома, а потом заставила сделать пи-пи на угол дома. И брат заикаться перестал. Вот вам и ненаучный метод.
Несколько фрагментарных воспоминаний. Когда я был совсем маленьким, на улицах можно было встретить калек без руки, без ноги, или с другими увечьями, полученными на фронтах Великой Отечественной Войны. Надо сказать, что государство мало заботилось о своих защитниках. Это Алексею Маресьеву сделали настоящие протезы вместо ампутированных ног, а Тулунские простолюдины ковыляли кое-как на деревяшках. В аптеке, куда мы заходили с бабушкой, можно было наблюдать людей, которые получали какие-то ампулы, и тут же сами делали себе уколы принесенными с собой шприцами. Бабушка объясняла, что это болеутоляющее средство-морфий, которое выдается по специальным документам раненным, имеющим сильные, постоянные боли. С каждым годом калек на улицах становилось меньше и меньше. Еще в те годы по улицам ходили нищие и просили подаяние. Что это были за люди мне неизвестно, но бабушка всегда им давала какую-то еду, а не только кусок хлеба, как они просили. Но со временем этих нищих резко не стало. И еще помнится, по улицам разъезжал старьевщик на телеге с лошадкой и принимал кости, тряпки и металлический лом. Это был чисто детский промысел и старьевщик рассчитывался с поставщиками ленточками для бантиков, рыболовными крючками и надувными шариками.
Как-то в начале лета городскими властями был устроен праздник, по-моему, в виде альтернативы православной троице. Выставки-ярмарки тогда уже не проводились. И мама повела нас с Толиком на этот праздник. Там были организованы какие-то аттракционы, продуктовые ларьки и собралось множество народа, т.к. иных развлечений, кроме кино, и танцев в горсаду не было. Мы решили отведать мороженого, которое было редкостью, и встали в огромную, шевелящуюся очередь. Дело закончилось тем, что мы простояли в очереди несколько часов, мороженого нам не досталось, на аттракционы мы не попали, и уставшие до невозможности пошли домой. Мы с мамой потом частенько со смехом вспоминали, как «покушали мороженого». Зато, как говорится, есть что вспомнить. Если бы купили мороженое, то этот праздник просто бы забылся.
В те, уже далекие годы конца пятидесятых – начале шестидесятых все жили бедновато, довольствовались малым, и на всём экономили. Но никто не унывал, а наоборот – все пели песни. Пели родители, если что-нибудь делали, и работа спорилась. Пели соседи. Помню, сидит соседский мальчик Лёнька на крылечке, чистит картошку на их большую семью и распевает про новоселов, которые едут по земле целинной. Или идут девчонки с края нашей улицы, идут в ногу, построившись в ряд, и поют. Если с классом куда-нибудь шли, то с песней. А когда собирались наши родичи, чтобы отметить какой-нибудь праздник, то песням не было конца. Да не просто пели. Папа брал ложки, а дед Саша – мамин отец брал обычное оцинкованное ведро, и они на этих инструментах задавали ритм, и это здорово получалось. Песни пели и классические – народные и современные – советские. Да еще у каждого были свои любимые музыкальные произведения. У бабушки Аси – романс «Выхожу один я на дорогу» на стихи М. Лермонтова, а у бабушки Шуры (маминой мамы) – романс на стихи А. Пушкина «Зимний вечер». Непростые, однако, бабушки. Сейчас люди поют гораздо меньше. Другие условия, другие времена – другие нравы. Я сам любил, и сейчас люблю напевать.
С раннего детства меня донимали разные болячки, а больше всего ангина, которую лечили разными способами, но без особого успеха. В конце концов, дали направление в областную больницу, и мы поехали в Иркутск, где остановились у бабушкиной племянницы тети Нади. Было это, когда я закончил 4 или 5 класс школы. В регистратуре поликлинического отделения больницы, куда мы сначала попали, оформили карточку, но на руки эти карточки почему-то не выдавали. Карточки разносили по этажам, коридорам и кабинетам молоденькие медсестры и несколько парней. Их было много, они сновали туда-сюда, и у всех девушек были выбеленные волосы, а у парней прически ёжиком (дань тогдашней моде). Я видом этих парней был очарован, и подумал, что нет на свете лучшей работы, чем вот так, ходить по красивым лестницам в белом халате с такой же прической, и носить бумаги, отвечая на вопросы бестолковых провинциальных пациентов. Мне назначили оперативное лечение и направили в стационар, который размещался в старинном здании с неимоверно толстыми стенами. Ширина подоконника была такая, что мы с ногами ложились поперек него и смотрели в окно. Палата также была огромной, и было нас там человек двадцать – взрослые мужчины и дети. Наверное, взрослых специально подмешивали для соблюдения порядка и дисциплины. Первую ночь мне пришлось спать с каким-то мальчиком на одной кровати. Его, в принципе, выписали, но родители за ним по каким-то причинам приехали только на следующий день, но меня это нисколько не огорчило. Операция по удалению гланд и послеоперационный период прошли удачно, и врач сказал мне, что на следующий день меня выпишут. Утром это подтвердили, и я начал собираться на выход, преодолевая возникающие проблемы. Сначала без родителей не хотели выдавать в гардеробе мою одежду (мы все были в больничных халатах), но я как-то убедил тётю, что меня точно выписали. Потом вообще не выпускали на выходе, но мальчишка – мой сосед по палате, который уже давно находился в больнице, и знал все ходы и выходы, показал мне какой-то служебный проход, и я оказался на улице. И чего меня понесло – я даже не знал, как ехать в дом тети Нади, но точно помнил адрес: ул. Франк-Каменецкого, 22. У меня были какие-то денежки, которые дала мама для больничного буфета, и я, набравшись смелости, спросил у водителя подъехавшего такси, сколько будет стоить проезд по этому адресу. Водитель назвал ориентировочную сумму, и оказалось, что моих денег достаточно. На мою просьбу отвезти меня, водитель засомневался и стал уточнять – не сбежал ли я из больницы, и почему один без взрослых, но я уверил его, что меня точно выписали, и мы поехали. Дома у тети Нади никого не оказалось, и я уселся на солнышке, на деревянном крылечке большого многоквартирного, деревянного дома и стал ждать. Сколько длилось ожидание, я не помню, но первой появилась расстроенная и заплаканная мама, и чуть не убила меня. В больнице она получила у врача нужные документы и пошла за мной в палату, но, ни меня, ни моих вещей на месте не оказалось. Меня стали искать в больнице, не нашли, а потом устроили расследование, и пацаны раскололись – сказали, что я ушел по служебному ходу. Мама поискала меня возле больницы, расспрашивала людей, а потом, отчаявшись, отправилась на нашу квартиру. Почему я так поступил – неизвестно. Может быть, меня не предупредили, что за мной придут, хотя мама навещала меня в больнице ежедневно. Может быть, хотел проявить самостоятельность, а может, просто с дури.