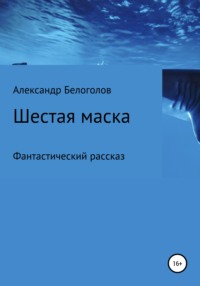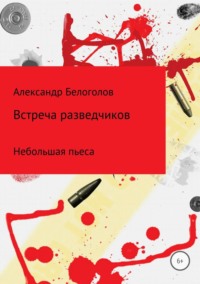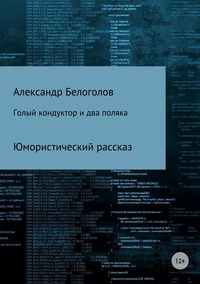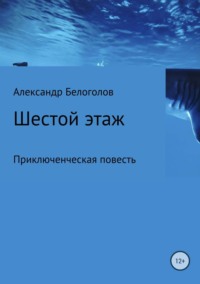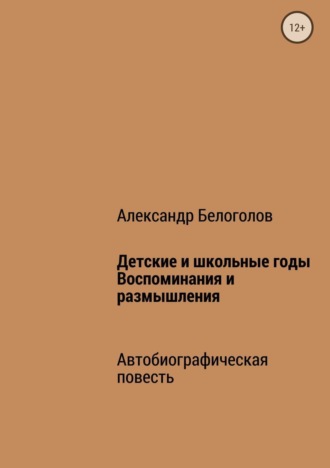 полная версия
полная версияДетские и школьные годы. Воспоминания и размышления
И еще, назвав имя колхоза, не могу не вспомнить названий некоторых улиц. Наряду с традиционными, историческими названиями (Кузнечная, Песочная, Степная, Мастерская) были улицы с ярко выраженными коммунистическими названиями. Главная улица была имени III Интернационала. Соседняя с нашей Мастерской большая улица – имени XIX партсъезда и т.д. Скорее всего, в настоящее время этим улицам вернули исторические названия.
И немного о школах. Когда я поступил в первый класс, наша школа называлась семилетней школой № 1. Недалеко от нашей школы была еще начальная школа № 5, в которой обучали только до 4-х классов. По-видимому, она сохранилась с тех пор, когда в нашей стране было обязательное начальное образование. Не могу не отметить, что в те годы (конец пятидесятых – начало шестидесятых) у многих, окружающих нас взрослых было только начальное образование, но многие учились в вечерних школах. В какие-то годы десятилетнее образование было преобразовано в одиннадцатилетнее, и наша школа №1 стала называться неполной средней школой с 8-ми летним образованием. Эту школу я и закончил в 1963 году и поступил в «Общеобразовательную трудовую политехническую школу № 4 с производственным обучением». Слова о производственном обучении были не простым звуком. Когда мы подавали документы на поступление в 9 класс, нужно было сразу выбрать рабочую специальность, которой будут обучать наряду с общеобразовательными предметами. Мальчикам предлагались специальности электрослесаря и токаря, девочкам – химика-лаборанта и швеи. Я, не раздумывая, выбрал специальность электрослесаря, так как этот предмет мне был гораздо ближе. Обучение было организовано следующим образом: четыре дня в неделю мы учились в школе и два дня в неделю – на электроремонтном заводе (тогда была шестидневная рабочая неделя). На заводе один час в рабочий день были теоретические занятия, которые проводил заводской мастер, а всё остальное время – практическая работа в цехах. Нас распределили по разным участкам – по два человека на участок. Мы с одним мальчиком попали на участок сборки новых сварочных трансформаторов, где нам дали задание крепить ручки к уже собранным трансформаторам. Штатный рабочий этого участка, не рассусоливая, вручил нам гаечные ключи, показал, где лежат ручки, болты и гайки с шайбами, а построенные в ряд трансформаторы взирали на нас, как шеренга вражеских солдат. Так началась наша трудовая жизнь. Со временем мы стали осваивать другие, более сложные операции (нарезание резьбы, работа на сверлильном станке, сборка магнитопроводов и т.д.). Культура производства была, мягко говоря, на низком уровне. Например, если при заворачивании болта он не шел из-за некачественной резьбы, никому не приходило в голову этот болт заменить, а хватали тяжелый молоток, и загоняли болт на место несколькими ударами, и так во всём. На работе мы поначалу уставали, хотя у нас был укороченный на один час рабочий день, так как нам было еще по 15 лет, но потом быстро втянулись. Время от времени нас – учеников переводили с одного рабочего места на другое так, чтобы мы могли выполнять любые работы, за исключением наиболее ответственных (работа в действующей электроустановке или на станке по намотке катушек для сварочных трансформаторов), так как мы были несовершеннолетние. Наиболее благоприятные воспоминания у меня сохранились о работе в трансформаторном цехе. Бригадиром там был татарин Гайнутдинов – строгий и требовательный руководитель, сам трудолюбивый и аккуратный, требовавший такого же отношения к работе и от всех членов бригады, в том числе и от учеников. Помнится, буквально в первый день работы на этом участке мне дали какое-то задание, объяснив и показав, как его нужно выполнять, и я усердно принялся его выполнять с применением уже наработанного ранее подхода (тяп-ляп). При этом боковым зрением примечал, что наш бригадир внимательно смотрит на меня, чувствуя, что делаю что-то не то. И я дождался. Для начала бригадир врезал мне по шее (помню точно), а потом доходчиво объяснил, что у них так не работают, и дело не только в его личной требовательности, а еще и в том, что любая небрежность при работе на высоковольтном оборудовании чревата выходом оборудования из строя или пожаром. И пришлось нам с напарником, таким же учеником нашего класса, нарабатывать аккуратность и добросовестность в работе. Мы, конечно, Гайнутдинова поначалу просто ненавидели, полагая, что он к нам придирается, и мечтали о переходе на другой участок, но с течением времени освоились, и я очень благодарен ему за его школу. Учась в 10 классе, все мы предстали перед заводской аттестационной комиссией, сдали экзамены и получили самые настоящие рабочие разряды. Теперь мы стали полноправными членами рабочих бригад и стали получать зарплату. Она, конечно, была не очень большой, но это были, как говорится, наши кровные денежки. Я с первой своей зарплаты купил небольшие презенты родителям и дедушке с бабушкой. А бабушке Шуре (маминой маме) сделал на основании полученного опыта металлический совок для мусора. Хочу отметить, что нас – учеников никто из рабочих не принуждал «обмыть» первую зарплату. Такую инициативу проявили наиболее активные наши ученики, но по каким-то чисто техническим причинам «обмывание» не состоялось. Эксперимент с трудовым обучением школьников продолжался недолго. Наш выпуск из школы в 1966 году оказался последним. И такая чехарда повторяется из поколения в поколение. То 10 лет, то 11. Наверняка, это кому-то выгодно – каждый раз нужны новые программы, методики и учебники, а их разработка стоит определенных денег. Могли быть и другие, совершенно прозаические причины. Например, чьи-то личные «хотелки».
Бабушка Ася и дедушка Петя, с детства привычные к крестьянскому труду, никогда не сидели без дела, а всегда были чем-то заняты. Ухаживали за скотом и птицей, летом – за огородом. В зимнее время даже немного подрабатывали – шили стёганые чуни и продавали их на базаре. У бабушки были искривленные с молодости в суставах пальцы рук. Пальцы свои она называла «баграми» и объясняла искривление перенесенным заболеванием (то ли артрит, то ли уровская болезнь). Тем не менее, она ловко шила, вязала и до глубокой старости выполняла прочие тонкие работы.
Рассматривая старый альбом, я наткнулся на фото, на котором бабушка что-то рукодельничает, сидя на диване с валиками, и это фото напомнило об одном эпизоде. В один прекрасный день я с какой-то радостной для меня вестью ворвался в комнату и с криком «ура» бросился на диван (бешеный мальчик). А именно – на откидывающийся, на шарнирах валик со стороны стены. Валик, как и следовало ожидать, опрокинулся и я перевернулся вместе с валиком вниз головой, оказавшись зажатым между стеной и валиком. Да так, что почти перехватило дыхание. Дома была только одна бабушка, которая попыталась меня вытащить, отодвинув диван. Диван был очень тяжелый и ей освободить меня не удалось. Тогда она позвала дядю Гавриила, который освободил меня из плена.
Бабушка была неутомимой рассказчицей, и повторяла различные истории и эпизоды из своей жизни по много, много раз, и всё это намертво отложилось в незагруженных, детских мозгах. И сейчас, через много лет, я помню, что бабушкину учительницу в церковно-приходской школе звали Анастасией Терентьевной, и что учеников за провинности ставили в угол на колени на горох (сухой). Что в выпускной контрольной работе по арифметике она неправильно решила задачу, исходя из того что в одной версте 200 саженей, хотя в версте 500 саженей (верста и сажень – старые русские меры длины, отмененные после октябрьской революции 1917 года). Что бабушкин брат Василий погиб в 1904 году в Порт-Артуре во время русско-японской войны, и был там похоронен, а все его личные вещи прислали в родной дом. Еще была интересная история о поезде в Китай к тибетскому врачу. В юности бабушка стала сильно болеть и стремительно худеть, но никакие лекарства и методы лечения не помогали. И тогда бабушкин отец, послушав чьего-то доброго совета, повез бабушку в Китай к тибетскому доктору. Тогда они жили в Забайкалье, недалеко от границы и такие поездки были вполне возможны. К удивлению бабушки и ее отца врач сказал, что жалобы больной его не интересуют, а сразу приступил к обследованию, которое проводил очень тщательно и долго. Рассматривал руки, ноги, глаза, прощупывал внутренние органы, а после обследования рассказал сам, какие жалобы могут быть со стороны больной. И всё в точности подтвердилось. Лечение тибетский врач провел, в основном, кровопусканием, которое выполнил с помощью миниатюрных топорика, молоточка, и в некоторых местах ставил оттягивающие банки на рассеченные места. Лечение увенчалось успехом – бабушка поправилась.
Или еще один бабушкин рассказ о пикирующем самолете, пролитом молоке, и увесистом подзатыльнике. Во время Великой Отечественной Войны в Тулуне располагалось авиационное училище, которое готовило летчиков для фронта. В районе железнодорожного вокзала был обустроен полевой аэродром, парашютная вышка и прочие необходимые атрибуты. В результате, в городе стали появляться курсанты, инструкторы и прочие сотрудники училища. Папина сестра Тамара каким-то образом познакомилась с молодым, симпатичным инструктором училища Алексеем, который стал за Тамарой, как говорится, ухаживать. Тамара познакомила Алексея с родителями (бабушкой Асей и дедом Петей), и он при наличии возможности стал заходить к ним домой. Это предыстория истории. Одним обычным летним днем бабушка взяла подойник с водой (обмыть вымя у коровы), скамеечку, и отправилась, как обычно, на выгон подоить корову. Она довольно долго не возвращалась, а вернулась в слезах и с пустым подойником. Дома объяснила, что когда она уже заканчивала дойку, в них с коровой чуть не врезался свалившийся с неба самолет. И бабушка, и корова сильно перепугались, корова лягнулась, сбила бабушку и убежала, а молоко, естественно, пролилось. Когда бабушка пришла в себя, нашла корову и, как смогла, успокоив ее, пошла домой. В конце концов, все успокоились, а вечером пришел Алексей, которого уже стали считать женихом Тамары. Его посадили ужинать, а Алексей рассказал о прошедших за день полетах с курсантами, в том числе и о том, что пролетали над нашим домом, и помахали крыльями. И еще, добавил со смехом Алексей, он заметил на лугу старуху, доящую корову и дал команду курсанту атаковать этот объект, что курсант с успехом выполнил. Когда бабушка услыхала, что ее назвали старухой, врезала Алексею, чем подвернулось под руку, и выгнала его из дома. Но вся эта незамысловатая история закончилась вполне благополучно. Алексей был прощен, они с Тамарой поженились, и в феврале 1943 года у них родился сын Саша. Так что мы с ним самые настоящие земляки, рожденные в одном месте, и в одном доме – в Тулуне.
Еще бабушка постоянно общалась с радиоточкой, вставляя свои комментарии и дополнения. Особенно запомнилась ее реакция на различную информацию о системе социалистического содружества. Она уверяла радиоточку, что как только грянет гром, все наши друзья из Болгарии, Польши, ГДР и прочих стран от нас отвернутся, или даже всадят нож в спину. И оказалась абсолютно права. Ну, а о том, что развалится и Советский Союз, она даже не помышляла.
Дедушка Петя, как и бабушка, был постоянно занят по хозяйству – или на улице, или дома. Подшивал валенки, шил меховые рукавицы и выполнял прочие работы, которых всегда было предостаточно. Что касается воспоминаний из его собственной жизни, то их было мало, и они были немногословными. Во всяком случае, помнится рассказ из юных лет о карамели. Зимой станичники и крестьяне занимались извозом, то есть перевозили разные товары санными обозами по заявкам купцов. Товары развозили по населенным пунктам, а также в Китай и обратно. Однажды у них случайно развалился ящик с надписью «карамель», и к удивлению всех обозников из него посыпались конфеты. Дело в том, что в станичных лавках такая карамель называлась просто конфетами, или «конфектами», как писали до революции фабриканты на фантиках. А слово карамель было совершенно незнакомым. Естественно, все наелись карамелью до отвала. Часть оставили в развалившемся ящике «для отчетности». Но ломать тару намеренно никому и в голову не приходило.
Дед был участником первой мировой войны, побывал во многих местах, и многое повидал, но рассказывал об этом крайне немногословно и неохотно. Скорее всего, это был инстинкт самосохранения. Дело в том, что при советской власти по разным случаям нужно было заполнять анкеты, в которых были коварные вопросы. Например, «служил ли в царской армии, служил ли в белой армии, был ли в плену, был ли в окружении и т.п.». Служба в царской армии являлась черным пятном, и дед про эту службу рассказывать не любил. Тем не менее, он вспоминал, что ему посчастливилось увидеть в действии знаменитый самолет Сикорского «Илья Муромец». И как-то мельком сказал, что видел императора всероссийского Николая II, который приезжал в расположение их полка. А вот разные сказки, побасенки и страшные истории со счастливым концом он рассказывал детям с удовольствием, придумывая их на ходу.
Не могу не упомянуть еще об одном случае самосохранения. Однажды, послушав радио, дедушка с папой о чем-то пошептались, а затем взяли с этажерки несколько книг, завернули их в какую-то тряпку и полезли на чердак. Это было еще в старом доме. Я увязался за ними и наблюдал, как книги спрятали и еще замаскировали всё теми же опилками. Я тогда уже точно умел читать и приметил, что на обложках книг было имя И.В. Сталина. Скорее всего, это было после того, как был разоблачен культ личности Сталина. Вот как люди опасались даже иметь в доме книги некогда любимого вождя. Про эти книги больше не вспоминали, а потом переехали в новый дом, и они там так, наверное, и лежат до сих пор, если не сгнили. И еще одна история, примерно, на эту же тему. Бабушка рассказывала, что в тридцатые годы, во время массовых репрессий деда арестовали, а может быть, задержали, и продержали в кутузке несколько дней, а потом благополучно выпустили. Дед, надо заметить, об этой истории никогда не рассказывал. Что интересно, это событие на его судьбе никак не отразилось, так как через некоторое время он оказался делегатом какого-то съезда (возможно – кооператоров) и ездил в Москву. От этой поездки у него сохранился подарок – бритвенный прибор в красивой коробке, обшитой каким-то кожзаменителем красного цвета. Этим прибором он пользовался в течение нескольких десятилетий. Мне почему-то казалось, что коробка сделана из какого-то камня, так как была довольно тяжелой, и однажды я не утерпел, и для проверки провел по краю бритвенным лезвием. Покрытие легко прорезалось, а под ним оказался прессованный картон, отчего коробка была тяжелой. Дед, естественно, порез обнаружил, и стал проводить расследование. Я, к стыду своему, в диверсии не признался, а дед сделал вывод, что покрытие лопнуло само из-за старости. Картон в результате воздействия влаги стал постепенно разбухать, и деду пришлось со своим подарком расстаться. Заканчивая эти воспоминания, отмечаю, что рассказов родителей из детского возраста я, практически, не помню. Скорее всего, они были постоянно заняты, и им было не до воспоминаний и рассказов, а вспоминать и рассказывать они стали уже своим внукам (неплохо бы у них расспросить об этом).
Всё-таки, хотя бы одно мамино воспоминание. Когда она была студенткой медицинского училища во время начала войны, их отправляли в какую-то деревню, где они занимались заготовкой березовых стволов. Туда и обратно шли пешком. Это была работа для фронта, так как из березы делали приклады для винтовок, карабинов и автоматов. И вот девчонки, которым едва исполнилось по шестнадцать лет, валили деревья, очищали их от сучьев, распиливали на бревна нужной длины и укладывали в указанном месте. Вся страна работала для фронта, для Победы. Девчачьему коллективу была поставлена определенная задача, которую они выполнили через несколько дней, и как только им сказали, что они молодцы, и могут отправляться домой, единогласно решили немедленно идти домой. Их уговаривали переночевать, и выходить с утра, но они не послушали, и, собрав нехитрые вещички, отправились в путь, невзирая на приближающийся вечер. Дорога занимала несколько часов, и большую часть прошла в темноте. Девочкам, оказавшимся в хвосте колонны, всё время казалось, что за ними кто-то гонится, они визжали и перебегали вперед, а оставшиеся сзади, в свою очередь, тоже перебегали вперед. Так и добрались до дома чуть ли не бегом.
Человеческая память – очень интересная и своеобразная штука. Она хранит и легко позволяет открыть «файлы» памяти, хранящие события, происшедшие в раннем детстве, файлы взрослого человека архивирует и убирает в скрытые папки. И ничего с этим нельзя поделать.
Стоило мне вспомнить и написать про березовые стволы, как ключевое слово «береза» потянуло за собой новые воспоминания. В пятидесятые годы в Тулуне существовал ряд небольших предприятий, которые назывались артелями. Скорее всего, они имели именно такую форму собственности. Недалеко от нашего дома располагались две артели: артель «Коммунар», которую в обиходе называли «коммунаркой», и артель «Стандарт». В «коммунарке» выпускали всё необходимое для гужевого транспорта: сани и телеги различного назначения и прочие вспомогательные вещи (оглобли, дуги и т.д.), т.к. тогда лошадка оставалась одним из видов транспорта. Автомобилей было немного. Были грузовики ЗИС-5, в том числе и газогенераторные, топливом для которых были дрова, «полуторки», а также несколько автомобилей зарубежного производства, переданные в народное хозяйство после окончания войны.
Как-то раз, дед Петя взял меня с собой, когда пошел в «коммунарку» за опилками. У деда там везде были знакомые и он перед тем, как набрать в мешок опилок, провел меня по производственным помещениям. Я был поражен, мне стало немного страшно, и я вцепился в дедову руку. В большом, темноватом помещении возле стены, около потолка на всю длину помещения был установлен длинный вал со шкивами, который вращался. Под этим валом в ряд были установлены разные станки, и от каждого станка к валу тянулись широкие, соединенные в кольцо ленты (ременная передача). Вращающийся вал приводил в движение станки. Всё это шумело и грохотало, время от времени откуда-то вырывались клубы пара и между этими железными монстрами сновали рабочие с прямыми и какими-то кривыми палками. Когда мы вышли из помещения, в котором было невозможно разговаривать из-за шума, дед объяснил, что там делают колеса для телег. Подготовленные по нужным размерам, березовые бруски распаривали горячим паром в специальных котлах, а потом эти бруски в горячем состоянии загибали в полукольца на гибочном станке. Такую операцию способна выдержать только береза. Из двух полуколец, спиц и ступицы собирали колесо. Потом дед сводил меня в кузницу, в которой на собранные деревянные колеса набивался металлический обод – и колесо готово. Скорее всего, как я теперь понимаю, станки на этом производстве приводила в движение паровая машина, которая одновременно обеспечивала пар для разогрева березовых заготовок. Фактически это был уровень производства конца XIX века. В те же далекие теперь годы дед познакомил меня с артелью «Стандарт», в которой он работал бухгалтером, т.е. был далеко не последним человеком. Артель выпускала незатейливые кондитерские изделия (пряники, конфеты, сушки и что-то еще). Производство было абсолютно ручное, и меня, с моим детским восприятием, больше всего поразила скорость, с какой работницы выполняли нужные операции. Когда я стал старшеклассником, название «артель» уже не применялось. Скорее всего, все эти артели прибрало к рукам государство для построения коммунизма. Еще недалеко от нас – в противоположном от «коммунарки» направлении была гончарная мастерская. Мы с бабушкой несколько раз туда ходили к ее хорошей знакомой – тете Паше. По-моему, это было чисто индивидуальное производство, на котором работала тети Пашина большая семья. Можно было, не отрываясь наблюдать, как мастер кладет кусок глины на гончарный круг, крутит босыми ногами приводной круг и через несколько минут кусок глины превращается в экологичную посуду. В мастерской делали кружки, миски, макитры и даже ночные горшки с крышками, которые они по старинке называли «урильниками». Затем изделия покрывали глазурью и обжигали в печи, которая находилась во дворе. Помнится, мне подарили изготовленную мастерами тети Паши копилку для мелочи. В какой-то год мастерская своё функционирование закончила по неизвестной мне причине. Возможно, упал спрос на глиняные изделия, возможно, государство не стало терпеть частного предпринимателя.
Как человек, привычный с детства к работе на земле, еще раз возвращаюсь к делам сельскохозяйственным. В жизни они имели очень большое значение, так овощи на целый год выращивали, в основном, сами себе. Нужно отметить, что земля в районе Тулуна плодородная (Тулунская лесостепь), и даже местами черноземная, и всё хорошо росло. Недаром в пригороде Тулуна была образована Государственная селекционная станция, на которой научные работники занимались выведением новых, высокопродуктивных сортов культурных растений, и делали это весьма успешно. Даже в каком-то художественном кинофильме его герои обсуждали необходимость внедрения пшеницы «Тулун». По-моему одного из героев фильма играл М. Ульянов. Помню, как мы с папой ездили на лошадке за черноземом, которым удобряли землю в парнике для огурцов. Недостатком для сельского хозяйства были короткое лето, поздние заморозки в начале лета и ранние заморозки в конце лета. С заморозками боролись с помощью дымокуров, то есть разжигали дымные костры. На огороде выращивали картошку, свёклу, капусту, лук, морковь. Огурцы – только в парнике с навозом. Парник закрывался деревянными рамами со стеклами и эти рамы каждое утро поднимали, а вечером опускали. Сажали в грунт и помидоры, но они краснеть не успевали и их снимали зелеными. Дед Петя любил проводить опыты с различными южными растениями. Сажал подсолнухи, кукурузу и один раз – арбузы. Выросли маленькие и не очень сладкие арбузы – не было достаточно тепла.
Однажды дед прочитал в каком-то журнале способ сохранить свежие огурцы вплоть до новогодних праздников. Для этого нужно было посадить кусты огурцов рядом с капустой, и когда капуста начнет завиваться в вилок, поместить в середину вилка огурец, не отрывая его от плети. Огурец, по мнению автора статьи, должен оказаться в центре капустного вилка. Вилок и огуречную плеть далее следовало обрезать и хранить этот капустоогурец в прохладном месте, а зимой аккуратно разрезать вилок так, чтобы не повредить огурец. Дед этой идеей загорелся, так как в те годы зимой о свежих овощах даже и не мечтали. Но природу не обманешь. Капустный вилок никак не хотел иметь в своем чреве огурец, и безжалостно выдавливал его из себя, хотя дед пытался поместить огурец в центр вилка и зафиксировать его палками и камнями. Свежих огурцов зимой покушать не удалось – ели солёные.
С огородом связано еще одно воспоминание. Где-то в начале шестидесятых годов папа купил фотоаппарат «Зоркий-С» и мы начали его уверенно осваивать. Одним погожим днем начала осени я вышел почему-то в огород с намерением сделать несколько пробных снимков. Перед этим просмотрел свои записи, сделанные на фотокружке, об установках фотоаппарата при съемках крупным планом и вдаль. Дело в том, что на аппарате «Зоркий-С» в зависимости от освещенности и прочих факторов нужно было заранее установить выдержку, диафрагму, навести резкость на снимаемый объект, и только после этого нажимать кнопку съемки. Но как только я прицелился, мой братик Толик швырнул в мою сторону какой-то полусгнивший помидор, и бросок достиг цели. Я этого броска не видел, и братский снаряд попал точно в фотоаппарат. Помидорная гниль забила объектив и все лимбы настройки объектива, а что-то попало мне на лицо. Братик, скорее всего, испугался больше меня, так как аппарат считался большой ценностью и стоил немалых денег. Пришлось всё отчищать и оттирать с помощью тряпочек, палочек и даже иголки, но эта операция увенчалась успехом, и никто ничего не заметил, а мы, естественно, ничего не стали рассказывать.
Одним из любимых занятий у нас была рыбалка на реке Ия. Папа, который всю жизнь любил это дело, начал меня брать с собой, как только я стал уверенно сидеть на седле, которое он сделал и прикрепил к раме велосипеда возле руля. Иногда ходили на рыбалку пешком. Изредка с нами, когда была возможность, ходила мама. Она, конечно, удочек в руки не брала, а просто любила побыть на природе, отдохнуть у реки. Не знаю, как на кого, но на меня журчание воды в реке/ручье (не в водопроводе) всегда оказывало благотворное влияние. Когда мы с друзьями подросли, стали ездить на рыбалку сами. Иногда ездили на автобусе, и папа всегда старался взять с нами и моего друга Анатолия. Брат Толик, насколько я помню, пешком на рыбалку ходил, а велосипед я, как старший, всегда захватывал. Надеюсь, он обиды за это не затаил. Течение в реке довольно сильное, во многих местах с обратным течением у берегов, поэтому рыбачили, в основном, удочками-донками. С поплавочными удочками там делать было нечего. Особых уловов на удочки не было. Ловились ельцы, сороги (плотва), окуни и ерши, иногда попадались широколобки (сибирский бычок). Мне как-то раз удалось поймать небольшого налима, которого я поначалу испугался, приняв его за змею. В период массового лета насекомых рыбачили, как у нас говорили, «на сплав», т.е. нахлыстом на мушку. При хорошем жоре удавалось поймать приличное количество ельцов и хариусов.