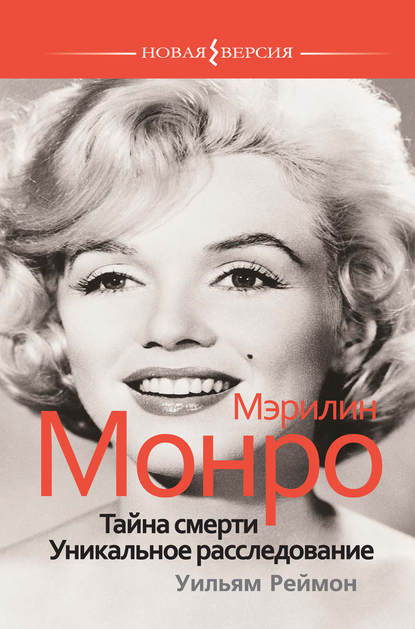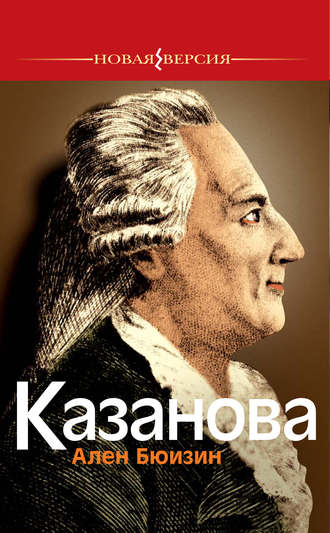
Полная версия
Казанова
Казанова в Константинополе. Будущий завсегдатай великих европейских дворов на Востоке. Венецианец в тени куполов и минаретов, которые непременно напоминали ему восточную архитектуру собора Святого Марка, посверкивающего своими «луковицами» на солнце. Какие чудесные описания нас ждут, стоит лишь вспомнить Нерваля или Флобера! Однако, читая Казанову, мы не можем не испытать разочарования. Поклонение Востоку, свойственное XIX веку, приучило нас к живописным картинам. «Вид этого города с расстояния в один лье удивителен. Нигде во всем мире не встретишь столь красивого зрелища», – пишет Казанова. И все. То же по поводу Корфу: «Теперь я должен описать читателю Корфу, чтобы он мог представить себе жизнь, какую там вели. Не стану говорить о местности, с какой все могут познакомиться». Только-только пообещав описание, он уходит в сторону. Вечно этот в высшей степени небрежный и поспешный характер воспоминаний Казановы. Постоянное сокращение описаний. Однажды он выбрался из Рима в Тиволи на целый день, выехав рано утром, поскольку множество красивых вещей, на которые стоило взглянуть, требовало времени. Результат: «Мы шесть часов смотрели и восхищались, но увидел я очень мало. Если читателю любопытно узнать что-то о Тиволи, не отправляясь туда самому, пусть почитает Кампаньяни». «Безразличие, распространяющееся на города и памятники, – пишет Ф. Марсо. – Этот неутомимый путешественник никогда не смотрит вокруг взглядом туриста. Его интересует одно: нравы, общество, женщины, столы для игры в фараон, а не то, что его окружает. В Риме он не говорит нам ни о соборе Святого Петра, ни о Колизее. Он живет на площади Испании. Надо полагать, что он даже не заметил широкой лестницы у себя под носом, которая, однако, на тот момент блистала своей новизной. В Париже он поречистее»[24], особенно когда описывает галереи Пале-Рояля: «Я увидел довольно красивый сад, аллеи, обсаженные большими деревьями, бассейны, высокие дома, которые его окружали, много мужчин и женщин, которые прогуливались, скамьи здесь и там, где продавали новые брошюры, душистую воду, зубочистки, безделушки; увидел соломенные стулья, которые сдавали за су, читателей газет, которые держались в тени девушек, и мужчин, которые завтракали в одиночестве или в компании; разносчики из кафе быстро спускались и поднимались по маленькой лесенке, спрятанной позади грабов» (I, 563). Живое и подвижное описание, потому что автора более занимает чрезвычайное разнообразие общественных занятий в этом месте, чем его архитектура. Когда, как тонкий гурман, он рассказывает о блюде из угря под винным соусом, съеденном на берегу Сены, то ни словом не обмолвливается о самой реке. Место для Казановы – это прежде всего некое общество, социальная ткань, сеть отношений или же увеселительная прогулка.
В Константинополе[25], если не считать визита к графу де Бонневалю, которого отныне звали Осман-паша Караманский (так утверждал Казанова, на самом деле его имя было Ахмет), – знаменитому отступнику, оставившему службу у императора, чтобы избегнуть крепости, сбежавшему в Турцию, отрекшемуся от христианской веры и принявшему ислам, – и длительного посещения Юсуфа, настоящего мудреца, который хотел женить его на своей дочери, главным событием была одна странная увеселительная прогулка. Приглашенный другим турком, Измаилом, Казанова отвергает его настойчивые ухаживания. Тот не сдается, для начала увозит его на рыбалку, потом приглашает в кабинет, откуда можно полюбоваться тремя прекрасными обнаженными девушками, купающимися при лунном свете, то плавая, то выходя из воды и поднимаясь по мраморным ступенькам, то стоящих, то сидящих или вытирающихся полотенцем, – в общем, во всех позах, нужных для полного удовлетворения свидетелей эротического спектакля.
Казанова нисколько не скрывает своего сексуального возбуждения. Нет ничего более непринужденного и вольного, чем тон, в котором Джакомо рассказывает нам об этом однополом романе. Следующий эпизод гомосексуализма, описанный в «Истории моей жизни», последует лишь через двадцать лет. В 1765 году Казанова в России. Он отправился к некоему Бомбаку, уроженцу Гамбурга, с которым познакомился в Англии (оттуда он сбежал из-за долгов, приехал в Петербург и поступил на военную службу). Согласно своим ожиданиям, он встретил там молодых русских офицеров, «двух братьев Луниных, тогда лейтенантов, а сегодня генералов. Младший из двух братьев был светловолос и красив, как девушка; когда-то он был возлюбленным секретаря правительства Теплова и, как умный человек, не только бравировал предрассудками, но и постоянно привлекал к себе ласками, нежностью и уважением всех мужчин, которые были ему нужны, которых он посещал» (III, 402).
Подумав из уважения, что Казанова разделяет его вкусы, он сел за стол рядом с ним и во время ужина так с ним заигрывал, что Джакомо искренне принял его за девушку, переодетую юношей. После ужина он поделился с соседом своими подозрениями, «но Лунин, ревниво относящийся к превосходству своего пола, тотчас продемонстрировал свое мужское достоинство. Желая узнать, могу ли я остаться равнодушным к его красоте, он завладел мною и, будучи убежден в том, что он мне нравится, приготовился составить мое счастие и свое собственное. Так бы и случилось, если бы Ривьера, раздосадованная тем, что в ее присутствии какой-то юноша покушается на ее права, не накинулась на него и не принудила отложить свой подвиг до более подходящего времени. Это побоище меня насмешило; но не будучи к нему равнодушен, я не вменил себе в обязанность притворяться, будто мне все равно. Я сказал девушке, что она не имеет никакого права вмешиваться в наши дела, и Лунин принял это за признание с моей стороны в его пользу. Он выставил на обозрение все свои сокровища, и даже свою белую грудь, подзадоривая девушку сделать так же; она отказалась, обозвав нас п…; мы ответили, назвав ее б…, и она ушла. Мы с молодым русским обменялись признаками самой нежной дружбы и поклялись в том, что она будет вечной» (III, 402–403).
Казанова возвращается домой, где его поджидает любовница. Эта Заира мечет громы и молнии, обзывает его убийцей и изменником. «Чтобы убедить меня в моем преступлении, она показала мне расклад из двадцати пяти карт, прочитав мне по фигурам о том, какое распутство удерживало меня вне дома всю ночь. Она показала мне шлюху, постель, сражения и даже мое отступление от природы. Я ничего не видел; она же вообразила, будто видит все» (III, 403).
«Отступление – это слово достаточно хорошо определяет отношение Казановы к данному вопросу, – комментирует Ф. Марсо. – Отступление, не более того, которое интересует его лишь опосредованно, не являясь частью его пути, но и принципиальных возражений, тем более отвращения тоже не вызывает: он его не осуждает и при случае готов сделать такой крюк»[26]. Кстати, Казанова первым подчеркивает, говоря о гомосексуализме, что эти вкусы «не редкость в причудливой Италии, где нетерпимость в этом отношении не является ни безрассудной, как в Англии, ни яростной, как в Испании» (I, 232). Однажды, когда маленький негодник нахально показал ему, что он мальчик, намереваясь предложить свои услуги, Казанова дал ему пощечину за бесстыдство, а потом экю, в виде компенсации за оплеуху. «Я лег спать, смеясь над этим приключением, ибо моя натура допускала подобные штуки только вследствие опьянения, подогретого большой дружбой» (II, 588). Это значит, что, не исключая совершенно гомосексуальные отношения и не осуждая их как преступные, он практически не придает им значения. Однако подобные «отступления» не носили уж столь исключительного характера, как можно подумать, следуя «Истории моей жизни». Действительно, в посмертных записках Казановы, среди замечаний, никак не относящихся к данной теме, были обнаружены такие заметки: «Моя любовь к альфонсу герцога д’Эльбефа»; «Педерастия с Базеном и его сестрами»; «Педерастия с Х в Дюнкерке». В этом отношении принц де Линь, известный антифизик, как называли тогда гомосексуалистов, несколько ошибся на его счет. После того как Казанова опубликовал два первых тома своих мемуаров, тот написал ему: «Треть очаровательного второго тома насмешила меня, дорогой друг, треть возбудила мою плоть, еще треть заставила задуматься. Благодаря первым двум любишь Вас безумно, благодаря последней – восхищаешься Вами. Вы заткнули за пояс Монтеня. По мне, так это самая высшая похвала. Вы убеждаете меня, как ученый физик. Вы покоряете меня, как глубокий метафизик; но огорчаете, как робкий антифизик, недостойный Вашей страны. Почему Вы отвергли Измаила, пренебрегли Петроном, и неужели же Вам стало хорошо от того, что Белисса оказалась девушкой?»[27] Надо ли полагать, что в своем рассказе Джакомо предпочитает замалчивать и обходить из чувства стыда, в благопристойном порыве нравственности, эпизоды мужеложства, считаемого грехом? По правде говоря – больше из безразличия. Казанова внутренне чувствует себя гораздо в большей степени гетеросексуалом, чтобы беспокоиться по поводу мимолетных гомосексуальных происшествий и придавать им какое-то значение. И незачем говорить о подавляемой гомосексуальности! «Песня известная, – пишет Ф. Соллерс: – если Казанова так интересовался женщинами, то, наверное, потому, что, не признаваясь себе в этом, был гомосексуалистом. Кстати, эти истории с женщинами сомнительны, хотелось бы узнать их версию событий. Во всяком случае, чего ищет мужчина в своих многочисленных приключениях с женщинами, если не единственный образ своей матери? Разве дон Жуан не был по сути своей гомосексуалистом и импотентом?»[28]
Вернемся на Корфу, где Казанова раскрывает обман своего ординарца, «проходимца, пьяницы и распутника, крестьянина, родившегося в Пикардии» (I, 306), ставшего парикмахером, потом солдатом венецианских войск, наверняка дезертировав из Франции. Будучи при смерти и уже причастившись святых даров, этот плут утверждал, предъявляя выписку из церковной книги, что он Франциск VI, Карл Филипп Луи Фуко, принц де Ларошфуко, герцог и пэр Франции. Явное шутовство, поскольку этот Франциск VI, знаменитый моралист, автор «Максим», умер и был похоронен еще в прошлом веке. Ну и пусть: мнимый принц выздоровел, заставил всех уверовать в свою сказку и стал любимцем островных салонов и патрицианок. Казанова, не попавшийся на удочку, в конце концов отлупил его как следует и бросил окровавленного на земле. Ему грозила тюрьма, и он сбежал на соседний остров. Там он устроил себе гарем из пастушек и личное ополчение из крестьян: и те и другие были готовы выполнять все его капризы и слепо ему повиноваться. Он с триумфом вернулся на Корфу, как только обман его ординарца был раскрыт и доказан документально. Несколько месяцев он пытался соблазнить некую мадам Ф., вероятно, Андриану Лонго, в замужестве Фоскарини, которая, будучи женой капитана галеры, была любовницей управляющего галерами. Красавица так и не уступила, и Казанова не добился своей цели. В ноябре 1745 года он покинул Корфу решительно без всякого сожаления.
VI. Желать
Чувствуя себя рожденным для пола, отличного от моего собственного, я всегда его любил и, как мог, вызывал его любовь к себе.
Удивительный портрет поклонника женщин в образе увлеченного читателя, даже опытного библиофила: «Основа любви – это любопытство, которое, вкупе со склонностью, которой приходится наделять нас природе для собственного сохранения, вершит все дело. Женщина – точно книга: дурна ли она иль хороша, она должна начинать нравиться с титульного листа; если он неинтересен, то не вызывает желания читать саму книгу, желание же это равно по силе вызванному им интересу. Титульный лист женщины так же строится сверху вниз, как у книги, и интерес к ее ногам, который проявляют столько мужчин, созданных наподобие меня, сродни интересу образованного человека к сведениям о месте издания книги. Большинство мужчин не обращают внимания на красивые ножки женщины, а большинству читателей нет дела до издательства. Следовательно, женщины правы, столь заботясь о своем лице и об одежде, ибо именно так они могут вызвать любопытство их прочитать у тех, кого природа при появлении на свет не провозгласила достойными родиться слепыми. И так же, как те, кто прочел много книг, горят любопытством прочесть новые, пусть даже дурные, бывает, что мужчина, любивший много красивейших женщин, проявляет наконец любопытство к дурнушкам, когда они становятся ему внове. Он видит накрашенную женщину. Краска бросается в глаза; но это его не отталкивает. Его страсть, обратившаяся в порок, подсказывает ему аргумент в пользу ложного титульного листа. Возможно, говорит он себе, что эта книга не так уж плоха; и возможно, что она и не нуждается в этой смешной уловке. Он пытается проглядеть ее, хочет пролистать, но не тут-то было; живая книга противится; она хочет, чтобы ее читали по правилам; и эгноман[29] становится жертвой кокетства – чудовища, преследующего всех, кто занимается ремеслом любви» (I, 132). Мораль: из любопытства можно начать желать даже неприглядных или откровенно некрасивых женщин. Так же, как настоящий книголюб в конце концов начинает любить все книги, распутник любит всех женщин. В самом деле, желание Казановы, не разбирающее достоинств и ценности своих побед, не проводит различия между теми, кем он хочет обладать. Было бы ошибкой полагать, что, капризничая и проводя строгий отбор между теми, кто поддается его чарам или попросту оказывается поблизости, он тяготеет только к девственницам, молодым женщинам, хорошеньким, порядочным, хорошо воспитанным, умным, одухотворенным, образованным, нежным и мягким мадоннам, достойным кисти Рафаэля или Корреджо. Напротив, он не пренебрегает самыми вульгарными шлюхами, жуткими отбросами худших борделей, маркизами в период климакса, уродинами и увечными. Его сладострастие всеядно. Это эротоман. Он любит очень молоденьких девушек, даже едва созревших девочек, и уже перезревших женщин, красавиц и тех, кого так не назовешь. Он может даже влюбиться в некрасивых или явно уродливых женщин с физиологическими изъянами. В Авиньоне он воспылал, в безумном романе на троих, к Астроди, известной мерзавке и такой же плохой актрисе, как и некрасивой женщине, и к Лепи, форменной горбунье. В Риме он вступил в связь с некоей Маргаритой Полетти, дочерью квартирной хозяйки, смешливой и хорошенькой, несмотря на кривизну: она носила стеклянный глаз, который не подходил к здоровому ни по цвету, ни по размеру. Довольно неприятная асимметрия, так что Казанова, хоть и испытывавший тогда материальные затруднения, почел своим долгом поправить дело, преподнеся ей фарфоровый глаз под стать другому. Что касается Крысенка, то, если верить слухам, она представляла собой настоящую анатомическую редкость, поскольку слыла непроницаемой. За луидор можно было провести с нею ночь – попытать счастья. Тому, кто доведет дело до конца, было обещано вознаграждение в двадцать пять луидоров. Разумеется, Казанова пришел в возбуждение и не мог устоять перед соблазном лично провести такой опыт, но на сей раз красотка, обычно запиравшаяся лишь из лукавства, отдалась ему по-честному. Более пугающим, но и симптоматичным, был случай с госпожой де Ла Сон в Берне: лицо этой тридцатилетней женщины было ужасным и отталкивающим. Однако ее любовник однажды открыл Казанове, какие сокровища и чары таила в себе изуродованная красавица. Тот тотчас воспылал желанием и взволновался до такой степени, что скорей побежал искать в объятиях своей служанки успокаивающего средства, которое было ему срочно необходимо. Ибо «несказанная красота в сочетании с кричащим уродством (увечьем, проказой, открытой раной) порождала чудовищный сплав, перед которым Казанова редко мог устоять…»[30]
Значит, не так уж глупо утверждать, что Казанова, больше гонясь за количеством, чем за качеством, любит все без разбора, с той же слепой ненасытностью. Ничто не умерит его прожорства: несмотря на беременность, менструацию или запущенную болезнь, женщина для него остается женщиной, манящей «приторным запахом»[31]. Возмутительно, сказали бы пуристы и моралисты! Так неужели же они считают, что женщина во время беременности, менструации или даже болезни – уже не женщина? Это значит не понимать того, что Казанова мог желать любую женщину уже потому только, что она женщина, то есть воплощение пола, отличного от его собственного. Казанова желает только женственности. Но во всей ее полноте, во всех, в том числе и неприглядных, проявлениях.
Если на то пошло, он желает не одних только восхитительных женщин, общество которых сделало бы ему честь, отнюдь нет, но он всегда находит восхитительными (или, по меньшей мере, привлекательными) всех женщин, которых желает. Без различия общественных классов, от маркиз и графинь до горничных, причем среди черни их было гораздо больше, чем в высшем обществе. Однако у него явно выраженная слабость к доступным женщинам, не обремененным добродетелью, и к продажным красавицам, не стыдящимся того, что их покупают.
Красавицы и уродины, молоденькие и старухи. В этом и состоит парадокс стремления к новизне, по которому лишенная красоты женщина неоспоримо более нова после роскошной красавицы, так же как и зрелая, если не увядшая женщина – после девочки. «Именно любопытство делает непостоянным человека, погрязшего в пороке. Если бы все женщины были на одно лицо и на один нрав, мужчина не только никогда не стал бы непостоянен, но даже ни разу и не влюбился бы. Он брал бы себе женщину из инстинкта и довольствовался бы ею до самой смерти. Экономика нашего света была бы иной. Новизна – тиран нашей души; мы знаем, что то, чего не видно, – у всех примерно одинаковое; однако то, что позволяют увидеть, заставляет нас поверить в обратное, а им того и надо. Скупые по природе, позволяя нам увидеть то, что у них есть общего с другими, они заставляют наше воображение представлять, будто они совсем иные» (I, 841). И все же существует ли вправду новизна в этой области? Как мог Казанова не знать, что в конечном счете получишь примерно то же самое?
Любовь роковым образом однообразна, особенно с женщинами, которые уже приобрели определенный опыт в этой области. Возможно, именно по этой причине Казанову часто тянуло на молоденьких девушек, еще относительно неопытных (в наши дни у него были бы серьезные проблемы из-за совращения малолетних).
Пока продолжается связь – несколько ночей, несколько недель, порой несколько месяцев, – Казанова верен, упорно соблюдает моногамию (правда, иногда он покоряет сразу двоих – двух сестер, двух подруг и т. д., – но тогда две женщины составляют единое целое). Его непостоянство выражается последовательно, а не одновременно. Он не такой, чтобы завязывать несколько романов зараз. Но как только его любопытство притупляется, а желание удовлетворено, связь становится для него источником привычки и скуки. Влечение ослабевает. Только новизна может подогреть желание.
«Вкус к перемене в природе животных», – писал еще Аристотель в своей «Этике (к Никомаху)», о чем напоминает Казанова. Таким образом, разрыв, чаще всего по его инициативе, становится неизбежен, более того, необходим. Нужно обязательно менять партнерш, уступив предыдущую другим распутникам, подыскав ей богатого покровителя или выдав ее замуж. Казанова мог бы держать брачную контору: он с успехом заключает матримониальные союзы и восстанавливает супружеские пары, его хлебом не корми – дай составить законное счастье тех, кого он какое-то время любил. Дать им приданое и пристроить после того, как ими обладал, или помирить с мужем! Покидая их, он первым долгом стремится избавить их от горя и сожалений. И они явно не жалуются на судьбу. Не пытаются всеми силами его удержать, не устраивают сцен, не впадают в истерику. Напротив, они в восторге от пережитого, счастливы и благодарны. Во время всей связи он думал только о них, за них, через них. Он удивлял их своей бесконечной предупредительностью. Осыпал подарками с щедростью, которой они до того не знали. Великолепно их одевал, прежде чем блестяще раздеть. Не подвергал их боли и унижениям. Уважал их тщеславие. Всегда был к ним внимателен. А главное – доставлял им наслаждение в постели, гораздо больше, чем их обычные и зачастую унылые партнеры. Они и на минуту не предполагали, что он на них женится. Они не разочарованы, потому что сразу поняли: он предпочитает им свою свободу, хотя и обожает их до безумия. Они никогда его не забудут. И все, кто торопливо обличают злое лицемерие, сексуальный эгоизм, неизлечимый мужской диктат Казановы, не должны забывать о главном: он никогда не наносил непоправимого ущерба психике, не подталкивал к катастрофе женщин, которых любил несколько дней или несколько месяцев и покидал по-дружески. Он не доводил их до беды. Нет, они не кончали с собой, не поступали тотчас в монастырь, чтобы похоронить себя навсегда в тишине и одиночестве, не предавались слезам и отчаянию. Они ни о чем не жалели. Хранили его в своем сердце как светлое и незабываемое воспоминание. Марколина воскликнула: «Вы путешествуете, лишь чтобы осчастливить несчастных девушек», – к этим словам нужно отнестись серьезно. Она говорила от имени всех своих сестер.
Если его покидает женщина, он страдает искренне, неистово, но никогда слишком долго. На краткий миг остается неутешен. Прошла мимо красавица, да просто женщина – огонек во взгляде западает ему в душу, возбуждает. Его воображение распаляется. Он готов ринуться в бой…
VII. Венеция II
Я начал жить поистине независимо ото всего, что могло поставить ограничения моим наклонностям.
С апреля 1744 по май 1753 года Казанова вел бурную жизнь авантюриста, полную путешествий и любовных интриг, роскошных приемов и вечеров в театре или в опере, бесчисленных партий в карты (благодаря которым он, задолжавший или расточительный, стесненный в деньгах или щедрый, то разоряется, то составляет состояние и наоборот), приятных связей или темных знакомств, любезного ухаживания и грязных сношений, – в общем, всего того, что можно было бы назвать рутиной наслаждения. Во весь этот долгий период, занявший около десяти лет его жизни, Париж и королевский двор будут бесспорным апофеозом всех его перемещений и приспосабливания к новой среде.
После опыта с Корфу, не вселившего в него воодушевления, он очень быстро убедился, что не имеет склонности к военной карьере, которая, как и положение священника, требует много терпения, а приносит только смешные доходы, не имеющие ничего общего с его большими потребностями. Узнав, что командующий не сдержал слова и произвел в чин лейтенанта, обещанный ему, побочного сына какого-то патриция и что он сам, таким образом, вернется в Венецию простым прапорщиком, Казанова тут же сбросил мундир. Некоторое время он побыл «практикантом» у адвоката Манцони, в конце 1745 года, подумывая самому сделаться адвокатом, благодаря своей докторской степени, полученной в Падуе, затем решил стать профессиональным игроком, но в несколько дней остался без гроша. По ходатайству г-на Гримани он получил место скрипача в оркестре театра Сан-Самуэле – того самого, где когда-то играли его родители. Какое социальное падение, ведь он считает, что обладает необходимым воспитанием и качествами ума, способными ввести его в почтенное общество! Какое падение – в оркестровую яму! Пускай Казанова храбрится, заявляя, что зарабатывает достаточно (экю в день!), чтобы содержать себя сам, ни к кому не обращаясь за помощью («Счастлив тот, кто может похвалиться, что он самодостаточен», – сентенциозно пишет он), он чувствует себя пристыженным и униженным. Что сталось с аббатом, уверенным в том, что быстро сделает карьеру и деньги, или с военным, так гордившимся своим красивым мундиром? Не имея права на малейшее уважение со стороны сограждан, чувствуя себя даже предметом всеобщего осмеяния, он плывет по течению, становится «откровенным бездельником». Напиваться в кабаке, проводить ночи в злачных местах, разгоняя клиентов и не платя несчастным девушкам, отвязывать гондолы, уплывающие по воле волн, будить среди ночи повитух, отводя их в дома, где никто не рожает, нарушать покой врачей под ложными предлогами, разбить мраморную купель, бить без причины в набат, обрезать веревки колоколов – вот лишь некоторые из дерзостей и глупостей, совершенных шайкой шалопаев, вернее, вандалов, к которой принадлежали Джакомо и его брат Франческо. Хуже того: эти хулиганы похитили красотку в одном кабаке для бедных, где подавали разбавленное вино, и всемером или ввосьмером позабавились ею по очереди. Сколько бы ни утверждал Казанова, что хорошенькая женщина, избавившись от мужа, была в восторге от такого подарка судьбы и подобного количества любовников, мы все же вправе отнестись скептически к его словам, поскольку Совет Десяти велел провести расследование, после того как оскорбленный муж подал жалобу. В то время Казанова, ветреный и безответственный, даже не подозревал, что все эти дурачества обернутся тяжелыми последствиями, когда правительство Республики посадит его в тюрьму.
Как всегда, нужен случай, предоставленный судьбой, чтобы вытянуть Джакомо Казанову из этого болота. В данном случае он звался Маттео Джованни Брагадин. Это был сенатор лет под шестьдесят, «известный в Венеции как своим красноречием и талантами государственного мужа, так и своими галантными похождениями в бурной молодости. Он совершал безумства ради женщин, которые поступали так же ради него; много играл и проигрывал» (I, 378). Однажды, в середине весны 1746 года, возвращаясь домой после трехдневных празднеств по случаю женитьбы Джироламо Корнаро на девушке из семейства Соранцо, во время которой Казанова беспрестанно играл на скрипке на разных танцах, он повстречал за час до рассвета сенатора в красной мантии, который выронил из кармана письмо, поднимаясь в гондолу. Джакомо подобрал письмо и отдал владельцу. В благодарность сенатор предложил поехать к нему домой в его гондоле. Не прошло и трех минут, как его сразил апоплексический удар. Джакомо оказал действенную помощь совершенно незнакомому человеку, дважды пустив ему кровь и всю ночь пробыв у его постели. Он заменил собой возле больного официального врача, Лудовико Ферро, который, как и подобает выдающемуся венецианскому эскулапу, чуть не уморил своего пациента, налепив ему ртутный пластырь на грудь. Счастливый от того, что выпутался, и пораженный такой ученостью, синьор Брага-дин, который, несмотря на свой большой ум, имел маленькую слабость, будучи склонен к абстрактным наукам, быстро убедился в том, что Казанова обладает неким сверхъестественным даром. «В этот момент, чтобы не уязвить его тщеславия, сказав ему, что он ошибается, я совершил странный поступок, заявив ему в присутствии двух его друзей, будто владею числовой формулой, благодаря которой, написав вопрос и преобразовав его в числа, я получу также числовой ответ, по которому узнаю обо всем, что желаю знать и о чем никто в мире не смог бы мне сообщить. Г. де Брагадин сказал, что это ключ Соломона, который в простонародье называют каббалой» (I, 378). Казанова не колеблется ни минуты, реагирует быстро и откликается на приглашение, превращая догадку сенатора в уверенность. Он использовал случай к своей пользе и утвердился в новой роли специалиста по оккультным наукам.