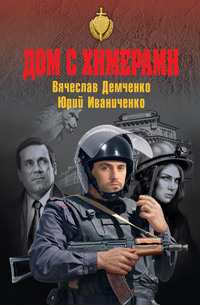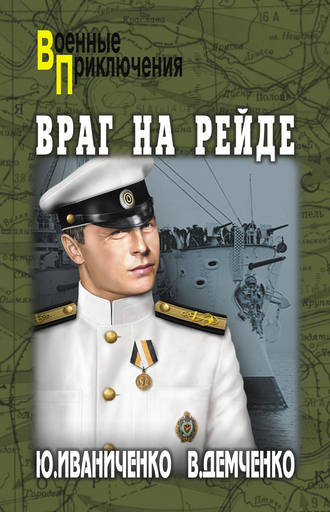
Полная версия
Враг на рейде
…Если бы британским крейсерам, к которым сразу после разворота и выхода на параллельный курс чуть позади немцев присоединился еще и легкий крейсер «Дублин», не был отдан приказ воздерживаться от боя до истечения срока действия британского ультиматума Германии, то есть до полуночи…
…Если бы не сочли на британских «властелинах морей» излишним извещать союзников-французов, к тому времени уже отнюдь не сдержанных дипломатическими играми, о местонахождении врага…
Историки злословят:
К полудню 4 августа 1914 г. командир линейного крейсера «Индомитейбл» каперанг Кеннеди доложил о ситуации командующему Средиземноморской эскадрой адмиралу Беркли Милну. Тогда же Милн составил и послал в Адмиралтейство проект приказа о «задержании» немецких крейсеров. Но приказ так и не был утвержден на Даунинг-стрит, поскольку срок ультиматума еще не истек.
Принц Луи Баттенбергский, французский посланник, пригласил к себе Черчилля и указал, что до темноты еще есть время пустить на дно крейсеры Сушона. На это багровый от ярости Черчилль ответил, что реплика не к нему, а к сэру Эдварду Грею, который до сих пор никак не может объявить войну кайзеру Вильгельму…
Интересно, какие чувства испытывал сэр Уинстон, когда вспоминал, скажем, в разгар Битвы за Атлантику, едва не поставившей Англию на колени в разгар Второй мировой, что на борту «Гебена» тогда замерли на боевых постах готовые сражаться и умереть и наверняка бы не выжили в неравном бою лейтенанты Дениц и Карле?
Те самые, которые потом станут: первый – гросс-адмиралом, командующим подводным флотом, автором тактики «волчьих стай», ужаса морей, и затем последним канцлером Третьего рейха, а второй – его соперником и преемником в Кригсмарине, генерал-адмиралом?
…В реальности же на «Гебене», открыв запасные угольные ямы и мобилизовав часть экипажа в помощь кочегарам, удалось поднять пары так, что линейный крейсер развил скорость 23, а ненадолго – и 24 узла, и англичане начали отставать. К 17 часам «Гебен» и «Бреслау» скрылись из виду, только черный дым указывал направление, но затем и он исчез…
МИД России. Кабинетные разговоры. 1914 г.
– Не могу не признать, что этот сукин сын Сушон дал фору хваленым британцам, – бросил Садовский, еще раз перебирая ворох расшифровок, телеграмм, радиограмм и донесений от российской агентуры в Сицилии, в Архипелаге и в самом Константинополе.
– О вашем же ведомстве деликатно помолчим, – отозвался Алексей Иванович и отодвинулся от обширного стола с тремя рогатыми телефонными аппаратами. – Никак не могу представить себе, чтобы некий наш командир проигнорировал подряд три прямых адмиралтейских предписания, поскольку счел иное политически более целесообразным.
За этой несколько витиеватой фразой скрывались раздражение и усталость человека, вот уже неделю пытающегося хоть что-то изменить в стремительном потоке событий, неизменно развивающихся от плохого к худшему. Тот же «сукин сын» проявил не столько понятное тевтонское упорство, но изворотливость, дипломатические способности и редкое политическое чутье.
Буровцев только что зачитывал рапорт своего агента в Мессине о том, как бравые итальянцы напоили капитана английского угольщика и загрузили до отказа ямы левого борта. А к правому борту «Гебена» в это время одна за другой подходили баржи, подвозящие уголь с «Генераля» – немецкого невоенного корабля, который, формально не нарушая нейтралитета Италии, накануне доверху загрузил свои трюмы с портовых складов.
Полиглот Венцель пересказал жалобу мессинской портовой администрации, что «синьор немецкий адмирал» в ответ на законное требование покинуть порт нейтральной страны по истечении 24 часов заявил, что отсчет времени начинается не со швартовки, а с момента уведомления, – и загрузка продолжалась.
Наблюдатель в Калабрии сообщил, что «Гебен» и «Бреслау» прошли на восток по территориальным водам Италии, что допускалось в исключительных случаях Морской конвенцией.
Адмирал же Мильн, как следовало из радиоперехвата, не решился нарушить запрет британского Адмиралтейства и не ввел свои линейные крейсера в Мессинский пролив, «дабы не раздражать Италию, только что официально заявившую о своем нейтралитете».
Британскому командующему только оставалось уповать, что эскадра контр-адмирала Трубриджа – четыре броненосных крейсера и восемь эсминцев, перекрывающих вход в Адриатику, – перехватит и остановит немцев.
Резидентура в Поле сообщала, что австрийский флот – 28 боевых кораблей! – больше суток согласовывал с Веной выход в море для поддержки «Гебена» и «Бреслау» и только утром 7 августа отправился на юг. Но дошел только до 44-й широты, когда узнал, что Сушон ведет корабли не в Адриатику, как предписывал Адмираль-штаб, а на восток, к Дарданеллам.
– …Я не моряк, а шпион, – пожаловался ротмистр. – Но мне кажется, что никто больше никого не удержит. Мир сорвался с цепей…
– Если эти «цепи» в самом деле существовали… – бросил Алексей Иванович. – Но сейчас и в самом деле все сдвинулось в наихудшем варианте. Для всех сторон. И люди переменились…
Морская хроника
Контр-адмирал Трубридж к утру 8 августа отказался от преследования «Гебена» и «Бреслау», идущих на юго-восток, так как основной задачей его соединения было блокирование входа в Адриатическое море.
Дополнительным фактором адмиральского решения было отчетливое понимание, что в дневном бою, в условиях хорошей видимости, не подпуская эскадру на дистанцию ее эффективного огня, залпами своих 280-мм орудий с дальностью стрельбы свыше 100 кабельтовых «Гебен» потопит одного за другим все четыре его крейсера.
Реакция сослуживцев на решение Трубриджа
Контр-адмирал Крэдок – Трубриджу:
«…Инцидент полагаю крайне неудовлетворительным. По отношению Адмиралтейства к уходу “Гебена” ясно, что если я сам со своей значительно более слабой эскадрой встречу крейсерское соединение адмирала Шпее, то почту долгом своим вступить с ними в сражение независимо от того, будут ли у него при этом шансы на успех…»
Именно это и произошло немногим позже в сражении при порте Коронель у побережья Чили.
Комментарий
События августа 1914 года в самом деле складывались так, будто некая сила стремилась превратить войну во всеобщую, мировую и очень кровопролитную. Чего стоит лишь эпизод, когда некий чрезмерно пунктуальный клерк в британском Адмиралтействе, обнаружив подготовленную шифрограмму приказа о начале военных действий против Австро-Венгрии, тут же осуществил ее рассылку, к вящему ужасу и возмущению Уинстона Черчилля, Эдварда Грея и прочего высшего руководства, отнюдь не стремившегося к такому повороту событий.
Шифрограмма была дезавуирована, но успела вызвать серьезное замешательство на суше и на море. Конфликт с Австро-Венгрией стремительно достигал точки кипения – и вскоре война была все-таки объявлена.
К тому же разряду событий следует отнести и решение Турции «купить» у Германии «Гебен» и «Бреслау» как бы взамен конфискованных Англией двух достраиваемых там по заказу Порты линкоров.
Заказанных, кстати, на деньги, собранные по подписке у весьма небогатого в те времена населения Османской империи.
Германские крейсера получили новые имена – «Явуз Селим султан» и «Мидилли» соответственно, а Вильгельм фон Сушон, проявивший столько воли и настойчивости во втягивании Турции в союз с Германией, был назначен командующим турецким военно-морским флотом. Часть немецких офицеров была назначена на командные должности на турецких кораблях (командира «Гебена», каперанга Аккермана, даже стали называть Ахмедом), а турецкие офицеры влились в состав экипажей «Явуза» и «Мидилли».
Особых проблем у немцев это не вызвало, зато весьма положительно сказалось на боеготовности турецких военно-морских сил.
Злые языки утверждают, что Султан Абдул-Гамид боялся, что стоит флоту скрыться с его глаз – и он тут же взбунтуется. И много лет султан держал свой достаточно многочисленный флот на якорной стоянке у Константинополя.
Внешне корабли всегда содержались в порядке и блистали свежей краской, но десятилетия практически полного бездействия не прошли для флота даром. Корабли прогнили, офицеры и матросы пали духом, так что боеготовность остатков военного флота, еще сохранившихся в Турции к 1914 году, была весьма низкой, несмотря даже на несколько лет работы британской военно-морской миссии.
Немцы, исправляя ситуацию, назначили своих офицеров командирами турецких кораблей или советниками к наиболее компетентным турецким офицерам. Подобные меры вкупе с присущими туркам от природы боевыми качествами – когда им не мешали прихоти султана – сделали турецкий флот реальной силой.
Произошло это достаточно быстро и поэтому стало в известной мере неожиданностью для командования российского Черноморского флота.
Морская хроника. 8—10 августа 1914 г.
В тот день мощная крейсерская эскадра под флагом адмирала Беркли Мильна преследовала немцев и имела реальные шансы перехватить «Гебен», у которого отказали три (из 24) котла и скорость упала до 18 узлов. Но поступила шифрограмма о начале военных действий против Австрии, и эскадра в соответствии с довоенным стратегическим планом повернула к Мальте – пункту сосредоточения Средиземноморского флота.
В полдень 9 августа поступила радиограмма, что предыдущее сообщение дезавуируется, Англия еще не находится в состоянии войны с Австрией и погоню за «Гебеном» следует возобновить.
10 августа эскадра Мильна вошла в Эгейское море. До «Гебена» и «Бреслау», загружавших уголь у острова Денуза, было не более 100 миль, но противники не знали о местонахождении друг друга.
Адмирал Мильн принял решение крейсировать между мысом Маллей и островом Милос из опасения, что неугомонный Вильгельм фон Сушон предпримет новую попытку прорыва в Адриатику, на соединение с австрийцами, или еще хуже: атакует Александрию и жизненно важный для Британской империи Суэцкий канал.
10 августа «Гебен» и «Бреслау» вошли в Дарданеллы.
Глава 3
На западном и восточном берегах
Морская хроника
С разрешения Вильгельма II Вильгельм фон Сушон получил чин вице-адмирала германского и турецкого флотов, все германские офицеры и унтер-офицеры были повышены на ранг, в Турцию затребованы 500 офицеров и 1000 унтер-офицеров различных морских специальностей из Германии.
12 августа в полдень глава турецкого правительства великий визирь Саид Халим-паша собрал дипломатический корпус и объявил, что заказанные в Германии военные суда – линейный крейсер «Явуз Селим султан» и крейсер «Мидиллие», – благополучно прибыли в Турцию и вошли в состав флота. На этих судах подняты турецкие флаги, а эскадрой командует вице-адмирал Сушон-паша.
В гавани Золотой Рог прошел парад эскадры, во главе которой шел линейный крейсер «Явуз Селим султан», после чего на борт корабля поднялся султан Мехмед V. Его величеству представили команду, переодетую в турецкую военно-морскую форму.
Штаб флота. Копия – МИД,
статскому советнику А. И. Иванову:
…Обращаем ваше внимание, что 12 с.м. (октября) Диван объявил о постановке минных заграждений в Босфоре и Дарданеллах, прекращении работы маяков и новом порядке прохождения коммерческих пароходов: только по специальному разрешению и проводке лоцманскими судами Турции. На лин. кр. «Гебен» – «Явуз Селим султан» прибыла из Гамбурга бригада котельщиков, ускоренными темпами производится ремонт.
«Колхида»[5].
Октябрь 1914 г.
Он наступил быстрее, чем думалось.
Сводки с фронтов подгоняли дни немыми окриками газетных заголовков и воплями мальчишек-разносчиков: «Король Альберт обратился за помощью к странам – гарантам бельгийского нейтралитета!», «Кайзер заменил Мольтке Фалькенгайном!», «Постановление Совета министров “Об именовании Санкт-Петербургских правительственных, сословных и общественных заведений Петроградскими”», «Французы вернули Эльзас, отобранный у них Германией в 1871!», «Французская армия оставила Эльзас!», «Галлиени перекинул на фронт целую пехотную бригаду на таксомоторах!», «Гласный городской думы Раевский предложил именовать Петроград как “Свято-Петроград”», «До взятия Кенигсберга генералом Ранненкампфом остались считаные часы!», «Ранненкампф – предатель! Генерал Самсонов застрелился! Вторая армия погибла в Мазурских болотах!», «Взят Львов! Возвращена Карпатская Русь!», «Британский экспедиционный корпус потерпел поражение у Монса», «Наступление немцев на Варшаву!», «Немцы отброшены от Варшавы!»…
Севастополь. Октябрь 14-го
Севастополь.
Он и во всякое иное время город воинственный. Но воинственность его не угрюма и злобна, а веселая какая-то, парадная. Наверное, оттого, что много в ней солнца, блистающего на духовой меди оркестров и просвечивающего розовым крылья чаек, много в ней белизны мундиров, матросских рубах и рюшей, рвущихся с подолов летнего платья; китайскими фонариками кажутся сигнальные флажки на реях кораблей, видные в самом захламленном портовом переулке…
Даже известная чопорность адмиралтейского города все как будто накануне парада и легко разрушается задорным лаем корабельной шавки, увязавшейся за сухопутным генералом по наущению чубатых усачей экипажа.
Вот они топочут сапогами по булыжнику мостовой и с нарочито серьезными минами горланят «Варяга», но мичман их ухмыляется самым беспардонным образом. Это не сухопутный, это их город. И это для них тут прячут какие-то тайны за летними зонтиками вездесущие севастопольские барышни, которые встречаются тут везде – и в тени дачной двуколки, из которой они с южным легкомыслием улыбаются на невольное «равнение» матросов, и на палубе грозного броненосца они с простодушным любопытством заглядывают в жерло пушки. И на базаре, где они со знанием дела тычут струганой палочкой янтарный «плачущий» балык…
Оттуда, с Базарной площади, только что прибыл переполненный трамвай, и из него вырвался, пробился сквозь крикливую сутолоку отставной марсовый Осип Карпенко. С изяществом статуэтки, подбоченившись и придерживая на плече корзину, заложенную мокрой тряпицей, Осип двинул через Екатерининскую площадь.
Впрочем, для «гречанки с кувшином» походка его бросается в глаза нетрезвой, преувеличенной самоуверенностью.
Следом за ним перебежать на остановку Артиллеристской линии, едва не вприпрыжку, поспешает, волоча под мышкой фунтового осетра, выпускник Одесского коммерческого училища Михаил Василиадис. И вот он уже, действительно, похож на терракотовую античную фигурку «мальчик, досаждающий Гераклу», если таковым считать матроса Карпенко. Тот и впрямь коренаст, но приземист, как будто не уместился в полный рост на расписном боку древнегреческого сосуда. Впрочем, хоть мышцы его в дряблой просоленной шкуре порядком обвисли, курчавая борода местами седа сделалась, но взгляд из-под косматых бровей по-прежнему грозен, несмотря на то что…
– Як це не страшно? Ще як страшно… – нехотя признается он, выборочно отвечая на град Мишкиных вопросов. – Дурню только не страшно. И страшно бывает.
– Тю! И кого ж ты боишься? – слегка оторопел подросток, привыкший уже как-то к бравурной риторике флотских…
Риторике, несколько поутихшей было после августовских разочарований, но с новой силой вспыхнувшей ввиду блистательных наших побед в Галиции. И теперь тем более воинственной. Теперь Севастополь знал, что милостивые боги войны и на его долю отмерили пороху, а то…
А то уж, казалось, придется растрачивать нервы на ругань газет и бессильные «стратегии» в ресторанах и кабаках, завидуя балтийским товарищам. Теперь и у требующих славы бастионов 1854 года, у причалов, встречавших героев Чесмы и Синопа, еще скрытый синим морским горизонтом, но появился подлинный враг.
Грозный и опасный по-настоящему.
Германский линейный крейсер «Гебен», вдруг превративший турецкий флот, о котором и говорить-то было неприлично, в ту самую «вражью силу», с которой не зазорно и помериться…
МИД. Статскому советнику А. И. Иванову
Ваше превосходительство, считаю своим долгом уведомить, что на переговорах между Диваном, дипломатами и представителями германского командования достигнута предварительная договоренность об окончательной поддержке Стамбулом действий Тройственного союза в обмен на предоставление финансовой и военной помощи.
Венцель.
Комментарий-справка
Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) сложился в 1879–1882 гг. Главным организатором являлась Германская империя, заключившая в 1879 г. военный союз с Австро-Венгрией, после чего к ним присоединилось Королевство Италия. 20 мая 1882 г. Германия, Австро-Венгрия и Италия подписали секретный договор о Тройственном союзе. Они взяли обязательства сроком на 5 лет не принимать участия ни в каких союзах или соглашениях, направленных против одной из этих стран, консультироваться по вопросам политического и экономического характера и оказывать взаимную поддержку. Германия и Австро-Венгрия обязались оказать Италии помощь в случае, если она «без прямого вызова с ее стороны подверглась бы нападению Франции». Италия должна была сделать то же самое в случае неспровоцированного нападения Франции на Германию. Австро-Венгрии отводилась роль резерва на случай вступления в войну России.
Новые союзники приняли к сведению заявление Италии о том, что если одной из держав, напавших на ее партнеров, будет Британская империя, то Италия военную помощь им не окажет – Италия опасалась вступать в конфликт с Великобританией.
Стороны обязались в случае общего участия в войне не заключать сепаратного мира и держать договор о Тройственном союзе в тайне.
Договор возобновлялся в 1887 и 1891 годах (при этом вносились дополнения и уточнения) и продлевался в 1902 и 1912 годах.
В ответ на создание Тройственного союза («тайное» быстро стало явным) в 1891–1893 гг. оформился франко-российский союз. В 1904 г. было заключено англо-французское, а в 1907 г. – англо-российское соглашение. Так образовалась Антанта.
С конца XIX века Италия, терпевшая убытки от таможенной войны, которую вела против нее Франция, начала менять политический курс. В 1902 г. она заключила с Францией соглашение, обязавшись соблюдать нейтралитет в случае нападения Германии на Францию. А после заключения в 1915 г. секретного (в то время) Лондонского пакта Италия в мае того же года вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, и тем самым Тройственный союз распался. Но Болгарское царство и Османская империя тогда же присоединились к Германии и Австро-Венгрии, образовав Четвертной союз.
– …«Гебена», что ли, боишься? – усомнился Мишка и даже поотстал, мазнув красным хвостом осетра по булыжникам мостовой.
Несмотря на серьезные гримасы молодых офицеров, обсуждавших в отцовой лавке явление на Черном море новейших немецких кораблей, Мишке все как-то думалось, что эта серьезность их показная. Не более чем попытка набить цену своим кителям, ни разу не штопанным от снарядных осколков и даже не облитым фонтаном близкого разрыва.
«Что там, в самом деле, бояться двух кораблей, пусть даже у них орудийных башен будет в три этажа? Наших-то вон сколько скрежещет бронированными бортами друг о дружку, полные бухты…»
Но бывший марсовый не только не разочаровал, но вновь очаровал своего верного оруженосца.
– Та не, «Гебена» не боюсь, – проворчал он, по-украински размазав «Г», отчего немецкое имя превратилось чуть ли не в ругательство.
– А кого ж тогда? – подхватил Мишка осклизлую рыбину, уже растягивая рот в предвкушении своеобразной гоголевской остроты матроса.
– А от його… – ткнул Карпенко большим пальцем через свободное плечо, должно быть, указывая на бронзовую фигуру адмирала Нахимова. – А ну як скаже: «Ты чего это, сукин сын, тут равликів[6] каких-то, прости Господи, жрэшь, когда Россию защищать надо?»
Местами даже Михаил Василиади, грек и плоть от плоти южнорусских губерний, не совсем понимал смешанной речи Карпенко, хоть в Одессе, где до недавнего времени учился, слышал украинский на каждом шагу, да и тут не в диковину…
Но в этот раз понял: «Если что, легендарный адмирал крепко осерчает на нынешних севастопольцев. Вот только за что именно?..»
– Кого, кого ты тут жрешь? – уточнил Мишка, впрочем, уже догадливо покосившись на корзину, которую матрос с дробью кастаньет установил между сапог.
Черный базарный глянец уже выцвел на скорлупах мидий, порыжевших от коросты более мелких собратьев. Ресторанный изыск для тамбовских дворян и привычное меню портовых босяков так и не приняли ни душа, ни желудок потомка запорожских казаков.
– Та ось цю гидоту… – облизнул сухие, брезгливо искривленные губы Карпенко, вновь обернувшись на статую адмирала и, верно, припоминая роскошные торжества 1898 года. Тогда «к открытию Павла Степановича» нижним чинам с нашивкой выдали аж по три целковых и в каждой палатке под флотскими вымпелами бесплатно наливали морсу, а где и рейнского всего за полушку.
– Много ты понимаешь. Сейчас возле «Кирса»[7]обольешь корзину из колонки и еще молиться на них станешь, – с важностью законченного коммерческого образования принялся наставлять матроса Мишка. – Их тамошний повар Джером полный передник берет за гривенник.
– И вот интересно мне, це ж скгльки влюе в подол цього Жерома? – въедливо уточнил практичный хохол, впрочем, в глазах его, напоенных похмельной тоской, вновь засветилась надежда.
Тогда как будущий коммерсант вдруг обнаружил досадную прореху в образовании.
– Ну… – затянул он, пытаясь свести в уме британский баррель с английской же упитанностью, определяющей размер поварского фартука Джерома, но не успел…
Лицо его вдруг застыло, словно маска древнегреческого актера, в гримасе крайнего удивления.
Едва не заглушая электрическую трель звонка, за спиной Мишки раздался такой залихватский свист, что их с Осипом базарная попутчица, склочная толстая тетка в пестрядине, выронила такой же пестроты несушку.
Нельзя было, конечно, за просто так удивить свистом город матросов и портовых грузчиков, но в этом был такой особенный перелив… – Мишкино лицо озарила улыбка узнавания, – услышь который за пределами Васильевского острова в Петербурге, всякий «черный гардемарин» тут же выпустил бы из шлевок форменный ремень, готовясь лететь бить юнкеров, спасть своих…
Морская хроника. 28 сентября
Командир «Колхиды», Константинопольского стационара, сообщает о выходе «Гебена» в сопровождении трех эсминцев в Черное море.
По приказу адмирала Эбергарда основные силы флота выведены из Севастопольской бухты и на крейсерском ходу направлены к Босфору.
Сигнально-телеграфное отделение, Херсонес
Радиоперехват 28 сентября
С неопознанной радиостанции передано на немецком языке, шифр 8/2, сообщение о выходе и направлении движения эскадры русского флота, с перечислением названий броненосцев и крейсеров.
28 сентября. «Колхида» – штабу
Весьма срочно
По сообщению с парохода «Борей», соединение во главе с «Гебеном» под адмиральским флагом совершило разворот «все вдруг» и взяло курс на Константинополь.
Морская хроника. 28 сентября
Эскадра во главе с флаг-броненосцем «Святой Евстафий» изменила курс на зюйд-вест, вышла к Зунгулдаку, затем вдоль побережья к Босфору, не заходя в турецкие территориальные воды.
С наступлением темноты эскадра возвратилась в Севастополь.
– Тезка! Мишка, стой! Не уходи! Стоп машина! – полошился на «круговой», на открытой площадке переполненного трамвая «черный гардемарин» Василий Иванов. – Тезка!
«Тезка», Михаил Василиади, обернулся уже с совершенно другой маской на лице – мимом недоверчивого счастья и самого зубастого восторга, правда, с прорехой на самом видном месте.
И впрямь, сотоварищ всех мыслимых и немыслимых безобразий его детства, друг и враг юношеского соперничества, наперсник возмужания…
Одним словом, Васька-«Варяг» ехал со стороны вокзала и едва не вываливался за фанерный борт трамвайной кормы.
Варвара Иванова, пытавшаяся изображать демократическое хладнокровие в давке 3-го класса, даже подумала: «Не дать ли по старинке подзатыльника братцу?..» Уж больно по-детски тот скакал по чужому вокзальному багажу. Но в последнее мгновение чуткая воспитательница, представив, как будет смотреться съехавшая на веснушчатый нос фуражка с золотым якорьком почти офицерской кокарды, передумала.
– Давай уже, в таком разе… – зашипела она, потянув братца за рукав шинели на выход. – А то, не ровен час, трамвай опрокинешь.
– …Осип, как я рада, что мы тебя повстречали! – Варя присела возле корзины, безбоязненно распустив подол теплой юбки по пыльным булыжникам мостовой. – Сделай милость, Осип, одолжи мне свои уши, – бормотала она, двумя пальцами приподнимая мокрую тряпицу.
– Да на что вам мои уши? – несколько опешил марсовый Карпенко, проверив на всякий случай затребованное.