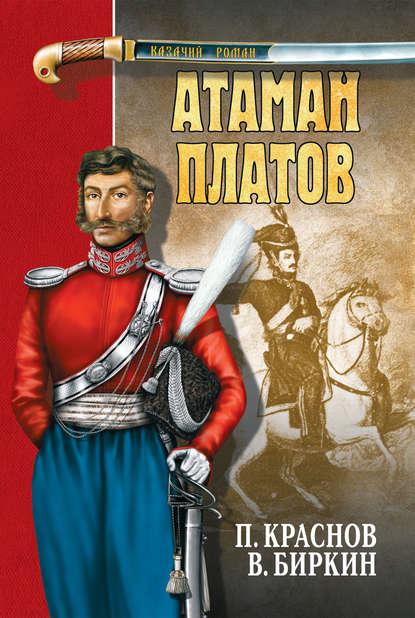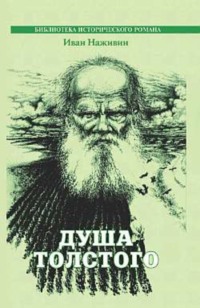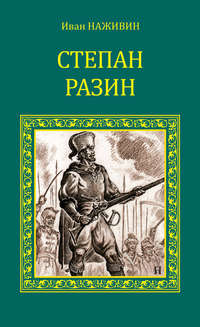Полная версия
На рубежах южных (сборник)
– Казак Дядьковского куреня Ефим Половой. Сбег от черкесов, – отрапортовал Ефим.
– А конь чей? – спросил Смола, окидывая быстрым взглядом привязанную лошадь.
– То Дикуна трофей, – ответил Шмалько.
Передав повод казаку, Смола подошел к привязанной лошади, заглянул в зубы, провел по груди.
– Слушай, Дикун! Ведро горилки на распой и обмундирование для Полового за коня даю, – поворотился Смола к Федору. – Сам суди, негоже казаку в курень голым являться!
– Отдавай, чего там, – бросил кто-то из верховых.
Федор посмотрел на коня, перевел взгляд на Ефима. – Раз для товарища, согласен…
Когда разъезд скрылся с глаз, Шмалько зло бросил:
– Хапуга! Дарма такого коня выцыганил.
Федор безнадежно махнул рукой.
– Все равно забрал бы, что с ним сделаешь…
На древнем кургане, насыпанном невесть когда, накрепко врос казачий сторожевой кордон. У небольшой землянки, крытой мелким чаканом, сигнальная вышка. День и ночь ходит на ней дежурный казак. Заметит неприятеля и замаячит сигнальными шарами. Этот сигнал подхватывают на другом кордоне, и идет тревога по всей линии. А ночью, чтоб о неприятельском налете сообщить, зажигают на высоком шесте пук просмоленной соломы…
В хмурый полдень свободные от наряда казаки пропивали дуван Федора. Есаул Смола привез за коня обещанное ведро вина.
Все сидели у входа в землянку. Лезть в эту низкую, полутемную сырую нору, провонявшуюся потом, сыростью, дымом, – никому не хотелось. Там только ночевали.
На легком огне костра, в подвешенном на треноге казане, булькал кулеш. Казаки сидели вкруговую – и также вкруговую гуляла глиняная кружка.
– Добрая горилка, шо мед, – вытирая ладонью обвисшие усы, промолвил казак, сидевший рядом с Дикуном.
Федор, выпив свою порцию, передал кружку следующему.
– А ну, бисовы диты, дайте покажу, як у нас на Запорожье пили, – раскатисто пробасил седоусый казак.
– Покажь, Чуприна!
Чуприна зачерпнул полную кружку вина, поставил на тыльную сторону ладони и, осторожно поднеся ко рту, зажав край кружки зубами, отнял ладонь. Затем, медленно опрокидывая голову, начал цедить горилку сквозь зубы и, когда посудина опорожнилась, отнял ее ото рта.
– Добра, да мало! – молодецки выкрикнул он и, лукаво улыбнувшись, вскочил. – А ну, сынки, дайте круг!
Вскинув руками, старый казак пошел выбивать лихого гопака, приговаривая:
Гоп, кума, не журись,Туда-сюда повернись!– Ай да Чуприна! Вот тебе и старый! – смеялись молодые казаки. – С таким-то брюхом, а как жарит!
Вслед за Чуприной, скинув свитку, в круг вошел Ефим Половой. Он носился за дюжим Чуприной вприсядку, выбрасывал замысловатые коленца.
Закончив плясовую, Чуприна грузно плюхнулся на землю. Рядом с ним, переводя дух, умостился Половой.
– Эй, Ефим, расскажи, як ты эту отметину заслужил, – хитро подмигнул Дикуну Шмалько, указывая на подковообразный шрам на щеке у Полового.
Ефим потер щеку, развел руками.
– А что тут казать. Хлопец я был вредный. «Дуже добрый», – казал мой дед. Больше всего я над ним потешался. А делал так, чтобы старый об этом не догадывался. А как догадается, то держись. Схватит за хохол и таскает по двору: «Вот, – каже, – день субботний». Знал я, что за дедом грех водился: боялся он дюже жаб. Как увидит, так и плюется. Говорил, что бородавки от них. Вот однажды подстерег я, как дед на рыбалку отправился сетки ставить, наловил цибарку жаб, да на зорьке ту сетку потрусил, а заместо рыбы жаб понапутал, а сам запрятался, жду. Только солнце занялось, смотрю, дед рысцой трусит. Подбежал до речки, перекрестился – и в воду. Добрел до сетки, поднимает край из воды, а жабы – ква-ак, ква-ак. Дед плюнул, прошел шаг, опять поднял, а они: ква-ак, ква-ак.
Чую, бормочет дед: «Шо це такэ?» Прошел он вдоль всей сетки, и везде только жабы квакают. Плюнул дед, вытащил сетку на берег и давай тех жаб отцеплять. Ничего он тогда не сказал, а, видать, догадался, чьих рук дело.
Вечером уснул я, и снится мне, вроде прилетели ко мне ангелы, берут меня под руки и несут в небеса. Ого, думаю, в святые попал. Только что-то больно мне подниматься. Невтерпеж стало, открыл глаза, а это меня дед за хохол с лежанки тянет.
Завопил я благим матом да как сиганул, сбил деда с ног да в дверь. В руках у него только добрый пучок волос остался. Выскочил да в огород, а дед за мной. Я через плетень, а сучка-то и не заметил. Вот он мне эту памятину навек и оставил. – Ефим провел рукой по шраму.
Один из казаков, помешивая кулеш, повернулся к сидевшему в стороне Дикуну.
– Слышь, Федька, принеси воды. Твой черед.
Взяв ведро, Федор направился к реке. Тяжелые тучи стлались над степью, туман грязно-серыми космами цеплялся за сторожевую вышку, слегка покачивая сигнальный шар. Холодный ветер катал вырванную с корнем сухую траву, рыскал по балке и свистел, нагоняя тоску.
Поеживаясь от ветра, Федор смотрел на мутную, холодную реку. И вдруг припомнилось хрустальное, весеннее утро, Кубань, рыжая круча, вербы… И девичье тело – легкое, гибкое, крепкое, прильнувшее к его груди…
«Эх, Анна, Анна!» – вздохнул Федор.
Спускаясь по узкой тропинке к Кубани, он подумал: «Через полмесяца сменят…» И так потянуло его в станицу, что были бы крылья – так бы и полетел.
Глава V
У Степана Матвеевича Балябы был гость. Проездом заехал к нему старый знакомец Григорий Кравчина.
Гость и хозяин ужинали в горнице. Кравчина сидел в углу, густо увешанном образами. В затылок ему скорбно смотрела святая богородица. Под потолком слабо тлела лампада. От огонька кверху поднималась тонкая струйка копоти.
У стены стоял большой сундук, окованный железными полосами, напротив деревянная кровать с пышно взбитыми подушками. Над ней висит тяжелая пищаль, кожаная пороховница. По стенам развешены сабли турецкие, пистолеты, кинжалы. Земляной пол помазан разведенным коровьим пометом, и запах его стоит в горнице.
– Суета сует мирских, – вздыхает Кравчина, зоркими глазами ощупывая толстобрюхий сундук, кинжал в серебряных ножнах.
«Ишь, старый черт, сколько добра надуванил!» – с уважением подумал гость.
Обглодав гусиную ногу, он швырнул кость под стол, вытер руки об льняную скатерть.
Из кухни, держа перед собой пирог, вошла Анна. Убрала пустые миски. Почувствовала, как колючие глаза гостя осмотрели ее с ног до головы. Смутилась. Когда вышла, Кравчина как бы невзначай бросил:
– Красивая дочка у тебя, Матвеевич… Цветок!
– Бог не обидел… Так, стало быть, давай, Митрич, выпьем, чтобы, как говорится, не первую, не последнюю.
Гость и хозяин снова выпили. Развязав очкур, Кравчина ослабил пояс шаровар, отрезал кусок пирога. Ел с жадностью. Коричневатая тушеная капуста падала на колени, на пол.
Через стену слышно было, как переговаривалась атаманша с дочерью.
– А ты, Митрич, стало быть, еще не женился? – словно невзначай полюбопытствовал Степан Матвеевич. Он заметил жадный взгляд гостя, брошенный на Анну, сразу прикинул:
«Зятек был бы что надо! Оборотистый, ловкий, пальца в рот не клади…» Можно было бы доброе дело завернуть: в Кореновке хлеб дешевый, а в Екатеринодаре он всегда в цене. Опять-таки, у мирных черкесов здесь овец можно по дешевке скупать да с большим барышом перепродавать… А можно и без денег – шепни только казакам-гультяям – за штоф водки стадо у черкесов угонят.
– Да, жениться-то тебе уже пора, казак! – продолжал плести сеть атаман.
– За делом некогда, – отрыгивая, отшутился Григорий. – А вот я погляжу, да к тебе сватов и зашлю, – подморгнул он.
«Клюнуло, видать!» – подумал Баляба и посмотрел на Кравчину. Тот сидел нахохлившись, горбоносый, с нависшими бровями – ястреб ястребом.
– Ты не смотри, что я уже в годах. А коли сватам не откажешь, жалеть не будешь.
Степан Матвеевич снял нагар со свечи. Тающий воск скатывался на стол, застывал лужицей.
– В годах, да с достатком, – кивнул головой Баляба.
– Это ты правду, Матвеевич, говоришь. Я при хорошем достатке. За меня любая пойдет, только рукой поманю. Да я на всех их… А вот твоя девка, впервой вижу, а приглянулась… Прямо скажу – по сердцу она мне!
В дверь заглянула атаманша, поманила хозяина пальцем.
– Посиди трошки, я зараз, – Степан Матвеевич, слегка покачиваясь на нетвердых ногах, вышел.
Опершись о бока, Евдокия сердито прошептала:
– Ты не тешь беса, старый, не суй этого нечистину в зятья – я все слышу, все вижу. Ишь, как он по девке глазищами-то шарпал. Истый волк!
– Не твое бабье дело! – цыкнул на жену Баляба. – Как захочу, так и будет! – И возвращаясь в горницу, нахмурив брови, бросил с порога: – Евдокия, стели гостю, на покой пора.
На Кубани осень капризная, переменчивая. Иногда сентябрь выдается холодным, пасмурное небо назойливо сыплет дождем, а в октябре – ноябре вдруг прояснится, и тепло, по-весеннему пригреет солнце. В такую пору в степи зеленой щетиной выбивается молодая трава, расцветают поздние цветы. Ночи стоят тихие, в иссиня-чистом небе рассыпанными монистами мерцают звезды. И кажутся они совсем рядом – протягивай руку и срывай.
Такими ночами в станицах водят хороводы. Звонко поют девчата и парни, не расходятся по домам до третьих петухов, до розоватой зорьки на востоке.
Федор и Анна сидят над обрывом реки. Горячей ладонью Федор гладит ее волосы, нежно целует щеки, лоб…
– Когда ж мы вместе будем? – шепчет Федор. Молчит Анна.
А в то самое время, уложив гостя, Степан Матвеевич вышел на улицу, постоял недолго у ворот, огляделся по сторонам и осторожно зашагал к Лукерьиной хате.
Под ноги, заливаясь звонким лаем, подкатился соседский щенок.
– Геть! – Баляба выдернул из плетня хворостину. Напуганный щенок нырнул в подворотню. – Атамана не узнает… Я тебе покажу нечистых, – пьяно бормотал Степан Матвеевич.
Вот и хата вдовы. Маленькие окна, как веками, прикрыты ставнями. Баляба корявым ногтем долго стучал по ставне. Никто не ответил.
– Лушка! – припав к окну, позвал он. Но снова никто не отозвался. – Спит, чертовка!.. А вот я тебя в другое окно покличу! – атаман, держась за стену, обошел вокруг хаты. – Я тебя знаю… Я еще не забы-ыл, вре-ешь…
Его качнуло, и он ухватился за плетень. И вдруг в неясном свете, под грушей, разглядел две прижавшиеся друг к другу фигуры. Они сидели на самой круче.
Голоса их показались Балябе знакомыми.
– Ишь ты, – прошептал он и неслышно, крадучись, перешагнул через плетень.
«Не иначе, Анна. А то никак Федька!»
От гнева у Степана Матвеевича застучало в висках. Он осторожно вытащил из плетня гибкий ивовый прут и с размаху, с выдохом, хлестнул по белой свитке. Потом прут опустился на плечи женщины.
– А вот тебе! А вот тебе…
И вдруг изумленный Баляба разглядел обвисшие черные усы, длинный коршунячий нос, а рядом – круглое женское лицо.
– Лушка! А это никак ты, кум Терентий?! – узнал Баляба. Хмель у него как рукой сняло: – А я думал, Федька. Попутал нечистый.
Он отбросил хворостину. Но не успела она коснуться земли, как вдова, подбоченившись, шагнула к нему.
– Ах ты, кобелина старый, – размахивая кулаками, визгливо закричала Лукерья. – Да ты что мне за указка! Федька! Федька! А тебе что за дело, дьявол ты этакий.
– Тьфу, бесстыжая, – плюнул атаман. Он нагнулся за хворостиной, но тут же, заметив, что кум засучивает рукава, отступил к перелазу. Вслед ему Лукерья выкрикнула:
– Иди свою журавлиху длиннободылую поучай…
– Ну и баба, зловредная баба, – пробормотал уже за плетнем атаман.
Кравчина проснулся с головной болью. Во рту было скверно, тошнило. Сквозь тусклые стекла пробивался бледный рассвет. Сбросив лоскутное одеяло, Григорий сел, свесив ноги. Деревянная кровать под тяжестью тела жалобно застонала.
Почесав заскорузлой пятерней волосатую грудь, он смачно сплюнул на земляной пол и, накинув кожух, вышел во двор.
Молочный туман растекался по земле. Тянуло предутренним холодком. В конюшне, позванивая недоуздками, жевали овес кони.
Григорий зябко поежился и вдруг выпрямился, словно подстегнутый плетью. Мимо него к сараю, с подойником в руках, пробежала Анна. Широкая юбка подоткнута у пояса, и Кравчине видны белые, как сметана, коленки. Воровато оглядываясь по сторонам, он прошмыгнул в сарай, затаился в густой тени.
Присев на низкую скамейку, Анна доила корову. Движения ее рук ловки и быстры. Струи молока звонко бьют о стенки подойника. Нетерпеливая корова перебирает ногами.
Время тянется томительно. Кравчина нервно подрагивает, не сводит глаз с Анны. Наконец она поднялась и, подхватив тяжелый подойник, пошла к выходу.
Выйдя из темноты, Кравчина заступил ей дорогу, схватил за руку. Другая ладонь, горячая и потная, обожгла шею девушки.
– Анна! – выдохнул он, обдавая ее водочным перегаром, и потянул к себе.
Анна напряглась, откинулась назад, хотела крикнуть. Но Кравчина, попятившись, оступился и выпустил ее руку. Анна вывернулась и опрокинула ему на голову подойник. Теплое молоко полилось за воротник, растеклось по телу.
– Подлюка, – протирая глаза, ругнулся Кравчина вслед Анне. – Все одно меня не минуешь!
Глава VI
Ясный вечер опустился на станицу. Багряный диск солнца постоял на самой окраине степи и нехотя полез за горизонт. День стал заметно короче. Казаки давно уже перевезли со степи сено, и запах сухих трав висел над станицей.
Вернувшись из правления, Баляба, с зажатой в зубах люлькой, хозяйственно прохаживался по двору. Крепкий самосад разъедал горло, назойливо лез в глаза. Степан Матвеевич щурился, поминутно кашлял, разглаживая черные с проседью усы. Легкий ветерок ворошил оброненный пучок сена, катил его по двору. Баляба вытащил изо рта люльку, позвал:
– Митрий!
Из сарая вышел тот самый рязанский мужик, которого Баляба обещал приписать в казаки. На нем все те же лапти, те же холщовые штаны и выгоревшая, пропотевшая рубашка.
– Ты подкладывал скотине?
– Подкинул, хозяин, подкинул.
– Подкинула б тебя нечистая. Это что? – Быстрым движением Степан Матвеевич поднял сено, ткнул под нос работнику. – Не свое, стало быть, хозяйское, так и не жалеешь. Ишь, дорогу выстелил!
– Почто ругаешься, хозяин, тут самая малость сенца-то упала! Да я бы и сам подобрал.
– Сразу надо подгребать! Руки повысыхали, что ли? Больше жрешь, чем работаешь. – Продолжая ругаться, Баляба направился к хате.
Из-за поворота улицы вывернула тачанка. Здоровенный казак, откинувшись, осадил сытых коней у атаманских ворот. Баляба затрусил навстречу, распахнул ворота. В приехавших он узнал Хмельницкого, дальнюю родню покойного гетмана, и куму Марфу, жену кореновского атамана. Сердце забилось от доброго предчувствия: «Не иначе, сваты от Кравчины». Степан Матвеевич ждал их с того дня, как кореновский богатей побывал у него.
– Принимаешь гостей, атаман? – низким басом пророкотал Хмельницкий. – Мы с Марфой к твоей милости.
– Просим, просим, гостям завсегда рады, – засуетился Баляба. – Митрий, коней выпряги, сена подложи!
Хмельницкий грузно соскочил с тачанки и помог сойти своей дородной спутнице.
– Надумали мы, Степан Матвеевич, проведать вас да заодно на крестницу посмотреть. Она у тебя, говорят, красавица, – нараспев проговорила Марфа и, подобрав пышные юбки, первая проплыла в хату. С хозяйкой она расцеловалась, справилась о ее здоровье.
Евдокия полотенцем смахнула со скамейки невидимые пылинки, пригласила гостей присесть.
Разговор клеился плохо: говорили о разном, о хозяйстве, о полках, ушедших в польский поход, о многом другом, не решаясь приступить к главному.
Наступили сумерки. Евдокия зажгла каганец, поставила на стол. Наконец Марфа решила, что пора приступать к делу. Она толкнула Хмельницкого в бок: начинай, мол. Но тот, считая, что быка надо брать за рога после двух-трех шкаликов, оттягивал разговор. Тогда Марфа сама не выдержала.
– Вот какое дело, дорогие кумовья, смотрела я на крестницу мою, невеста хоть куда. А у нас на примете и жених для нее подходящий сыскался. Вот и будет – ваш товар, наш купец. Богатством его бог не обидел, да и с лица неплох.
Тем временем Хмельницкий внес со двора заткнутый тряпицей объемистый глиняный кувшин. Он привез его под сиденьем тачанки.
Степан Матвеевич, у которого ответ был уже заранее готов, для вида решил покуражиться.
– Да товар наш, дорогая кума, еще не залежалый, можно и подождать. Как ты думаешь, мать?
Евдокия пожала плечами.
– Надо и у Анны спросить.
– Как? – Баляба гневно стукнул кулаком по столу. Жилы на впалых висках вздулись синевой. – Я кто ей? Как скажу, так и будет!
– И, дорогая Евдокия, к чему спрашивать, – развела руками Марфа. – Станет ли послушное дитя родительской воле перечить? Чи у нас с тобой спрашивали?
Евдокия только вздохнула. А Степан Матвеевич уже спокойней приказал:
– Готовь вечерять. А с хорошей закуской да доброй горилкой, – он постучал по кувшину, – и ответ разумный будет.
Прильнув ухом к двери, Анна затаила дыхание. «Что скажет отец?» Мелкий озноб бил ее. Вначале она надеялась, что отец откажет сватам. Но когда он закричал на мать, Анна поняла, отец твердо решил отдать ее за Кравчину.
К горлу подкатил комок. Первым желанием Анны было вбежать в горницу, упасть родителям в ноги, умолить их. Но девушка знала, что крутой и своенравный характер отца не переломить.
Сутулясь, вышла во двор. Слезы словно сами собой катились из глаз. Добравшись до плетня, Анна уцепилась за кол обеими руками и заплакала горько, с надрывом.
Сгущались сумерки. Напротив, во дворе, показалась мать Федора. Она прикрыла дверь курятника, подперла ее колом. Анна перебежала дорогу, из-за плетня окликнула негромко:
– Тетка Пелагея!
Дикуниха оглянулась на зов и подошла к плетню неторопливой, усталой походкой.
– Цэ ты, Анна? Да никак плачешь? – удивилась она.
– Тетка Пелагея, мне б Федора повидать, – переборов смущение, попросила Анна.
– И-эх, милая, – подавила вздох Пелагея. – Там он, в балке, хворост вяжет.
Узкой тропинкой Анна пересекла огород. Еще издали заметила Федора. Он стоял перед большой кучей хвороста.
Увидев Анну, он быстро пошел к ней навстречу, на ходу вытирая руки о полу свитки.
– Федор, сваты к нам приехали…
– Сваты? – только и переспросил он. – Та-ак!
– Федор! – голос ее сорвался, крупные слезы потекли по щекам. – Я к тебе шла, думала, ты утешишь…
Она повернулась к нему спиной.
Федор обнял ее за плечи, почти насильно усадил на связку хвороста. Ладонью отер горячие слезы на ее лице.
– Тяжко мне, Федор, душа болит…
– А у меня не болит? Но что, что делать? Научи!
– Не знаю…
– Попроси отца.
Она покачала головой.
– Нет, отца не уговорить…
Огрубевшими от работы руками она теребила его жестские волосы, гладила непокорный чуб.
– Бежать бы отсюда, любый!..
Федор не ответил. Он словно погрузился в какое-то забытье.
– Что ж ты молчишь? Или боишься?
– Нет, Анна, никого я не боюсь! Но куда бежать?
– С тобой, Федор, хоть на край света пойду…
– Мы и так на краю света.
– За рубеж бежим… За Кубань, к черкесам… Или в степь, к нагаям…
– В степь? – снова переспросил Федор. И ткнулся лицом в ее колени. – Не могу, Аннушка, прости – не могу! Не в силах я мать бросить – одна она у меня… Сколько сил на меня положила, чтоб на ноги поставить, когда отец в бою смерть принял. А сейчас она старая, больная, еле ходит. Видать, не судьба нам…
Девушка поднялась.
– Может, ты и правду говоришь. – Голос ее вдруг стал безразлично спокойным.
Она повернулась и пошла обратно.
– Куда же ты, подожди! – Федор схватил ее за руки, пытался удержать.
– Нет, прощай!
Она вырвалась, откинула косынку и торопливо пошла от него.
А через месяц у Кравчины гуляли свадьбу – разгульную, с песнями, с лихим посвистом и плясками.
Ради такого случая Степан Матвеевич не поскупился: наварили два бочонка горилки, зарезали трех овец да годовалого бычка, из Ачуева подвезли воз свежей рыбы.
Три дня пили у невесты, три дня у жениха. Почитай, две станицы ходили пьяными.
Атаман Баляба словно помолодел – голову побрил, во все новое оделся. Жених тоже ходил гоголем: усы лихо подкручены, волос с проседью напомажен, блестит. Он все время рядом с невестой, глаз с неё не спускает.
Но Анна все эти дни сидела, как на похоронах, – глаза от слез красные, лицо восковое. Ни улыбки, ни слова.
На свадьбе долетел до Кравчины злой шепоток: «Силком берет».
Григорий нахмурился. Исподлобья поглядывал на невесту. Улучил время, сказал тестю:
– Може, и не по себе дерево рублю?
– Ты, Гришка, на баб не смотри, что они нюни распустили, – успокоил его Баляба.
Но вот пришел час отъезда. С шумом, пьяными криками вывалили гости на улицу, где стояли наготове тройки. В толпе глаза Анны разыскали Федора. На миг взгляды их встретились, и тут не выдержала она, покачнулась, закрыла лицо руками. Все примолкли, даже самые пьяные. Подружки подхватили Анну, усадили в тачанку, рядом с нахохлившимся женихом, и тройки, одна за другой, позванивая бубенцами, понеслись по станице. А там, за околицей, привстал дружко, разобрал вожжи, гикнул, и помчалась тачанка так, что только ветер морозный засвистел в ушах.
Пьяный азарт захватил Кравчину. Он вырвал у дружка кнут, с диким визгом хлестнул по пристяжной и, оскалив рот, что-то бессвязно кричал навстречу ветру.
Распластались в стремительном беге сытые кони. Под сбруей мыло, изо рта пена летит клочьями. Кружится все перед глазами у Анны, рябит. А вокруг, куда ни глянь, тоскливая, голая, плачущая степь.
Станица родная исчезла, растаяла в синеватом морозном тумане…
Глава VII
Велика русская земля. От далекой глухой Сибири до царства Польского, от моря Белого за горы Кавказские распростер двуглавый орел свои крылья. Взойдет солнце на востоке – на западе темная ночь, на востоке ночь – на западе день. Так и светит круглые сутки солнце над русской землей.
В ту зиму пушистый снег завалил улицы Петербурга, лег белыми шапками на лохматые головы елей, мороз сковал Неву толстым льдом. В лесу висит морозная тишина, и только изредка нет-нет да и звонко треснет обломившаяся под тяжестью снега хрупкая ветка.
В один из таких дней к закрытому шлагбауму Петербургской заставы рысью подъехал верховой. Из будки, держа ружье под мышкой, вышел солдат. Лицо его закутано шерстяным башлыком, только глаза и нос видны.
– Далече ли?
– Открывай, служивый, не задерживай! Гонец от самого графа Зубова. С письмом на Кубань!
Солдат поспешно поднял шлагбаум.
– Счастливый путь! – И про себя подумал: «Видать, срочный эстафет, коль в такую лютость погнали курьера…»
Много дней прошло и не одного коня сменил гонец, пока дошел тот пакет до войскового судьи Головатого.
Антон Андреевич хмуро оглядел пять сургучных печатей с графским вензелем, неохотно надорвал край пакета, вытащил исписанный лист.
«Милостивый Антон Андреевич! – писал личный секретарь всесильного вельможи. – Его сиятельство граф Платон Александрович пишет вам, чтобы вы с командою черноморцев в два полка шли в Астрахань, под начальство графа Валериана Александровича Зубова для участия в Персидском походе…»
С тем же недовольным видом читал войсковой судья громкие фразы о вероломстве персидского шаха Мухамед-али, разорившего грузинское царство и строящего козни против России.
Недаром кое-кто из петербургских завистников звал Антона Головатого старой кубанской лисой. В борьбе за власть познал Антон Андреевич и хитрость польских панов, и вкрадчивую льстивость турецкой дипломатии, и коварство отцов-иезуитов. И все эти уроки не прошли для него напрасно, пригодились…
Каждый год по нескольку раз отправлялись с Кубани в Петербург возки с подарками вельможным покровителям Антона Андреевича. Везли в «Северную Пальмиру» и душистый кубанский мед, и ачуевскую икру, и жирных копченых рыбцов, и серебряное с чернью черкесское оружие, прославленное своей закалкой и красотой. Поэтому и знал Антон Андреевич обо всем, что делалось в Петербурге. Знал он заблаговременно и об этом Персидском походе…
Последний фаворит стареющей императрицы Екатерины светлейший граф Платон Зубов хотел какими-либо талантами и победами добыть себе славу. Нужно это было молодому честолюбцу потому, что он видел ясно – недолго протянет императрица. А с ее смертью кончится и его всесильная власть, если… Если он не докажет свою необходимость русскому престолу. Во имя этого и затевался Персидский поход. И командование войсками возлагалось на брата Зубова – Валериана… Все, все знал Антон Андреевич Головатый!
«Бисова баба! – непочтительно обозвал он в мыслях всесильную повелительницу земли Российской. – В гроб смотрит, а со смазливыми мальчишками амуры водит…»