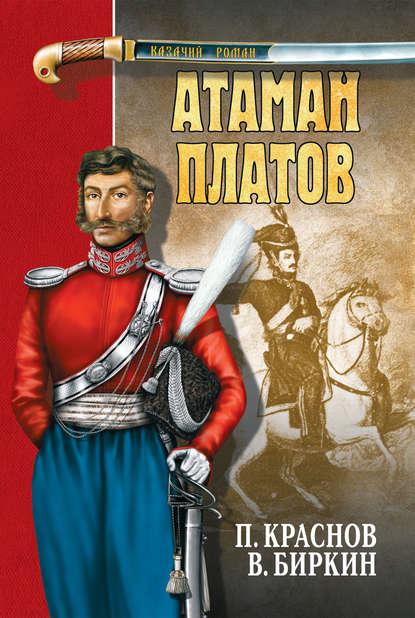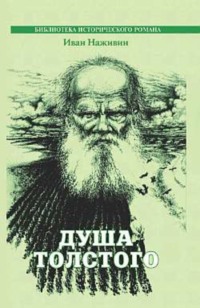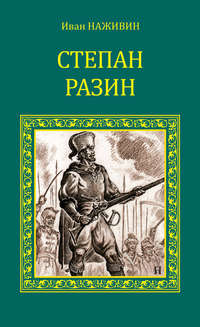Полная версия
На рубежах южных (сборник)
– А я в дороге узнал, что Сечь-мать порушили. Мы с Сидором Белым и Логином в ту пору на Хортицу возвращались… Хотели от горя постреляться, да Сидор не дал. «Вы, – говорит, – хлопцы, пулю с дуру всегда проглотить успеете. Надо думать, как бы войско возродить, не дать сгинуть казачеству». Он и мысль подал к Потемкину в конвойную сотню вступить.
– Потемкин сдуру матушку-царицу уломал, чтоб войско Запорожское порушила, а потом же сам просил нас, чтоб скликали войско Черноморское…
– Не, Мокий! – покачал седеющей головой Антон Андреевич. – Не! – Головатый отошел от окна, сел против старого друга. Глаза сосредоточенно остановились на нем. – Не! Светлейший понимал, что, пока Сечь жива, трудно будет панам и подпанкам Украиной управлять. Грицько хоть и одноглазый был, а далеко видел…
– Так чего ж ты, кум, стреляться собирался, колы Потемкин верное дело делал? – с насмешкой спросил Гулик.
– Молодой был, дурь еще бродила! – ответил Головатый. – Уж потом понял, что времена сечевой вольницы прошли и быльем поросли. Укрепилась Русь, да и время теперь такое. Лучше в чести у царицы быть… Батогом дуба не перешибешь…
– А народ? – тихо спросил Гулик. – А народ как, друже Антон?
– Народ?! – Головатый задумался. – А что народ? Ты думаешь, Мокий, народу легче бы стало, колы б мы против Потемкина пошли? Нет! Срубили бы нам головы, и все своим чередом двигалось… А вот теперь, на Кубани, народу легче. Куда бегут мужики-крепостные? На Кубань!
– Так им легче здесь, друже? – насмешливо прищурился Гулик. – Там работали на пана, здесь работают на атамана…
– Ну нет, Мокий! – Головатый энергично ударил по столу тяжелым кулаком. – Нет! Здесь мужик вольным себя чувствует! А что работает – так это хорошо. Мужик и живет для того, чтобы работать…
Огонек свечи опал и захлебнулся в растопленном воске. Ярче стали желтые блики лампады. Луна заглянула в окна горницы.
Гулик встал.
– Засиделся я у тебя, Антон, тебе давно на боковую пора.
– Посидел бы еще, бессонница меня мучает…
– Нет, пора уже!
Провожая Гулика до двери, Головатый сказал:
– Письмо от Захария получил.
– Что пишет, когда их отпустят?
– Не прописал про это.
– Такая уж служба казачья!
Глава III
Далеко от Черномории, на Волге, лежит деревня Пески. Рубленые, крытые соло мой крыши, овины. В полночь, под праздник Пантелеймона-исцелителя, из крайней избенки вышел человек.
На фоне голубовато-серого летнего неба он казался высеченным из камня. Несколько минут человек молча смотрел на спящую деревушку, на барский дом, смутно белеющий среди темной зелени. А потом легкой бесшумной походкой пошел через луг, к маленькому кладбищу. Пройдя мимо покосившихся крестов, он приблизился к свежему, еще не заросшему травой могильному холмику, высившемуся чуть в стороне от кладбища.
Застонав, человек упал на холмик, обхватив его раскинутыми руками.
– Наталья! Светик мой ясный! – словно в горячке, яростно и горько шептал человек. – Разве ж только и судьбы тебе было, что в петлю лезть? Дочка моя ненаглядная!
Тихо было на кладбище. Не шуршала трава, не шумел ветер.
Человек поднялся с земли и направился к господскому дому. Ноги в лаптях бесшумно ступали по земле…
Прячась в тени деревьев, он пересек густой сад и у открытого окна затаился. Прислушался. Где-то в глубине комнаты раздавалось мерное похрапывание.
Перекрестившись, человек неслышно перевалился через подоконник и осторожно подошел к кровати.
– Вставай, барин, – глухо проговорил он, встряхивая лежащего за плечо.
Храп прекратился.
– А! Что?
– Сочтемся, барин! Слышь? – Глухой голос человека звучал угрожающе. – Вспомни Наталью, дочку мою!
Тускло сверкнуло широкое лезвие ножа – немудреного мужичьего ножа, которым, может, совсем недавно резали хлеб.
Удар, слабый стон…
Человек выпрыгнул из открытого окна и побежал к Волге, где покачивались у берега лодки.
Над степью дрожит знойное марево. Воздух переливается горячими волнами. Ковыль белый, как пена, вытянулся в рост человека. Вразнобой стрекочут кузнечики. «Пить-пить», – перекликаются в густой траве перепелки.
Зажатый с двух сторон всадниками, понуро плетется Леонтий Малов. Его рябое лицо серо от пыли, глаза ввалились, на спине, едва прикрытой грязной, порванной рубахой, темной полосой запеклась кровь.
– Давай, давай, пошевеливайся, душегубец! – покрикивает на него управляющий.
Сорок лет был Леонтий Малов крепостным помещика Бибикова. Всего перевидал на своем веку. Но когда приехал из Петербурга молодой барин и надругался над его дочкой, – не выдержал Леонтий и пустил в ход старый нож…
Волга-матушка подхватила его легкий рыбачий челнок и понесла на юг.
Леонтий плыл ночами, а днем прятался в прибрежных зарослях. Кончился хлеб. Беглец ставил силки и ловил доверчивых, глупых уток.
Как-то возле приволжской степной крепости Малова перехватил сторожевой дозор. Солдаты досыта накормили Леонтия кашей, и он, стосковавшись по людской речи и ласке, вдруг во всем повинился им, рассказал, как порешил барина-насильника.
Солдаты долго молчали. Потом, пошептавшись между собой, дали Леонтию крупы, соли, рыбы и указали путь на вольную Кубань.
– Иди, добрый человек! – сказал седобородый унтер с суровым и скорбным лицом. – Знаем, какова она, господская ласка! Ступай! Бог с тобой!
Прячась от бродячих кочевников, Леонтий добрался до степного Егорлыка. Кубань была совсем рядом.
И тут его, сонного, схватили бибиковские приспешники – управляющий, прозванный Лютым Зверем, и дюжий конюх Пантелей, выполнявший одновременно и обязанности палача.
Объехали они не одну кубанскую станицу в поисках Малова. И уже надежду потеряли отыскать, домой возвращались и тут, на дороге, случайно наткнулись на Леонтия.
И вот гонят его теперь барские холуи к Волге.
– Эх! – тяжко вздохнул Леонтий. – Судьба-горемыка!..
– Погодь! Не то еще тебе будет! – грозится Пантелей. – Уж старый барин за свое дите помотает из тебя жилушки!
Пофыркивают кони под управляющим и Пантелеем, поскрипывают седла.
– Фу, парко! – просипел Пантелей. – Чичас бы кваску хлебнуть холодного… И-и! – взвизгивает он и изо всех сил обжигает ременным кнутом Малова. – Да иди ж ты шибче, постылый! Через тебя страдания переносим.
Повернув голову, Леонтий тихо, но внятно говорит:
– Ты токо, Пантелей, на связанном и отыгрываешься. Псом был, псом и останешься…
Лицо конюха перекосилось от злобы.
– Погоди ужо, вернемся в деревню, шкуру с тебя спустим. Сам этим делом займусь.
Из разговоров Пантелея с управляющим Леонтий понял, что молодой барин выжил, и лекарь сказал, что рана не смертельная.
«Живым не оставят, – думает Малов, – не оставят… Бежать бы, бежать…»
Окидывает взглядом степь. Нет ей конца и края. Впереди серебряной змейкой скользит тихая степная речка.
«Земли-то сколько, земли, – мелькает у Малова. – Земля, что масло… Сколько хлебушка уродила бы…»
Из-за густых зарослей камыша снялась стая диких уток, захлопали крыльями, описали полукруг и вот уже режут воду на середине реки. Листья камыша все тихо шелестят о чем-то. Жарко.
– Тут и передохнем, – вяло проговорил управляющий, придерживая коня. – А ну, стой! – крикнул он Леонтию. Тот остановился. – Вяжи ему ноги, Пантелей! Да крепче, чтоб не убег.
Леонтий опустился на траву, безразлично смотрел на конюха, возившегося с веревкой. Наконец тот, затянув узел, отошел к лошадям, принялся расседлывать.
Леонтий пытается шевельнуть руками, но веревка больно въедается в тело. Облизывает запекшиеся губы.
– Испить бы хоть дали.
– Ишь, чего захотел, барин какой, – зло хрипит Пантелей. – Чай, и так перетерпишь.
– Дай ему воды, Пантелей, – не глядя в сторону Леонтия, бросает управляющий. – И хлеба дай… А то еще сдохнет раньше времени… С нас спросится.
Сумерки наступают медленно. С запада лениво наползают кучерявые облака. Они закрывают солнце, и широкая пепельная тень плывет по степи.
Теплый воздух обдувает Леонтию лицо, гладит грубую кожу. Вкрадчиво и тонко звенят комары. От усталости веки становятся свинцовыми и опускаются сами собой…
Григорий Кравчина шел в засаду на кабана. Вчера выследил он тропинку в камышах, по которой кабан ходил на водопой.
Любит казак эти дикие степи. Напоминают они ему Украину. Вот потому и уезжает частенько с дружками из Кореновской к Егорлыку поохотиться на кабанов и быстрых сайгаков.
Приплыл Григорий Кравчина на Кубань с Украины одним из первых. Ехал и гадал, как-то встретит его неведомый край. И не пожалел, что пришел сюда.
Выделили Кореновскому куреню землю на Бейсужке. Построил Кравчина себе хату, на припасенные деньги купил пару коней, а потом с другом своим угнали с того берега Кубани немалый гурт овец, продали удачно. С той поры пошло у Григория хозяйство в гору, богатеть начал. Иногда, бывало, когда спадала вода и открывались броды через Кубань, на неделю-другую уходил Кравчина с кем-нибудь в набег на черкесские табуны. Возвращаясь, приводили ворованных коней, сбывали по станицам.
Настал ему черед на кордон идти, но сумел казак откупиться, остался дома. Варил горилку, соль на Ачуеве покупал и мирным черкесам втридорога перепродавал. А скучно становилось – ехал в степь. Кони-то ведь свои.
Сдвинув мохнатую папаху на затылок, Григорий перекладывает тяжелую пищаль с плеча на плечо.
«До того поворота дойду, а там до речки рукой подать».
Обутая в постолы нога ступает мягко, неслышно, да и сам Кравчина не идет, а словно крадется. Конь его возле стана пасется.
Казак окинул взглядом степь. Вдали маячили двое верховых.
«Калмыки? – подумал Кравчина. – Нет, те шагом не ездят. Дозорные казаки? Нет, посадка не казацкая, скособочились. Никак москали?»
Тут Кравчина заметил меж лошадьми еще одного человека.
«Эге! – подумал Григорий. – Тут дело темное! Видать, беглого перехватили, ироды!»
Кравчина сразу сообразил, что те двое верховых, конечно, стражники, а пеший – сбежавший от помещика крепостной. Много их в ту пору подавалось на Кубань, свободной жизни искали, от барской неволи уходили. За ними гнались, многих ловили и возвращали назад к помещикам. А ежели попадет такой беглец в станицу, спасется от преследователей, то нанимается за гроши в работники, либо, приписавшись в казаки, чтоб не умереть с голоду, изъявляет желание рублей за восемь – десять в год отслужить за кого-нибудь на кордоне.
Залегши в высокой траве, Кравчина наблюдал за конными. В голове мелькали расчетливые хозяйские мысли: «Освободить его, век не забудет. Даровой работник во дворе не лишний!»
Кравчина видел, как стражники подъехали к речке, стреножили лошадей, затем один из них вязал ноги арестанту. Потом все поели и, наконец, когда стемнело, улеглись.
Прижимаясь к траве, Кравчина по-пластунски начал пробираться к связанному. От речки потянуло прохладой. Тяжелые, рваные тучи медленно ползли, затягивая небо. В редкие проемы выглядывали звезды. Месяц то выскользнет, то снова спрячется, и тогда степь погружается в темень.
Шуршат камыши перед дождем, сонно вскрикивает кряква. Уже слышит Кравчина, как храпят стражники, как подсвистывает носом кто-то из них.
«Спит или не спит беглый?»
Месяц на минуту осветил степь, желтое, истомленное лицо Леонтия.
– Эй, пробудись! – прошептал Кравчина и слегка тронул связанного.
Тот шевельнулся, попытался подняться.
– Тс-с, – Кравчина поднес палец к губам и, достав нож, перерезал веревки, связывающие Леонтия.
– Ползи за мной, – шепнул он.
Оглянувшись в сторону управляющего и Пантелея, Леонтий пополз за своим освободителем.
Через несколько дней, ранним утром, Кравчина привез Малова в станицу Кореновскую.
– Вот тут я живу, – указал он на пятистенную хату, крытую мелким камышом. К хате примыкал длинный сарай, в стороне – баз, у база колодец. От речки двор Кравчины отделяли молодые тополя. – Будь как дома, Леонтий. Поживешь – в казаки примем. Теперь ты вольный человек…
Малов не знал, как и благодарить своего освободителя. А тот только улыбается краем рта да люльку посасывает.
– Ладно, ладно, живы будем, посчитаемся…
Марфа, мать Кравчины, хоть и болезненная, а подымается ни свет ни заря – со скотиной управится, притащит охапку сухой травы, заготовленной с осени, кизяков, печку затопит, тесто замесит. Встретила она Леонтия молчаливо, но сквозь сон он слышал, как говорила Григорию:
– И для чего он тебе? Да…
– Молчи, мать, знай свое дело, – перебил ее Кравчина.
Двое суток отъедался и отсыпался Малов. Оживал медленно. Первое время особенно грызла тоска по дому.
В работе старался забыть все. А дел у Леонтия всегда хватало. Марфа все хозяйство взвалила на него.
– Нечего задарма хлеб жрать, – как-то сказала она.
Встанет Леонтий утром, на базу почистит, скотину напоит и в степь гонит. Лишь затемно возвращается в станицу. Так и катится время день за днем, словно воды быстрой Кубани. День за днем набегают друг на друга, в месяц сливаются, и никто их бег неумолимый не остановит.
Станица Кореновская растянулась вдоль Бейсужка. Отстроилась она за короткое время: сотни дворов, в центре площадь, где в это лето заложили деревянную церковь. Рядом станичная канцелярия.
Хаты друг от друга плетнями отгорожены. По хате можно и о хозяине судить. У станичного атамана, священника и Кравчины хаты такие, каких на Украине не у всякого пана увидишь. Окна с резными наличниками, с нарядными расписными ставнями. Перед дверью – красивый навес на резных столбах. Десятка два хат чуть поменьше, остальные совсем маленькие. Многие – всего с одним-распроединственным оконцем. Такие хаты хозяева слепили по образу и подобию звонаря Трофима из Екатеринодарского войскового собора, коего природа неизвестно за какие грехи так нескладно скроила: нос в сторону свернуло, а шею потянуло набок. Вот и хаты такие – крыши скособочились, окошки перекосило. Но возле любой хаты шумят тополя, яблони, сливы. И станица поэтому кажется приветливой.
Хорошо в станице летними вечерами. Тихо. Воздух пахнет кизячным дымком, густым настоем трав. За версту по песням слышно, где гуляют парни и девчата. Больше всего любили станичники собираться вечерами у хаты Андрея Коваля. Выйдет Андрей, сядет на завалинку, положит на колени бандуру и запоет. Голос у него негромкий, мягкий. Перебирают быстрые пальцы струны, льет нежные звуки старая бандура, и поет бандурист о былых временах, о храбрости казачьей, об атаманах, которые бились с панами и турками.
Кажется, что даже осокорь, заслушавшись, перестает шелестеть листьями.
Смолкнет бандура, а казаки сидят молча, думают свое…
Андрей – кузнец, по-украински коваль. И дед был у него коваль, и батько. Отсюда и фамилия пошла такая – Коваль. В кузнице Андрей – мастер, какого редко увидишь! Выхватит он из горна кусок раскаленного железа, положит на наковальню и давай выколачивать железную окалину. Искры во все стороны брызжут, Коваль молотом помахивает. А ты смотришь и думаешь: «Ну что можно из этой железки сделать?» Но пройдет минут пять, а то и того меньше, и готова втулка либо еще какая нужная вещь. Андрей как ни в чем не бывало поправит кожаный фартук и снова лезет своими длинными щипцами в горящие угли, или раздувает меха, что висят над головой, и тогда они большущими порциями выдыхают воздух в пасть трубы: «Чух! Чух!» Казаки только руками разводят: вот это мастер, железо в его руках – как тесто у доброй хозяйки.
Иногда в свободное время приходил к Ковалю и Леонтий Малов. Зайдет, сядет на ящик с углями, словом перекинется. А то возьмет молот и давай вымахивать, только успевает Андрей постукивать молотком, указывать:
– Еще раз! Вот сюда!
Потом присядут. Коваль какую-нибудь прибаутку расскажет, а Леонтий тоской поделится…
Однажды Андрей, слушая рассказ Леонтия о тяжелой крепостной доле, вытащил изо рта люльку, перебил:
– Хрен редьки не слаще! – смачно сплюнул. – Там бары-господа, у нас – свои паны… И всякий к себе гребет… Ты вот, Леонтий, от своего барина утек, а к кому попал? Кравчина со всякого по десять шкур сдерет. Уж я его давно знаю. Он тебя пригладил по шерсти. А погоди, скоро и против шерсти начнет вести. Ты у него в наймитах походишь… Да у нас таких, как Кравчина, с десяток наберется… Как ехали с Украины – все вроде братами-казаками были. А приехали – в панов обратились…
Малов улыбнулся.
– Сказал! Да знаешь ты наших помещиков? У них у каждого крепостные, именья!
– Ха-ха-ха, – раскатисто засмеялся Андрей. – Ну, сразу видно, не понял ты еще нашей жизни. А знаешь ли, что наш войсковой судья пан Головатый имеет сотни две наймитов. А пан войсковой писарь Котляревский, а полковники да старшины, думаешь, не имеют купленных холопов? Да еще и казаки у них, можно сказать, за спасибо работают. А земли у каждого пана, леса! Ну, ничего, поживешь меж нами, сам поймешь. Наймит ты был, наймитом и останешься.
– Не наймитом я был, а крепостным. А здесь – я вольный.
– Вольный?! – зло усмехнулся Коваль. – Попробуй свою волю показать, поперек Кравчины пойти… Враз тебя плетюганами атаман отстегает. Не хуже барина.
Коваль поднялся, поковырял в притухших сверху угольях, вытащил из середины раскаленную железку и, положив ее на наковальню, изо всех сил ударил молотом. Железка расплющилась в тонкую лепешку.
– Эх, было б так, как на Сечи когда-то, – выговорил он.
Глава IV
Ефим Половой и сам не мог понять, как все это случилось. Шел он берегом Кубани. До кордона оставалось рукой подать. Вокруг пустынно – редкие кусты, выброшенные буйной водой ветвистые коряги. Вдруг свистящая петля-удавка захлестнула горло, дернула и потащила его к реке.
Очнулся Ефим только на том берегу. Открыл глаза, видит: мелькает внизу земля, лежит он поперек седла. Попробовал руками пошевелить – куда там, скручены ремнем. Тело болит. Подумал: «Тащили на аркане».
– Мать вашу перетак, – сплюнул Ефим кровяной сгусток.
Услышав, что пленный очнулся, черкес остановил коняг, что-то гортанно крикнул товарищу, ехавшему впереди. Вдвоем они усадили связанного Полового на запасную лошадь и снова тронулись в путь.
Вскоре мелколесье перешло в густой лес. Замшелые дубы, старые, в несколько обхватов карагачи. Гибкие ветки больно хлестали Ефима по лицу, но он не замечал этого. В голове вертелось одно: «Неволя».
Отвлекся он от тяжелых дум, когда выехали из леса. Впереди показался аул. Ватага босоногих мальчишек бежала навстречу.
В ауле Ефима развязали, дали черствых лепешек. Вокруг собралась толпа. Черноглазые, жилистые люди о чем-то говорили по-своему, некоторые щупали его мышцы и, покачав головами, отходили.
После этого Полового повезли в соседний аул. Ефим догадался: продавали, да не продали. Слышал он и раньше рассказы других, что черкесы неохотно покупают пленных казаков – все равно, мол, убежит, только деньги выбросишь зря.
Боялся Ефим, что если не купят его в аулах, значит, продадут в туретчину. А оттуда дороги на родину заказаны, сгниешь в том рабстве.
Купили Полового в далеком горном ауле. Хозяин, старый хмурый человек, набил ему на ноги тяжелые колодки, и с утра до поздней ночи крутил Ефим мельничный жернов. Так прошло лето…
Впрочем, это лето принесло Ефиму и кое-что новое. Понемногу научился казак понимать гортанную речь черкесов. И даже дружок у него завелся.
Сосед, худощавый, болезненный джигит Алий, часто заходил во двор хозяина Ефима. Посидев с хозяином, он обычно перебрасывался несколькими фразами с пленным казаком. Иногда через низкий плетень передавал ему гостинец – кусок сыра или жареную баранину. По всему было видно, жалел молодой черкес пленника, сочувствовал ему.
Как-то вечером, когда Ефим отдыхал под старой грушей, воспользовавшись отсутствием хозяина, Алий подсел к нему и словно случайно, от нечего делать, стал рассказывать, как самым ближним путем добраться до Кубани.
В одну из темных ненастных осенних ночей, сбив колодки, Ефим бежал.
Хмурый, неприветливый выдался сентябрь. Все дни, не переставая, шел дождь. Он вволю напоил землю, и она уже не принимала влаги. Деревья гнулись от сырости.
В такое ненастье особенно трудно приходилось казакам-пикетчикам. Одежда – хоть выжимай. С гор ветер ледяной срывается. А сидеть нужно тихо, не шелохнувшись.
Прикрыв полой затравку ружья, Федор вглядывается через туманную дождевую завесу в противоположный берег. Тяжелые капли ударяются о воду, пузырятся. Кубань – мутная, злая.
Четвертый месяц пошел, как Дикун на кордоне.
– Зараз бы закурить, – вздохнул сидящий рядом казак Незамаевской станицы Осип Шмалько, – да табак отсырел.
Федор ничего не ответил.
Посопев, Шмалько достал из-за пазухи краюху хлеба, отломил кусок товарищу. Мокрый хлеб превратился в тесто. Лениво пережевывая безвкусный мякиш, Дикун покосился на Осипа:
– Ну и казачина! Другого такого на всей Кубани не найти!
Великан, с большими мозолистыми руками, он силой отличался завидной. Рассказывали про него такой случай. Когда казаки переселялись на Кубань, воз с провиантом застрял в густом месиве грязи. Кто-то из подошедших казаков в шутку сказал ездовому:
– Не надрывай коней, вон Шмалько идет.
Шутка задела Осипа. Упершись плечом в задок воза, он поднатужился и под гул одобрений сдвинул его с места.
Шмалько ел с аппетитом. Проглотив последний кусок, он снял шапку, перекрестился.
– Боже милостив, буди мне, грешному.
Федор усмехнулся и подумал: «Нет, что-то не милостив господь к нам, грешным!» Вот-вот должна была подойти смена. Вдруг Осип указал на противоположный берег.
– Гляди!
Из кустов выбежал человек. У самой воды он остановился и стал поспешно раздеваться. Сбросив одежду, человек широко перекрестился и бросился в воду. Река подхватила плывущего, закрутила, ударила мутной волной по голове. Но человек вынырнул и широкими саженками поплыл к русскому берегу.
– Сюда держит, – тихо сказал Осип.
Человек не доплыл еще и до середины реки, как из леса наметом выскочило трое верховых. Передний, подскакав к берегу, что-то закричал. Конь закружился на месте. Всадник выхватил из чехла ружье. Подскакали другие. Посовещавшись, двое подъехавших, скинув на землю бурки, направили коней в воду.
– Абреки! Приготовсь, Осип! – проговорил Федор.
Уложив поудобней пищали, казаки продолжали следить за абреками. Расстояние между пловцом и его преследователями сокращалось. Сильные черкесские кони плыли быстро и легко.
– Живым хотят взять, не иначе из плена сбежал…
Осип промолчал, только крепче сжал пищаль.
Пловец был уже недалеко от берега, когда передний черкес почти настиг его.
– Боже, помоги! – промолвил Шмалько.
Почти разом грянули две казачьи пищали, и когда дым рассеялся, Дикун и Шмалько увидели, что по Кубани, уже к другому берегу, плывет один из абреков. Второго не было видно. Только конская голова торчала из воды. А беглец, приплясывая на прибрежной гальке, размахивал руками и кричал:
– Братцы!
– Да то Ефим! – узнал Шмалько. – Ей-богу, Ефим Половой, из Дядьковской. Его этим летом абреки на линии схватили. – Он откинул пищаль и крикнул: – Ефим!
– Осип?!
Казаки бросились друг к другу.
– Живой, чертяка, смотри, – радовался Шмалько, по-медвежьи обнимая друга.
Ефим, хитро подмигнув, проговорил скороговоркой:
Ходэ гарбуз по городу,Пытается свого роду.Чи вы живы, чи здоровы,Вси родичи гарбузови.– Вот бисов сын, все такой же! – Скинув свитку, он протянул ее Ефиму. – На, надевай! Да извиняй, на кордон придется без штанов тебя доставить.
– Не беда! Спасибо, братцы, выручили. Не гадал, что нехристи у самой хаты меня подстерегут. Где вас бог взял?
Подошел Дикун.
– Гляньте, – указал он на реку, – а конь-то не уходит. – Лошадь убитого описывала круги на том месте, где утонул хозяин. – Умная!
– Поймать бы.
– Попробуем. – Дикун не торопясь разделся, полез в воду.
Черкесы на том берегу, догадавшись, что затевают казаки, стали звать лошадь.
Холодная вода сковала тело. Зайдя по грудь, Федор поплыл. Черкесы все кричали, протяжно, заунывно.
Заметив подплывавшего, конь пугливо покосился, заржал. Отпрянул в сторону.
Ухватив поводок, Дикун влез в седло, ласково похлопал по холке, направил к берегу. С того берега выстрелили, но пуля где-то ушла в воду, и Федор ее даже не услыхал.
На берегу конь шумно встряхнулся, запрядал ушами. Подошли Шмалько и Половой.
– Добрый конь, – в один голос проговорили оба.
Привязав лошадь, казаки зарядили пищали. По берегу, разбрызгивая воду, на рысях приближался конный разъезд.
– Есаул Смола скачет, – узнал старшего по кордону Дикун. – Думал, что абреки переправились.
– По какому такому случаю стрельбу подняли? – с ходу закричал есаул и, осадив коня, строго спросил у Полового: – Кто будешь?