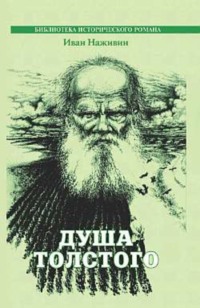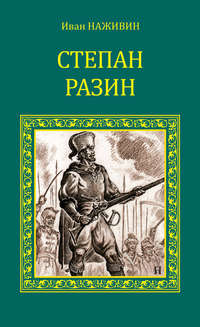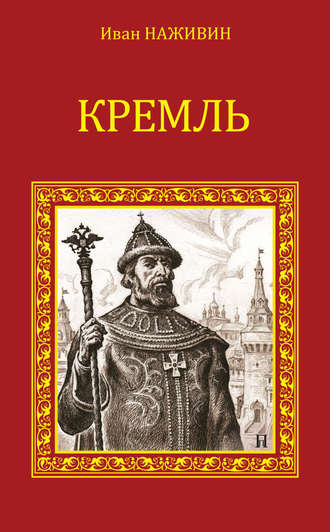
Полная версия
Кремль
– Как был я на Москве, – вступил в беседу Некрас Рукавов, своеземец, хуторянин-собственник, седой и крепкий, как дуб, – довелось мне слышать среди чернецов прение о вере. Они говорили, что в вочеловечении Христа явлено нам-де смотрение Божие, яко Бог премудростию прехитри диавола да всех верующих в он спасет. Бог к хитрости-де прибегал и ране: жидами прехитри Он фараона и поругася ему и изведе люди своя из работы египетской и якоже воплотився, прехитри диавола, поругася ему и изведе вся верующая в он из ада.
– Может, такие прехищрения и пригожи торговому человеку, ну а Богу… – развел черными руками Люлиш, и в глазах его проступили скорбь и гнев. – Нет, запутались люди в мрежах, которые сами же на свою погибель языками непутными наплели!
– А другие твердят, что у Христа и плоти-то никакой не было, – вставил дьяк Самоха, жирный, с сонным, умным лицом и черной окладистой бородой. – А был Он, вишь, как видение сонное…
– Этому и манихеи учили, – сказал боярин Тучин. – А Василид Египтянин учил, что Христос был бесплотен, что страдать Он не мог, а что распят был вместо Него Симон Киренеянин. Валентин же признавал плоть Христову божественной и снесенной с небес: «Христос прошел, – говорил он, – чрез Марию Деву, якоже сквозь трубу вода». Нетленномнители учили, что тело Христово нетленно, и потому…
– Кто в лес, кто по дрова! – безнадежно махнул рукой Люлиш. – Все это в огонь бросить надо. Надобно к правде навострять сердце свое.
Тучин задумчиво рассматривал образа в переднем углу в хороших кузнь-окладах, а особенно образ Богоматери с Младенцем на руках. И ему вспомнилось древнее изображение женщины с ребенком, которое было у римлян символом рождающегося солнца… И в тихую, углубленную душу боярина повеяло тайной…
– Да, да… – рассеянно вздохнул хозяин, поп Григорий, плотный, с буйною растительностью на лице и на голове и с маленькими умными медвежьими глазками. – Вчерась задумался я что-то над Евангелием, над Тайной вечерей. Там сказано, что Христос омочи хлеб в вине и подал его Иуде и с той-де минуты вошел в того сатана. Как это понимать надо? Почему с той минуты? Неужели же от хлеба, Христом поданного, может в человека вселиться сатана? Зачем же нужно было Христу губить так несчастного? Ох, темно, темно! Может, Люлиш и прав: лучше собрать все эти писания жидовские да в огонь и бросить. Может, кто нарочно все это напутал, чтобы над людьми посмеяться, а мы вот мучимся…
– Да разве это только? – усмехнулся Тучин, не любивший Библии. – А грязи всякой сколько… Ведь иной раз без стыда чести не можно.
На мосту послышались вдруг быстрые шаги, и в сени вошел Самсонко, сын отца Григория: он стоял у ворот на страже, чтобы кто чужой не захватил беседы врасплох.
– Батюшка, там к воротам подвернул духовной какой-то… – сказал он. – Словно сам отец Евфросин скопской.
– Негоже дело… – вставая, сказал отец Григорий. – Да ничего не поделаешь…
Евфросин-игумен, худенький, весь прозрачный старичок, кряхтя, вылез из возка, оглядел халат свой, весь забрызганный грязью осенней, и покачал головой: эка, угваздался как!.. И, забрав немудрящий узелок свой с пожитками непыратыми, все кряхтя, полез на мост.
– Отец Евфросин, сколько лет, сколько зим! – радушно приветствовал его отец Григорий. – Ну и порадовал! Здорово, родимый…
Они облобызались троекратно. Пока отец Григорий не ушел в ересь, он очень дружил с суровым Евфросином, уважая строго подвижническую жизнь его и великое рвение к вере.
– Ну, как ты тут здравствуешь, отче Григорие? – прошамкал отец игумен.
– Да живем, хлеб жуем… – отвечал тот. – Ползи давай, ползи… А ты, милой, – обратился он к забрызганному до бровей глиной вознице, – давай заворачивай во двор: коням овса дашь позобать, а сам в избу иди, подкрепишься… У меня тут кое-кто из дружков моих собрались, – предупредил он старого игумена, – о делах наших новгородских потолковать… Ползи, отче святый…
Евфросин невольно на пороге остановился: сени были полны гостей. Кроме Тучина, Евфросин не знал никого.
– Ничего, ничего, отче, то все свои… – сказал отец Григорий. – Давай разоблокайся… А потом попадья поснедать тебе что Бог послал соберет…
– Нет, нет, того, отче, не надобно, – сняв свой халат, поднял Евфросин свои сухие ручки. – Ты мое положение знаешь, просвирочку да маненько водицы утром – и конец… Ну, здравствуйте, новгородцы…
Все по очереди подошли под благословение. И снова расселись…
– Слышали, слышали мы тут о псковских смутах-то ваших… – проговорил отец Григорий. – И у нас не спокойнее…
– Сего ради и приехал я к владыке нашему… – сказал Евфросин. – Сладу со смутотворцами нету… Вы, чай, слыхали все про Столпа: был попом, овдовел, а чтобы опять жениться, сложил сан, и опять овдовел, и опять женился… А теперь привязался ко мне: зачем ты аллилугию не двугубишь? Как, говорю, зачем? Я к самому патриарху в Царьград за этим ездил, и он повелел мне сугубить… И в такой гнев вошел сей троеженец, сей распоп окаянный, что весь Псков против меня поднял. Едут которые псковитяне мимо монастыря моего и шапок не снимают: здесь еретик-де живет, который святую аллилугию сугубит! А я так прям ему и сказал: не просто Столп ты теперь, а столп мотылен[1] и вся твоя свинская божественная мудрость – путь к погибели… Пущай владыка разберет дело наше, пусть даст людям устроение… Вы только подумайте: на самого константинопольскаго патриарха глаголят уже хульная, и разгневася, и воскрехта зубы, аки дивий зверь или лютый волк скомляти начат.
– Ну, пожалуй, теперь владыке не до твоего аллилугия, отче… – усмехнулся отец Григорий. – Тут Москва такого аллилугия задать Новгороду хочет, что…
Все переглянулись с усмешкой. Евфросина поразил неуважительный тон попа к святому аллилугию: нешто попу пригоже говорить так о святых вещах? И вообще во всем тут старому игумену чудилось что-то неладное. Недаром Самсонко у ворот чего-то караулил… Он пожевал бескровными губами.
– А зря вы тут с Москвой все задираетесь… – сказал он скучливо. – Москва бьет с носка, как говорится…
– Это все большие бояре крутят… – сказал дьяк Самоха. – Одни с Марфой Борецкой под Казимира литовского тянут, а другие за Москву. Вот и идет волынка. Те, которые за Москву да за старую веру тянут, послали по какому-то делу посольство к великому князю, и послы, не будь дураки, стали Ивана государем величать, хотя по пошлине новгородцы его всегда только господином величали. А москвичи рады, сичас же ухватились: какого-де вы государства хотите? А тут литовская сторона подняла на дыбы все вече: никакого государства мы у себя не хотим, а хотим жить по старине. И такая-то буча поднялась, беда! Которых в Волхов побросали… А великий князь, известно, опалился: и Софья его премудрая, и советники его, рядцы, развратницы придворные, поддержали, что обидеться-де самое время.
– Ну, он и сам не лыком шит!.. Не клади пальца в рот, а то откусит…
– Это что говорить!..
– Зря, зря… – покачал высохшей головой Евфросин, хотя постоянные наскоки Москвы на Псков и ему надокучили. – С сильным не борись, как говорится. Забыли, знать, что недавно-то было…
Лет шесть тому назад Иван III, видя, что новгородцы все больше склоняются на сторону его недруга Казимира, вдруг вборзе двинул полки свои на Новгород, и князь Данила Холмский на берегах Шелони вдребезги разнес силу новгородскую, хотя москвичей было всего четыре тысячи – то был только головной полк, – а новгородцев под начальством посадника Дмитрия Борецкого сорок тысяч. Правда, новгородский владыка, играя на обе стороны, приказал своему полку – у владык был и свой полк, и свой стяг – в поле-то выйти, а в битву не встревать. Литовская партия тщетно ждала подхода Казимира. В Новгороде стало голодно: подвоз хлеба с Волги, «с низу», был Иваном прекращен. Новгородцы запросили мира. Иван повелел всем четверым полководцам новгородским отрубить головы, взял с новгородцев пятнадцать тысяч окупу, вече и посадника оставил им по старине, но взял себе право верховного суда. И люди с нюхом потоньше поняли, что это начало конца.
– А ты толкуешь: аллилугиа!.. – повторил отец Григорий. – Не пришлось бы скорее со святыми упокой петь… над вольностью новгородской, над Господином Великим Новгородом… – дрогнул голосом отец Григорий. – Иван этих наших шуток новгородских не понимает…
Гости между тем под разными предлогами расходились. Сразу было заметно, что незваный гость помешал…
– Ну, вы тут как хотите с Москвой разделывайтесь… – сдержав зевок, проговорил Евфросин. – Мое дело тут сторона: не о земном мы, пастыри, пещись должны, но о небесном.
Собрание расходилось. За дверями все что-то с хозяином низкими голосами уговаривались: должно, опять что-то замышляли. Евфросин уже сожалел немного, что старые кости свои с места стронул; ты гляди, как наблошнились тут все языком-то вертеть. Понятное дело, что им до аллилугия!..
– Охо-хо-хо… – вздохнул он сокрушенно. – Суетимся вот, терзаемся, то да се, а жить-то всего с овечий хвост осталось: пасхалия-то на исходе. А там и свету вольному конец…
– Не все так, отче, полагают… – мягко возразил отец Григорий. – На том, что с концом седьмой тысячи лет от сотворения мира и свету конец, согласны все, да вот откуда считать-то начинать?
– Как откуда? – сердито воззрился на него старый игумен. – Окстись, отец!.. Что ты? Знамо, от сотворения мира…
– А сотворение-то мира когда было? – сказал отец Григорий, уже сожалея, что начал этот разговор. – Эллины считают, что сотворение мира было за пять тысяч пятьсот восемь лет до Рождества Христова, а по Шестокрылу выходит всего три тысячи семьсот шестьдесят один. Стало быть, в тысяча четыреста девяносто втором году миру-то будет не семь тысяч лет, а только пять тысяч двести пятьдесят три…
А боярин Григорий Тучин, выйдя, задумался тем временем на берегу Волхова.
«Вера… – думал он, глядя в мутные волны реки. – А вера эта только собрание глупых сказок жидовских, грецких да болгарских. Это ими закрыли попы на века от народов учение Христово. Черная туча поповская страшнее тучи татарской, что вот уже двести лет над Русью висит. И все множатся больше и больше: поп или монах всюду, куда ни пойди. И бестолочью своей отравляют всю жизнь… Они не виновны, что слепые сами? Так, не виновны. Никто себе не злодей. Да ведь вот червь, что в этом году на зеленую вершь пал и все пожег, тоже ведь не виновен, а кабы было средствие какое, разве не уничтожили бы его земледельцы?..»
III. Марфа Борецкая
Уже с середины XV века Великий Новгород стал заметно хиреть. Вся его внутренняя жизнь превратилась, по выражению летописца, в «междоусобные спирания»: «Крич и рыдания и вопль, и клятва всими людми на старейшина наша и на град наш, зане не бе в нас милости и суда права». Партии грызлись одна с другой без конца. Но народ устал от обманов вожаков, во всем изверился, ибо и слепым стало видно, что, кто бы из вящих власть ни захватил, мизинным людям остается одно: вези. Мало того: когда Мамай прислал численников, чтобы и новгородцев обложить данью, мизинные люди воспротивились, а вящие убежали все на Городище – местопребывание князя – и оттуда вместе с татарами собирались брать город приступом. Ясно было, что для вящих отечество только до тех пор отечество, пока им в нем тепло. После многих таких наглядных уроков патриотизма меньшие люди поняли их наконец, и потому, когда их высылали против врага, они бежали даже тогда, когда их выходило десятеро против одного; драться было просто не за что.
Соседушки старой республики, конечно, не дремали. С юга теснили и опустошали землю литовцы, а с моря – шведы, немцы и датчане. Всякий предлог был хорош. Шведский король Магнус Эриксон, отличавшийся чрезвычайным распутством, желая понравиться своим любезным верноподданным, вдруг обнаружил чрезвычайную ревность к подвигам апостольским. Он послал в Новгород посольство: «Пришлите на съезд ваших философов, а я пришлю своих, и пусть говорят о вере. Если ваша вера окажется лучше, то я иду в нее, а если наша, то вы идите в нее. А не хотите быть в единении, буду воевать с вами всеми силами». Новгородцы своих философов к его величеству не послали, но вполне основательно посоветовали ему обратиться в Царьград. Он доброго совета не послушал, и – началась война…
Москва стояла у дверей старой республики. Правда, то не немцы были, не литваки, не шведы, а свои же православные русские люди, но больно уж не любо было вольным новгородцам московское насилование! Москва потихоньку уже захватывала одну новгородскую область за другой. Новгород потерял уже Вятку, Приуралье, обширное Заволочье – области по Северной Двине – Волок Ламский, Торжок, Вологду, Бежецкий Верх, а новгородцы по-прежнему «безлепотно волнующеся и крамоляху…».
В крамолах этих Новгород быстро слабел. Отцы – они любили-таки постращать овец своих бессловесных – пустили в ход всякие «знамения» и чудеса. Но и знамения уже не помогали. Соседей против угасающей республики двигал уже не только волчий аппетит, но и простая забота о личной безопасности. Если раньше из Новгорода то и дело отраивались дружины удалых повольников, чтобы добыть себе богатства, а Великому Новгороду славы, если они раздвинули пределы его до Ледовитого океана и стояли уже на самом пороге необъятной Сибири, то теперь повольники – бедняки, которым деваться было некуда, да беглые холопы – превратились в простых разбойников, и пьяные шайки их без всякого зазрения совести нападали уже на русские города, как Ярославль, Кострома, Нижний, грабили их, в полон продавали неверным, а города пускали дымом. Защищаясь, Москва должна была вести с этим постоянным разбоем неустанную борьбу, истощая русские силы без конца…
Едва ли не первую скрипку в смуте играла неугомонная Марфа, вдова посадника Исаака Борецкого. Ее богатая и многолюдная усадьба на берегу Волхова кипела всякими заговорами и кознями. Небольшого роста, плотная, крепкая старуха, богатая чрезвычайно, могла бы жить в полном спокойствии, окруженная детьми и внуками, но точно вот черт вселился в бабу, и она забросила все личные дела свои на тиунов и с утра до ночи кипела в беспрерывном водовороте интриг. Еще более обозлилась она, когда при последнем нападении Ивана III на Новгород ее сын Дмитрий был Иваном казнен, а Федор, прозванный в Новгороде Дурнем, был увезен в Муром. И вот теперь москвичи придумали эту дурацкую историю с титулом государевым. Все объяснения, представленные Новгородом, остались без всякого результата, и в Новгород московский подьячий – даже не дьяк!.. – только что привез «складную грамоту», то есть объявление войны…
В просторных и богатых сенях Марфы сидели, думая думу, ее сторонники. Старый Пимен, ключник при владыке Ионе, который крал деньги из казны святой Софии Премудрости Божией для подкупа худых мужиков-вечников в пользу литовской партии, – свои денежки ловкая посадница поберегала про черный день, – хмуро нахохлился у окна. Он потерял всякую веру в успех борьбы с Москвой…
– Не пойдет теперь Москва на нас… – сказал один из бояр с рыжей бородищей по пояс. – Погляди, снега-то какие: ни проходу, ни проезду…
Марфа быстро встала и по своей привычке прежде всего поправила кику и рукава засучила – точно она в драку собиралась, – и маленькие хитрые глазки ее загорелись.
– Ежели Иван не придет, бояре, то плакать о нем мы не будем… – бойко сказала она; в таких выступлениях она понаторела-таки. – А вот ежели он придет, а мы, рукава до полу спустимши, дремать по теплым сеням будем, тогда, пожалуй, большой беды нам не миновать… Скольких из новгородцев Иван вывез уже на низ? Мой Федор, сказывают, помирает в Муроме – значит, сладко пришлось. А на этого дурака, Казимира… Господи, прости ты мое согрешение! Надежду, видно, надо оставить, на ногах стоя, спит и сны, сказывают, видит. Ежели пограбить земли новгородские, это он может, а общее дело вместе делать, этого с него не спрашивай… Тут наши новгородцы на меня набросились было: то измена-де делу русскому… Никакой измены тут, бояре, нету. Погляди на их литовскую Вильну-то: половина жителей в ней наши, русские. А ежели всю их землю взять, то наших и того больше. Ежели нам довелось бы соединиться с ними, то мы еще больше собой русскую сторону на Литве усилили бы и – сломали бы литовцам рога, а одновременно и московское насилование окоротили бы. И стала бы Русская земля от излива Волхова до городов червенских свободна, по старине. А они: измена… То-то недотепы!.. Ни один дальше своего носа не видит, а тоже суются… А что до веры касаемо, то, по моему бабьему разуму, кажный как хошь, так и верь, всех несогласных в Волхове не перетопишь. Дурье это дело, эти свары из-за веры…
– Вся беда, духу прежнего в новгородцах не стало… – упрямо сказал рыжий боярин. – Анамнясь слышу, спорят что-то около моего двора грузчики с Волхова. И один поджигает: «Небось посадником в Новгороде ни разу не ходил не то что смерд, а даже и купец какой – все бояре да бояре… Дак что-де нам больно против Москвы-то шуметь? Иван боярам враз рога-то обломает…»
– Это что говорить… – дружно поддержали его со всех сторон. – Помните, чай, как раз рать на Москву собирали, когда она наши земли за Волоком захватила? На вече крест целовали, чтобы всем за един брат быть, а чуть дошло до дела, все в кусты. Обездушел наш народ, вот в чем беда!..
– Так… Это так.
– Ты что? – строго обратилась Марфа к старому дворецкому, который робко остановился у порога.
– Там пришел к тебе, боярыня, игумен скопской Евфросин… – тихо сказал он; Марфы все чада и домочадцы боялись как огня. – Прикажешь пустить его или, может, велеть до другого раза?
– Чего ему надобно? – сердито крикнула Марфа, поправляя кичку, и сердито же прибавила: – Таскаются тоже…
– Не могу знать… – сказал старик. – Чай, за плодоношением…
– Он тут которую неделю по городу ходит, все насчет аллилугиа хлопочет… – засмеялся рыжий боярин – Очень, бают, его распоп Столп изобидел…
– Насчет аллилугиа? – нахмурилась Марфа. – Так скажи ему, что он… дурак!..
Бояре переглянулись украдкой. Эта горячность много бабе в делах вредила, но ничего она с своим бешеным сердцем поделать не могла. Также вот явился было к ней недавно Зосима, игумен Соловецкого монастыря, – он приезжал в Новгород, чтобы выхлопотать грамоту на владение островами, на которые все наскакивали бояре да житьи люди Двинской земли, стараясь отнять их у батюшек, – а Марфа выгнала его со двора: она не терпела иноков-прошаков. И на ушко передавали, что старец предрек будто большие беды дому ее…
– Ну, постой, постой… – остановила она дворецкого, поймав взгляды бояр. – Ты там покорми его как следует, а боярыне, мол, сичас выйти никак недосуг, большое, мол, дело у нее… Погодь, что это?
За окном послышался нарядный перезвон хорошо подобранных бубенцов. Все бросились к окнам. К воротам подъехал сам владыка новгородский Феофил. У ворот засуетилась челядь. Из крытого коврового возка тяжело выбирался владыка. Всякий старался хоть издали, хоть кончиками пальцев поддержать святого отца, а он, раздавая благословения направо и налево, медлительно колыхался к крыльцу, на котором уже ждала его Марфа и все ее гости.
– А вот и я к тебе, мать Марфа…
После благословений и обмена всякими любезностями владыка уселся в красном углу, под святыми иконами. Белый клобук его напоминал не только о величии сана его, но и о значении Господина Великого Новгорода. История этого клобука такова: к константинопольскому патриарху, получившему, как известно, этот белый клобук от Рима, явился в ночи светлый юноша и повелел ему отправить клобук в Новгород, архиепископу Василью. Патриарх не послушался. Видение повторилось. Тогда патриарх, восстав, положил клобук в один ковчежец и многие чудные дары в другой и послал все с епископом на далекий север. Владыка Василий, получив во сне предупреждение, что к нему едет белый клобук, вышел навстречу патриаршему посланцу и благочинно принял и клобук и дары. История сия местными философами была истолкована так: ни папа римский, ни патриарх константинопольский не оказались достойными белого клобука, только владыка новгородский оказался достоин сего. Следовательно, Новгород – это третий Рим, а четвертому, конечно, не быть. Что велик он не только перед Константинополем, но и перед Москвой: получи и распишись, что называется!
– Все толкуете, все шумите… – добродушно проговорил владыка. – Все мятетесь… Ишь ты, как раскраснелась, мать Марфа! Должно, крепко билась… А вы лучше бы на благостыню Божию уповали, маловеры…
– Да, хорошо тебе говорить-то, владыка святый… – поправив кику, не без раздражения сказала Марфа, знавшая, что владыка играет и вашим, и нашим. – Тебе что? Ты везде свое поплешное[2] сберешь. А помнишь, что москвитяне с пленными новгородцами-то наделали? Всем, разбойники, носы, губы да уши обрезали, да так и пустили…
– Как не помнить? – отозвался владыка, тоже видевший хитрую бабу насквозь. – Да ведь и новгородцы с москвичами иной раз не лучше поступали. А что касаемо меня, – набожно поднял он заплывшие глазки к потолку, – так на все буди воля Господня…
У порога опять тихо встал дворецкий.
– Ну? – сердито крикнула Марфа.
– Да отец Евфросин никак не отстает, матушка боярыня… – сказал старик. – Пущай, говорит, хошь на малое время боярыня выйдет…
– Это он все насчет аллилугиа хлопочет… – улыбнулся владыка в бороду. – Такой настырный старичонка, не дай Бог!..
– Да ты рассудил бы их со Столпом как-нито и успокоил бы душу его… – сказал кто-то из бояр.
– Да я и успокоил… – отвечал владыка. – «Хошь, – говорю, – двои, хошь трои – твое дело. Раз тебе сам патриарх константинопольский велел, мол, двоить, так чего ж тебе, мол, еще? Ему теперь больше всего Столпа доехать охота…
– Беда, какая смута в Церкви Божией идет!.. – степенно сказал старый, белый как лунь боярин. – Намедни у меня попы о перстосложении схватились: один кричит, что надо двое персты креститися, а другие – трои… Сколько годов крещена Русь, а все никак не столкуемся…
Марфа сурово взглянула на дворецкого и, поправив кику и решительно засучив рукава, широкими шагами пошла из сеней:
– Ну, покажу я ему сичас аллилугию!..
IV. Москва на походе
Было близко Рождеству. Морозы стояли лютые. Иван, не глядя на это – он притворялся страшно разобиженным новгородцами, – приказал немедленно строить полки к походу. Он повелел, чтобы с полками шел и наряд пушкарский с Фиораванти, и дьяк Бородатый, который был весьма начитан в летописях и который в стязании о правах и вольностях новгородских мог оказать великому государю немалую услугу, и конные татарские отряды с дружком государевым касимовским царевичем Даньяром, к которому Иван иногда езжал потешить свое сердце тешью царскою, охотою соколиною.
И вот по узким, заваленным снегом улочкам Москвы пошли кличеи-бирючи, которые, надев на посох шапку, кричали во всю головушку, что великий государь на отступников от веры православной, на новгородцев непутных войною идет и чтобы все, кому то ведать надлежит, явились бы к своему месту. И сразу закипела Москва приготовлениями бранными, и через несколько дней – суровый нрав великого государя был известен – полки московские уже были готовы к выступлению. Подвигались полки и с других городов…
Сперва москвичи думали, что государь сам на Новгород не пойдет – очень уж студено было, – но Иван знал, что без него непременно начнутся эти окаянные свары местничества, которые уже не раз губили дело государское. В Разрядном приказе уже хранились разрядные книги, в которых записывались род и служба каждого боярского и дворянского рода, но это не помогало, распри и ненавидение между служилыми людьми были чрезвычайные, которые вспыхивали иногда даже пред очами грозного государя, не стеснявшегося сносить слишком задорные головы. И Иван пошел с полками сам.
Было солнечное, морозное утро. Вся Москва курилась золотистыми кудрявыми столбками дымков. Торг у кремлевских стен кипел. Какой-то володимирец ехал с возом на пегой кобыле и звонко выкликал: «По клюкву, по клюкву, по владимирску клюкву!..» И хозяйки спешили к нему со всех сторон: владимирская клюква славилась…
В Кремле и вокруг него стояли уже наготове полки московские. Батюшки служили молебны и в проповедях уверенно обещали воям, ежели падут они на поле брани, венец мученический. И вот, наконец, через Фроловские ворота с великим трубением полилась лавина головного полка…
– Ты гляди, как бы кобыла твоя не напугалась… – говорили москвичи володимирцу. – Иной раз так в трубы ударят, земля дрожит.
– Моя кобыла ничего не боится… – отвечал он, отвешивая седой, твердой, замерзшей клюквы желающим. – Моя кобыла на этот счет, можно сказать, совсем бесстрашная.
За головным полком выступил на Тверскую дорогу и большой полк, при котором ехал с ближними боярами сам великий государь и на особом возу везли свернутое знамя государское. За большим полком следовали полки правой и левой руки, а позадь всех – сторожевой полк, охранявший силу московскую с тыла. При полках везли огромные бубны, в которые били во время боя для возбуждения в воинах храбрости. Они были так велики, что каждый везла четверка коней, а било в него по наряду по восьми человек. Еще немногочисленные пушки возбуждали всеобщее любопытство. Небольшой отряд воинов, вооруженных пищалями – тоже дело в Москве еще невиданное – с подсошками и фитилями, тоже вызывал удивление, но знатоки дела презрительно фыркали: «Ну, чего там… Вот сулицей двинуть, а еще лучше бердышом, это так!..» Конные отряды косоглазых татар, галдя, шли заодно с русскими полками, как совсем недавно, бывало, шли они на русские полки. Русские конники были куда хуже татар. Сидели они на высоких безобразных седлах – легкий удар копьем, и воин летит вверх тормашками наземь… И сзади всего – москвитяне, глядя на полки свои, назяблись до дрожи – заскрипел по снегу непыратый обоз. Лошаденки от мороза были кудрявые, и возчики, похлопывая рукавицами и притопывая валенками, тешили один другого прибаутками ядреными…