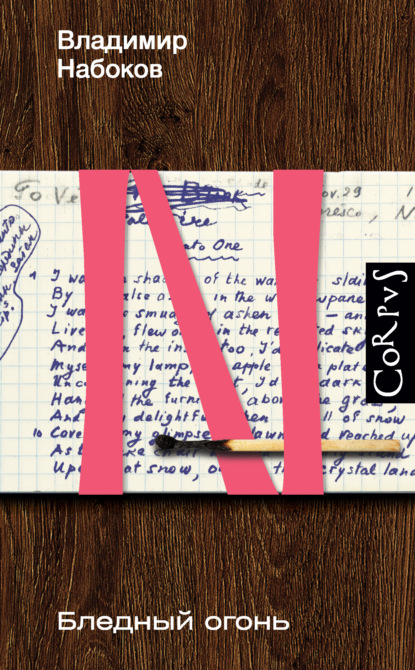Полная версия
Пнин
Он свирепо протопал наверх. Она крикнула ему вдогонку:
– Лор, ты кончил вчера свою статью?
– Почти. – Он был уже за лестничным поворотом – она слышала, как скрипела и потом ударяла по перилам его ладонь. – Сегодня кончу. Сначала я должен приготовить этот экзамен по Э. С., будь он неладен.
Э. С. значило «Эволюция Смысла» – самый лучший его курс (на котором числилось двенадцать человек, даже отдаленно не напоминавших апостолов); он открывался и должен был закончиться изречением, которому предназначено было сделаться когда-нибудь крылатым: «В известном смысле, эволюция смысла есть эволюция безсмыслицы».
2
Полчаса спустя Джоана бросила взгляд в окно веранды поверх полумертвых кактусов и увидела мужчину в макинтоше, без шляпы, с головою, похожей на отполированный медный шар, энергично звонившего в дверь красивого кирпичного особняка соседки. Старый скотч-терьер стоял рядом с ним с точно таким же доверчивым выражением. Мисс Дингволь вышла со шваброю в руке, впустила неторопливого, исполненного достоинства пса и направила Пнина к дощатой резиденции Клементсов.
Тимофей Пнин уселся в гостиной, заложив ногу на ногу «по-американски»[8], и пустился в ненужные подробности. Удостоверение личности в достоверных околичностях. Родился в Петербурге в 1898 году. Родители умерли от тифа в 1917-м. Уехал в Киев в 1918-м. Пять месяцев был в Белой Армии, сначала «полевым телефонистом», потом в канцелярии военной разведки. В 1919-м бежал из захваченного красными Крыма в Константинополь. Закончил курс в университете в Пра –
– Так ведь я девочкой жила там, и как раз в том же самом году, – обрадованно сказала Джоана. – Мой отец поехал в Турцию с правительственным поручением и взял нас с собой. Подумать, могли ведь встретиться! Я помню, как по-турецки «вода». Там еще был сад с розами…
– Вода по-турецки «су», – сказал Пнин, лингвист поневоле, и продолжал рассказ о своем увлекательном прошлом: – Закончил курс в Праге. Был связан с различными научными заведениями. Затем… Ну, а если более короче говоря: с 1925-го обитал в Париже, покинул Францию в начале войны с Гитлером. Теперь находится здесь. Американский гражданин. Преподает русский язык и тому подобное в Вандальском университете. Рекомендации можно получить у Гагена, главы германского факультета. Или от университетского Дома для несемейных преподавателей.
Там ему было неудобно?
– Слишком много людей, – сказал Пнин. – Назойливых людей. Между тем как мне теперь абсолютно необходимо специальное уединение. – Он кашлянул в кулак с неожиданно гулким звуком (чем-то напомнившим Джоане профессионального донского казака, с которым ее однажды познакомили) и затем пустился напропалую: – Должен предупредить вас, мне нужно будет вырвать все зубы. Это отвратительная операция.
– Ну, пойдемте наверх, – весело сказала Джоана.
Пнин заглянул в комнату Изабеллы с розовыми стенами и белыми воланами. Вдруг пошел снег, хотя небо было из чистой платины, и медленный искристый снегопад отражался в безмолвном зеркале. Пнин внимательно осмотрел «Девушку с кошкой» Хейкера над кроватью и «Заплутавшего козленка» Ханта над книжной полкой. Потом он подержал ладонь на небольшом расстоянии от окна.
– Температура ровная?
Джоана бросилась к радиатору.
– Раскаленный, – сообщила она.
– Я спрашиваю – нет ли воздушных течений?
– О да, у вас будет масса воздуха. А здесь ванная – маленькая, но зато полностью в вашем распоряжении.
– Душа нет? – осведомился Пнин, посмотрев наверх. – Может быть, так даже лучше. Мой друг Шато, профессор Колумбийского университета, однажды сломал ногу в двух местах. Теперь я должен подумать. Какую плату вы готовитесь назначить? Я спрашиваю об этом, потому что не дам больше одного доллара в день – не считая, разумеется, провианта.
– Хорошо, – сказала Джоана со своим приятным, быстрым смешком.
В тот же день Чарльз Макбет, один из студентов Пнина («По-моему, сумасшедший – судя по его сочинениям», – говаривал Пнин), с особенным рвением перевез пнинскую поклажу в своей патологически фиолетовой машине без левого крыла, и после раннего обеда в недавно открытом и не очень преуспевающем ресторанчике «Яйцо и Мы», куда Пнин ходил из одного сочувствия к неудачникам, наш друг занялся приятным делом пнинизации своего нового жилища. Отрочество Изабеллы ушло вместе с нею, или, может быть, ее мать стерла все, что о нем напоминало, но какие-то атрибуты девичьего детства все-таки уцелели, и прежде чем найти наиболее подходящие места для своей громоздкой солнечной лампы, огромной пишущей машинки с русским алфавитом, в треснутом и подклеенном пластырем гробу, пяти пар отличных, курьезно маленьких башмаков с вросшими в них колодками, кофейной мельницы-кипятильника – хитрой штуковины, которая несколько уступала той, что взорвалась в прошлом году, четы будильников, каждую ночь бегавших взапуски, и семидесяти четырех библиотечных книг, главным образом старых русских журналов в прочных переплетах Б(иблиотеки) В(эйндельского) К(олледжа), – Пнин деликатно выселил на стул на лестничной площадке полдюжины осиротевших томов, как то: «Птицы у тебя дома», «Счастливые дни в Голландии» и «Мой первый словарь (Свыше боо научно подобранных иллюстраций животных, человеческого организма, ферм и пожаров)», а также одинокую деревянную бусину с дыркой посередине.
Джоана, которая, быть может, несколько злоупотребляла словцом «жалостный», объявила, что она намерена пригласить этого жалостного ученого выпить с их гостями, на что ее муж возразил, что он тоже жалостный ученый и что он уйдет в кинематограф, если она приведет свою угрозу в исполнение. Однако, когда Джоана поднялась к Пнину со своим приглашением, он отклонил его, сказав напрямик, что решил более не употреблять спиртного. Три супружеские пары и Энтвисл пришли около девяти, а к десяти вечеринка была в полном разгаре, – как вдруг Джоана, беседуя с хорошенькой Гвен Коккерель, заметила Пнина в зеленом свэтере, который стоял в дверях, ведущих к подножию лестницы, и высоко держал стакан, так, чтобы она обратила внимание. Она поспешила к нему – и с ней едва не столкнулся муж, одновременно рысью пересекавший комнату, чтобы остановить, задушить, уничтожить Джэка Коккереля, начальника английской кафедры, который, стоя спиной к Пнину, забавлял миссис Гаген и миссис Блорендж своим знаменитым номером – он, пожалуй, лучше всех на кампусе[9] изображал Пнина. Между тем объект его имитаций говорил Джоане: «В ванной нет чистого стакана, а имеются другие неудобства. Дует от пола, дует от стен, и…» Но д-р Гаген, приятный, прямоугольный старик, тоже заметил Пнина и радостно приветствовал его, а еще через минуту Пнин, получив взамен своего пустого стакан шотландского виски на льду с содовой, был представлен профессору Энтвислу.
– Здравствуйте-как-поживаете-хорошо-спасибо, – оттараторил Энтвисл, превосходно подражая русской речи, – да он и впрямь напоминал добродушного царского полковника в штатском. – Как-то раз в Париже, – продолжал он, весело поблескивая глазами, – когда я произнес это в кабарэ «Уголок», пировавшие там русские были в полной уверенности, что я их соотечественник и только притворяюсь американцем.
– Через два-три года, – сказал Пнин, прозевав переднюю подножку, но вскакивая на заднюю, – меня тоже будут принимать за американца, – и все, кроме профессора Блоренджа, расхохотались.
– Мы добудем для вас электрический обогреватель, – шопотом сказала Пнину Джоана, подавая ему оливки.
– Какой марки электрический обогреватель? – подозрительно спросил Пнин.
– Там видно будет. Других жалоб нет?
– Да: шум мешателен, – сказал Пнин. – Мне слышно каждый, просто каждый звук внизу, но, по-моему, теперь не место обсуждать этот вопрос.
3
Гости начали расходиться. Пнин поплелся к себе наверх с чистым стаканом в руке. Энтвисл и хозяин вышли на крыльцо последними. В черной ночи плыл мокрый снег.
– Какая жалость, – сказал профессор Энтвисл, – что мы не можем переманить вас в Гольдвин насовсем. У нас и Шварц, и старик Крэйтс, оба горячие ваши поклонники. У нас настоящее озеро. У нас есть все что хотите. У нас даже есть свой профессор Пнин.
– Знаю, знаю, – сказал Клементс, – но предложения этого рода, а я их теперь то и дело получаю, опоздали. Я намерен скоро выйти в отставку, а до тех пор не прочь оставаться в своей затхлой, но зато привычной дыре. Как вам понравился, – тут он понизил голос, – мсье Блорендж?
– Он производит впечатление славного малого. Однако должен сказать, что кое в чем он напоминает мне того, вероятно вымышленного, главу французской кафедры, который полагал, что Шатобриан – это знаменитый повар.
– Шш… – сказал Клементс. – Первый раз этот анекдот был рассказан именно о Блорендже, и это чистая правда.
4
На другое утро Пнин героически отправился в город, прогуливая свою трость на европейский манер (вверх-вниз, вверх-вниз) и подолгу задерживая взор на разных предметах, философически пытаясь вообразить, каково будет увидать их снова после пытки и вспоминать, какими они казались ему сквозь призму ее ожидания. Через два часа он тащился обратно, налегая на трость и ни на что уж не глядя. Горячий прилив боли мало-помалу вытеснял ледяную одеревенелость анестезии во рту – оттаивавшем, еще полумертвом, отвратительно истерзанном. После этого он несколько дней был в трауре по интимной частице своего организма. Он вдруг с удивлением понял, как любил он свои зубы. Его язык – толстый, гладкий тюлень, – бывало, так радостно шлепался и скользил по знакомым утесам, проверяя контуры своих изрядно потрепанных, но все еще прочных владений, ныряя из пещеры в затон, карабкаясь на острый уступ, ютясь в ущелье, находя лакомый кусочек водоросли всегда в той же старой расселине. А теперь не было больше ни единой вешки – одна только большая, темная рана, terra incognita десен, исследовать которую не позволяли страх и отвращение. И когда протезы были вставлены, получился как бы бедный ископаемый череп, которому приделали совершенно чужие оскаленные челюсти.
Как и было заранее рассчитано, лекций он в это время не читал; не присутствовал он и на экзаменах, которые за него давал Миллер. Минуло десять дней – и вдруг ему стало нравиться это новое приспособление. Это было откровение, восход солнца, полный рот крепкой, умелой, алебастровой, гуманной Америки. Ночью он хранил свое сокровище в особом стакане с особой жидкостью, где оно жемчужно-розово улыбалось самому себе как некий чудный представитель глубоководной морской флоры. Большой труд о Старой России, дивная мечта, смесь фольклора, поэзии, истории общества и Petite Histoire[10], которую он любовно вынашивал вот уже лет десять, теперь наконец казалась достижимой, когда головные боли исчезли и появился этот новый амфитеатр из полупрозрачного пластика, как бы подразумевающий рампу и спектакль. Как только начался весенний семестр, его класс не мог не заметить магической перемены: он сидел, кокетливо постукивая резинкой карандаша по этим ровным, даже чересчур ровным резцам и клыкам, в то время как студент переводил из «Русского языка для начинающих» профессора Оливера Брэдстрита Манна, цветущего старика (на самом деле это пособие было от начала и до конца написано двумя худосочными тружениками, Джоном и Ольгой Кроткими, ныне покойными), предложение вроде «Мальчик играет со своей няней и со своим дядей». А однажды вечером он подкараулил Лоренса Клементса, который пытался было проскользнуть наверх в свой кабинет, и с безсвязными восклицаниями восторга принялся демонстрировать красоту предмета, легкость, с которой его можно было вынимать и снова вставлять, и стал уговаривать пораженного, но добродушного Лоренса завтра же первым делом пойти и удалить все свои зубы.
– Вы будете обновленный человек, как я, – кричал Пнин.
К чести Лоренса и Джоаны надо сказать, что они довольно скоро оценили Пнина по его несравненному пнинскому достоинству, несмотря на то что он был у них не столько квартирант, сколько что-то вроде домового. Он непоправимо испортил свой новый обогреватель и мрачно сказал, что это ничего, все равно теперь уже скоро весна. У него была раздражающая привычка утром стоять на лестнице и усердно чистить там свою одежду, по крайней мере минут по пяти каждый Божий день, тренькая щеткой о пуговицы. У него завязался страстный роман со стиральной машиной Джоаны. Несмотря на запрещение и приближаться к ней, он то и дело попадался с поличным. Забывая всякое приличие и осторожность, он, бывало, скармливал ей все, что подворачивалось под руку: свой носовой платок, кухонные полотенца, груду трусиков и рубашек, контрабандой принесенных вниз из своей комнаты, – все это ради удовольствия понаблюдать сквозь ее иллюминатор за тем, что походило на безконечное кувыркание больных вертежом дельфинов. Как-то раз в воскресенье, убедившись, что он один, он не мог удержаться и из чисто научного интереса дал мощной машине поиграть парой парусиновых туфель на резиновом ходу, измазанных глиной и хлорофиллом; туфли затопотали с ужасным нестройным грохотом, как армия, переходящая через мост, и вернулись без подошв, а Джоана появилась в дверях своего будуарчика позади буфетной и печально сказала: «Опять, Тимофей?» Но она прощала ему и любила сидеть с ним за кухонным столом, щелкая орехи или попивая чай. Дездемоне, старой негритянке-поденщице, которая приходила по пятницам и с которой одно время ежедневно беседовал Бог («Дездемона, – говорил мне Господь, – этот твой Джордж человек негодный»), случилось мельком увидеть Пнина, нежившегося в нездешних сиреневых лучах своей солнечной лампы, когда на нем не было ничего, кроме трусиков, темных очков и ослепительного православного креста на широкой груди, – и с тех пор она уверяла, что он святой. Однажды Лоренс, войдя в свой кабинет, свою потайную и заветную нору, хитроумно выкроенную из чердака, с негодованием обнаружил там мягкий свет и жирный затылок Пнина, который, расставив щуплые ноги, преспокойно листал страницы в углу: «Извините, здесь я только „пасусь“», – кротко заметил незваный гость (английский которого обогащался с поразительной быстротой), едва оглянувшись через приподнятое плечо; но каким-то образом в тот же день случайная ссылка на редкого автора, мелькнувший намек, молча узнанный на полпути к некой идее, отважный парус, обозначившийся на горизонте, незаметно привел их обоих к настоящему и нежному взаиморасположению, оттого что оба они чувствовали себя в своей тарелке только в теплом мирке подлинной науки. Люди, как и числа, бывают целые и иррациональные, и Клементс с Пниным принадлежали ко второй разновидности. С того времени они часто беседовали, когда встречались и останавливались на порогах, на лестничных площадках, на двух разных уровнях ступеней (меняясь уровнями и снова оборачиваясь друг к другу) или когда в противоположных направлениях шагали по комнате, которая в тот момент была для них всего лишь espace meuble[11], по определению Пнина. Вскоре выяснилось, что Тимофей был настоящей энциклопедией русских пожиманий плечами и покачиваний головой, что он классифицировал их и мог кое-чем пополнить Лоренсов каталог философской интерпретации жестов, зарисованных и незарисованных, национальных и местных. Очень бывало приятно наблюдать, как они вдвоем обсуждают какую-нибудь легенду или верование: то Тимофей расцветает в вазообразном жесте, то Лоренс рубит рукой воздух. Лоренс даже снял на пленку то, что Тимофей считал основными русскими «кистевыми жестами»: Пнин, в теннисной рубашке, с улыбкой Джоконды на губах, демонстрирует движения, лежащие в основе таких русских глаголов (употребляемых применительно к рукам), как махнуть, всплеснуть, развести: свободный, одной рукой сверху вниз, отмах усталой уступки; драматический, обеими руками, всплеск изумленного отчаяния; и «разъединительное» движение – руки расходятся в стороны, означая безпомощную покорность. А в заключение, очень медленно, Пнин показал, как всего лишь пол-оборота пальца, вроде стремительного движения кисти в фехтовальном выверте, превратили международный жест «грозящего пальца» из русского торжественного указания наверх («Судия Небесный на тебя взирает!») в немецкое наглядное изображение палки – «ужо я тебе!». «Однако, – добавил объективный Пнин, – русская метафизическая полиция тоже очень хорошо умеет ломать физические кости».
Извинившись за свой «небрежный туалет», Пнин показал этот фильм группе студентов, и Бетти Блисс, аспирантка с кафедры сравнительной литературы, где Пнин ассистировал д-ру Гагену, объявила, что Тимофей Павлович просто вылитый Будда из восточной кинокартины, которую она видела на азиатской кафедре. Эта Бетти Блисс, пухленькая, по-матерински заботливая женщина лет двадцати девяти, сидела мягкой занозой в стареющей плоти Пнина. Десятью годами раньше у нее был любовник, красивый негодяй, который бросил ее ради какой-то шлюшки, а потом у нее был затяжной, отчаянно сложный роман, скорее в духе Чехова, нежели Достоевского, с одним калекой, который теперь был женат на своей сиделке, низкопробной крале. Бедный Пнин колебался. В принципе он не исключал возможности брака. На одном семинаре, после того как все ушли, он в своем новом полнозубом великолепии зашел так далеко, что удержал ее руку на своей ладони, похлопывая ее, пока они сидели вдвоем и обсуждали тургеневское стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы». Она едва могла дочитать до конца, грудь ее разрывалась от вздохов, пойманная рука трепетала. «Тургенев, – сказал Пнин, возвращая ее руку на стол, – должен был валять дурака в шарадах и tableaux vivants[12] ради некрасивой, но обожаемой им певицы Полины Виардо, а г-жа Пушкина как-то сказала: „Ты надоедаешь мне своими стихами, Пушкин“, а жена исполина, исполина Толстого – подумать только! – на старости лет предпочла ему глупого музыканта с красным носом!»
Пнин ничего не имел против мисс Блисс. Пытаясь мысленно представить себе безмятежную старость, он довольно ясно видел, как она приносит ему плэд или набирает чернила в его автоматическое перо. Она, несомненно, нравилась ему – но его сердце принадлежало другой.
Кота в мешке, как говорил Пнин, не утаишь[13]. Чтобы объяснить малодушное волнение моего бедного друга однажды вечером в середине семестра – когда он получил некую телеграмму и потом ходил взад и вперед у себя в комнате по меньшей мере минут сорок, – следует заметить, что Пнин был холост не всегда. Клементсы играли в китайские шашки в отсветах комфортабельного камина, когда Пнин с грохотом спустился, поскользнулся и чуть не упал к их ногам, подобно челобитчику в каком-нибудь древнем городе, полном беззаконий, но восстановил равновесие – и все-таки наскочил на кочергу и щипцы.
– Я пришел, – сказал он, задыхаясь, – известить вас, или, вернее, спросить, могу ли я принять гостя женского пола в субботу – днем, разумеется. Это моя бывшая жена, ныне д-р Лиза Винд – может быть, вы наслышаны в психиатрических кругах.
5
Глаза иных любимых женщин, благодаря случайному сочетанию блеска и разреза, действуют на вас не вдруг, не в самую минуту застенчивого созерцания, а как задержанная и нарастающая вспышка света, когда безсердечная особа отсутствует, но волшебная мука пребывает, и ее объективы и прожекторы наставлены на вас в темноте. Во всяком случае казалось, что глаза Лизы Пниной, ныне Винд, словно драгоценные камни чистой воды, выдавали свою суть, только если вызвать их в воображении, – и тогда белое, слепое, влажное аквамариновое пламя трепетало и внедрялось вам под веки солнечной и морской пылью. В действительности же глаза ее были светлой, прозрачной голубизны, оттененной черными ресницами, с ярко-розовым лузгом, слегка вытянутые к вискам, где от каждого веером разбегались мелкие кошачьи морщинки. У нее были темно-каштановые волосы, волной вздымавшиеся над глянцевитым лбом и снежно-розовым лицом, и она употребляла бледный губной карандаш, и кроме некоторой толстоватости лодыжек и запястий, в ее цветущей, оживленной, элементарной, не особенно холеной красоте трудно было бы отыскать какой-нибудь изъян.
Пнин, в то время молодой, подающий надежды ученый, и она, в то время больше, чем теперь, напоминавшая ясноглазую русалку, а впрочем, все та же, встретились в Париже в 1925 году или около того. У него была реденькая темно-русая бородка (теперь, если б он не брился, пробилась бы только седая щетина – бедный Пнин, бедный дикобраз альбинос!), и эта раздвоенная монашеская растительность, увенчанная пухлым блестящим носом и невинными глазами, прекрасно резюмировала внешний облик старомодной интеллигентской России. Средства к существованию ему доставляла скромная должность в Аксаковском институте на улице Вер-Вер, в сочетании с еще одной, в русском книжном магазине Савла Багрова, на улице Грессе. Лиза Боголепова, студентка-медичка, которой только что исполнилось двадцать лет, совершенно обворожительная в своем черном шелковом джампере и спортивной юбке, уже работала в Медонской санатории, руководимой примечательной и внушительной пожилой дамой, д-ром Розеттой Стоун, одной из самых зловредных психиатрис того времени. А сверх того, Лиза писала стихи – большей частью запинающимся анапестом; собственно, впервые Пнин увидал ее на одном из тех литературных вечеров, на которых молодые поэты-эмигранты, покинувшие Россию в период своего бледного, неизбалованного созревания, нараспев читали ностальгические элегии, посвященные стране, которая была для них не более чем печальной стилизованной игрушкой, найденной на чердаке безделкой, хрустальным шаром, который встряхиваешь, чтобы устроить внутри светозарную метель над миньятюрной елкой и избушкой из папье-маше. Пнин написал ей потрясающее любовное письмо – хранящееся теперь в частной коллекции, – и она прочла его, плача от жалости к себе, пока приходила в себя после покушения на самоубийство посредством фармацевтических порошков, вследствие довольно глупого романа с неким литератором, который теперь – Впрочем, оставим это. Пятеро психоаналитиков, всё близкие ее друзья, в один голос сказали: «Пнин – и сразу же ребенка».
Брак мало в чем изменил их образ жизни – разве что она переехала в жалкую квартирку Пнина. Он продолжал свои занятия по славистике, она – свою психодраматическую деятельность и свою лирическую яйцекладку, повсюду кладя яички, как пасхальный кролик, и в этих зеленых и фиолетовых стихах – о ребенке, которого она хочет носить, и о любовниках, которых она хочет иметь, и о Петербурге (с легкой руки Ахматовой) – каждая интонация, каждый образ, каждое сравнение уже были использованы другими рифмующими кроликами. Один из ее поклонников, банкир и прямой покровитель искусств, выбрал среди русских парижан влиятельного литературного критика, Жоржика Уранского, и за обед с шампанским в «Уголке» добился того, что милейший Жоржик посвятил свой очередной feuilleton в одной из русских газет высокой оценке Лизиной музы, на каштановые кудри которой он преспокойно возложил венец Анны Ахматовой, после чего Лиза разразилась счастливыми слезами, – ну прямо как маленькая Мисс Мичиган или Королева Роз в Орегоне[14]. Пнин, не будучи посвященным в это дело, носил сложенную вырезку этой безстыжей ахинеи с собою, в своем честном бумажнике, и забавлял своих друзей, безпечно цитируя из нее вслух, покуда она вконец не истрепалась и не испачкалась. Не был он посвящен и в некоторые более серьезные обстоятельства, и как раз наклеивал остатки статьи в альбом, когда декабрьским днем 1938 года Лиза телефонировала из Медона, чтобы сообщить, что уезжает в Монпелье с человеком, который понимает ее «органическое эго», неким д-ром Эрихом Виндом, и никогда больше с Тимофеем не увидится. Какая-то незнакомая рыжая француженка пришла за Лизиными вещами и сказала: «Что, крыса погребная, бедная девочка-то тю-тю – некого теперь taper dessus»[15], – а месяца через два от д-ра Винда приковыляло немецкое письмо, полное выражений сочувствия и извинений и заверяющее lieber Herr Pnin в том, что он, д-р Винд, жаждет жениться на «женщине, которая пришла в мою жизнь из Вашей». Разумеется, Пнин дал бы ей развод с той же готовностью, с какой отдал бы свою жизнь – с мокрыми цветами на долгих подрезанных стеблях, с листиком папоротника, завернутую так же ловко, как это делается в пахнущей землей цветочной лавке в Светлое Воскресенье, когда дождь превращает его в серо-зеленое зеркало; но тут выяснилось, что у д-ра Винда в Южной Америке имеется жена с затейливым умом и поддельным паспортом, которая просила ее не безпокоить до тех пор, пока не оформятся некоторые собственные ее виды. Между тем Новый Свет начал манить и Пнина; профессор Константин Шато из Нью-Йорка, большой его друг, предлагал ему всяческую помощь в переселении. Пнин уведомил д-ра Винда о своих планах и послал Лизе последний номер эмигрантского журнала, где она упоминалась на 202-й странице. Он уже прошел половину пути по тоскливому аду, изобретенному европейскими бюрократами (к вящему удовольствию Советов) для обладателей несчастных нансенских паспортов, выдаваемых русским эмигрантам (что-то вроде волчьего билета освобожденному из тюрьмы под честное слово), когда в сырой апрельский день 1940 года в его дверь резко позвонили, и в квартиру ввалилась Лиза и, отдуваясь и как комод неся пред собою семимесячную беременность, сорвала шляпку, скинула туфли и объявила, что все это было ошибкой и что отныне она снова верная и законная жена Пнина, готовая следовать за ним куда угодно – даже и за океан, если понадобится. Эти дни были, вероятно, самыми счастливыми в жизни Пнина; это было непрерывное рдение увесистого мучительного блаженства – и поспевание посеянных по весне виз, и приготовления, и медицинский осмотр у глухонемого доктора, прикладывавшего через рубашку фальшивый стетоскоп к съежившемуся сердцу Пнина, и добрая русская дама (моя родственница), которая так помогла им в американском консульстве, и путешествие в Бордо, и прелестный чистый пароход – на всем был драгоценный, сказочный налет. Он не только готов был усыновить ребенка, когда тот появится, но страстно желал этого, и она с довольным, несколько коровьим выражением выслушивала педагогические планы, которые он строил, а он и в самом деле, казалось, слышал первый крик новорожденного и его первое слово в недалеком будущем. Она и всегда любила облитый карамелью миндаль, но теперь она поглощала его в баснословных количествах (два фунта между Парижем и Бордо), и аскетический Пнин смотрел с восхищением и страхом на эту ее прожорливость, качая головой и пожимая плечами, и в его сознание запало что-то от гладкой шелковистости этих драже, навсегда соединившись с воспоминанием о ее натянутой коже, цвете ее лица, о ее безукоризненных зубах.