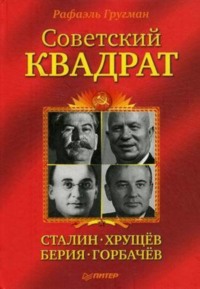Полная версия
Жаботинский и Бен-Гурион: правый и левый полюсы Израиля
Погромы, от Вильно до Кишинёва бушевавшие на просторах черты оседлости, до Плоньска не докатились, и польские евреи, в отличие от российских, не искали убежища в Палестине. Некоторые ровесники Давида втайне от родителей бежали за море, чтобы вырваться из паутины патриархальных предрассудков еврейского местечка, в котором незамужняя девушка не может пройтись по улице с юношей, чтобы не быть осуждённой в безнравственном поведении. Такое бегство было сродни романтическому путешествию, желанием испробовать себя в самостоятельной жизни. У Давида романтических порывов не было, он рос в атмосфере полного единства с отцом, всегда его поддерживавшим, и к отъезду готовил себя по идейным соображениям. Девушка, в которую он влюбился, Рахиль Нелкин, смело гуляла с ним по улицам Плоньска, наплевав на местечковые предрассудки. Когда он посвятил её в свои планы, она приняла смелое решение: уезжать вместе с возлюбленным. Её мать, побоявшись отпустить дочь, решила её сопровождать. Когда сборы были завершены, Авигдор, светясь от гордости, благословил сына и перед отъездом сфотографировался с ним под знаменем «Поалей Цион».
Молодые люди были преисполнены гордостью: они уезжали, чтобы строить еврейский дом на полупустынных и болотных землях, о которых Марк Твен писал в 1867 году, после посещения Святой Земли: «Едешь часами, везде пусто и голо, нет ни дома, ни деревца, ни кустика…» Такой была Палестина, которую предстояло осваивать отважным переселенцам.
…За полтора месяца до своего двадцатилетия вместе с четырнадцатью такими же юными друзьями-единомышленниками Давид отправился в путь. Перевалочным пунктом была Одесса. С Жаботинским, со своим будущим оппонентом, он даже теоретически не мог столкнуться на улице в его родном городе – Владимир в это время колесил между Вильно и Петербургом, занятый выборами во Вторую Государственную Думу.
Пароходная компания, осуществлявшая рейсы из Одессы в Палестину, процветала. Наполняемость регулярных рейсов обеспечивала Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, учреждённая в 1847 году указом Николая I для укрепления православия на Святой Земле и поддержки русских паломников ко Гробу Господню и другим святыням христианского мира.
Путешественники купили палубные билеты на пароход и отплыли в Святую Землю. Дорога заняла несколько дней. Утром 7 сентября 1906 года судно с паломниками прибыло в порт Яффо. Когда Давид сошёл на берег, он был ошеломлён.
– Это даже хуже, чем Плоньск, – признался он через много лет, вспомнив о мыслях, посетивших его при виде запущенных арабских кварталов Яффо.
Такой же негативной была реакция его спутников, ошеломлённых грязью и нищетой.
– Я не останусь в Яффо даже на одну ночь! – воскликнул один из его друзей. – Это не земля Израиля. Прежде чем стемнеет, я отправляюсь в Петах-Тиква.
В этот же день после обеда репатрианты пешком направились в Петах-Тиква – еврейское поселение, в котором проживало несколько их земляков из Плоньска. В полночь они были на месте.
Палестина в те времена не выглядела сказочной и цветущей библейской страной, в которой новоприбывших ждали молочные реки и кисельные берега. Столетия войн и разрухи до неузнаваемости изменили Святую Землю. Поселенцев встречали болота, опустошение, голод, каторжный труд и толпища малярийных комаров, жадно набрасывающихся на новую жертву. Кладбища росли быстрее новых поселений. Не имея навыков земледелия, многие энтузиасты не выдерживали испытаний малярией, голодом, влажным климатом и непосильным физическим трудом и первым же пароходом старались вернуться в диаспору. Позднее Бен-Гурион вспоминал, что девять из десяти эмигрантов, прибывших со Второй алией[4], уехали из страны.
Давиду пришлось работать на закладке апельсиновых рощ, долбить киркой потрескавшуюся на солнце непокорную глинистую почву, в кровь натирать руки – и усвоить девиз упрямцев-первопроходцев, добровольно обрекших себя на каторжный труд: «победа трудом», но, невзирая на трудности, пожелавших остаться, чтобы возродить еврейское государство. Первопроходцы, как правило, – молодые люди, не отягощенные домом и семьей, склонные рисковать жизнью и морально готовые к лишениям и трудностям быта. Романтический налёт быстро улетучился.
Давид исправно писал письма отцу. В одном из них он признался: «Только две категории рабочих смогут закрепиться на этой земле: те, кто обладают железной волей, и те, у кого хватит сил, – крепкие молодые люди, привыкшие к тяжёлому физическому труду».
Физических сил у него было немного – с детства он был болезненным юношей, зато упорства и силы воли имелось с лихвой.
Вскоре на Давида обрушилось тяжёлое испытание, через которое прошли почти все поселенцы: он заболел малярией. Болезнь протекала тяжело. Лечащий врач посоветовал ему вернуться домой, считая, что шансов выжить у него не так много, но Давид вцепился зубами в глинистую малярийную землю Петах-Тиква – и остался наперекор всему.
…Отгремели баталии освоения Палестины. Трудности первых десятилетий остались в прошлом. Они были разными, фанатики-первопроходцы: одни – «чистыми» сионистами, мечтавшими о возрождении еврейского государства, другие приехали с грёзами о социализме и коммунизме и столкнулись с классовыми конфликтами между евреями-землевладельцами из первой алии и новоприбывшими, сельскохозяйственными рабочими. Не было на заре двадцатого века министерства абсорбции, помогающего репатриантам. На плечи переселенцев ложились заботы об обустройстве, поиск жилья, пропитания. Их встречали голод, безработица, малярийные болота в Иудее, которые предстояло осушить, и вражда соседей-арабов в Галилее, где мягкий климат и отсутствие болот позволяли развивать земледелие – но здесь, на пригодных к жизни землях, развернулась настоящая война за рабочие места. Переселенцы отвоёвывали их, соглашаясь работать чуть ли не задарма. О независимом еврейском государстве, которое когда-нибудь здесь возродится, трудно было мечтать – шестивековая Османская империя казалась вечной и в обозримом будущем несокрушимой.
Помимо естественных климатических и бытовых трудностей, встретивших в Палестине идеалистов из Плоньска, переселенцы столкнулись с ситуацией, характерной для современного Израиля. Старожилы не ладили с новыми репатриантами, религиозные евреи конфликтовали со светскими, да и светские евреи молились разным Богам. Их разброс был велик: от «чистого» сионизма до сионизма с марксистским лицом. Между собой они враждовали – вместо того, чтобы отложить идеологические разборки до момента создания крепко стоящего на ногах государства и, помогая друг другу, сообща строить общий дом…
Такую безрадостную картину застали в Палестине плоньские сионисты.
Ненадолго прервём рассказ о Давиде Грине, приехавшем в Палестину в двадцатилетнем возрасте. Мы вернёмся к нему после глав, посвящённых Жаботинскому, – дождавшись, когда у поэта пролетят годы бурной молодости, когда он познавал прелести жизни, свойственные возрасту, и станет зрелым сионистом и окажется там, где мы остановились, рассказывая о Бен-Гурионе: в 1906 году.
А пока окунёмся в не предвещающий кипучих событий год 1898-й. Жаботинскому пошёл восемнадцатый год, Давиду Грину – двенадцатый. Сионизм – в пелёночном возрасте, и спорить им пока ещё не о чём. У Владимира на уме девушки и стихи, Давид до этого ещё не созрел. Впрочем, девушками Давид никогда не увлекался настолько, чтобы терять голову. Первая любовь, настигшая его в семнадцатилетнем возрасте и заставившая плакать ночами над стихами, посвящёнными любимой девушке, которая пренебрегла им, выбрав его лучшего друга, рослого и красивого, – не сломала Давида и не отвернула от выбранной цели жизни.
Жаботинский. Первое пророчество
Прибыв в Швейцарию весной 1898-го, в Бернском университете Жаботинский записался на отделение права и, помня о редакционном задании, окунулся в жизнь «русской колонии» – немногочисленной, около трёхсот человек. В большинстве своём это были евреи, из-за существования процентной нормы вынужденные выехать за границу для получения образования. В центральной Европе они вдохнули запах свободы, приобщились к либеральным идеям, вскружившим головы их европейских сверстников, и, почувствовав историческую ответственность за судьбу человечества (это беспокойство и желание переделать мир у потомков Яакова и Моисея заложено на генетическом уровне), решили перенести европейский социализм на российскую почву.
Дважды в неделю «колонисты» собирались на дискуссионные вечера и спорили до хрипоты, но иногда встречи были развлекательными: объединившись, политические противники, эсеры и эсдеки, пели песни на русском и на идиш, который почти для всех «колонистов» был родным языком. Жаботинский среди них был самым молодым.
17 с половиной лет – возраст, в котором принято больше слушать, чем говорить. На одном из клубных вечеров Жаботинский, обычно молчавший и жадно прислушивавшийся к ораторам, вышел на трибуну и впервые в своей жизни произнёс речь, вызвавшую гнев и возмущение слушателей. В центре просвещённой Европы, надышавшейся парами «призрака коммунизма», несовершеннолетний юноша предсказал надвигающуюся Катастрофу: «Еврейская диаспора неизбежно завершится «Варфоломеевской ночью». Спасение еврейского народа возможно лишь путём всеобщей репатриации в Палестину».
В этот прогноз было трудно поверить, и Жаботинский моментально нажил себе множество врагов (впоследствии такое будет происходить часто). Председатель собрания, спустя годы осознавший его правоту и ставший в Палестине активным деятелем сионистского движения, назвал его «законченным антисемитом» и, гневно на него указывая, пояснил собравшимся: «Он советует нам укрыться в Палестине, иначе всех нас вырежут!» Действительно, о какой Палестине говорит этот наглый юноша, если на пороге двадцатого века в Германии евреи уже почти добились полного равноправия и недалёк тот час, когда и в обновлённой демократической России они приобретут гражданские права и свободы!
Между Берном и Базелем всего сотня километров. Наверняка увлекавшиеся политикой бернские «колонисты» знали весной 1898 о 1-м сионистском конгрессе, состоявшемся в Базеле в августе 1897-го и принявшем Базельскую программу, которая сформулировала основные принципы политического сионизма: «создание национального очага» и возвращение евреев на историческую Родину. Для достижения этих целей Теодор Герцль, автор программы, считал необходимым действовать поэтапно: вначале содействовать поселению в Палестине ремесленников и сельскохозяйственных рабочих, а затем добиваться международного признания права евреев на возвращение в Сион. Он выдвинул лозунг: «Земля без народа – для народа без земли». Таким был сионизм в конце XIX века: практическая деятельность, направленная на создание в Эрец-Исраэль еврейских сельскохозяйственных поселений. Лишь после завершения этапа экономического освоения Палестины, по мнению первых социалистов-сионистов, должен начаться второй этап – организованное переселение евреев в Эрец-Исраэль и строительство еврейского государства.
Базельская программа объединила политические и практические аспекты сионистского движения, но в то время мечта о Сионе массово ещё не владела еврейскими умами, и головы бернских колонистов были заняты русской революцией.
Оттоманская империя казалась незыблемой, и еврейские активисты призывали быть реалистами и ратовали за борьбу за гражданские права в странах рассеяния. Среди «просвещённых евреев», интегрировавшихся в культуру и язык новой родины, сначала в Германии (а затем и в России) царило убеждение, что единственный путь евреев – ассимиляция и социализм. На пороге двадцатого века, самого кровавого в еврейской истории, в еврейской общине модной была поговорка: «У человека было два сына: один умный, а другой сионист».
У Жаботинского «стадного чувства» никогда не было. Он не шёл на поводу у толпы, оправдывая политические зигзаги любимой фразой политиков-флюгеров «Я следую за волеизлиянием потенциальных избирателей», и никогда, потворствуя большинству, не стремился сорвать аплодисменты или завоевать престижное место в выборных органах. Он обладал даром предвидения – причём не на далёкую, труднопроверяемую перспективу: его пророчества сбылись в течение жизни одного поколения.
Так было в 1898-м, когда семнадцатилетним юношей он бросил вызов аудитории, так было и четверть века спустя, в январе 1923-го, когда он вышел из руководства сионистской организации, пояснив корреспонденту журнала «Рассвет» причину своего поступка: «Я никогда не соглашусь осуществить или помочь осуществлению плана, идущего вразрез с моими собственными воззрениями». Затем пояснил, как он понимает свою роль: «Задача публициста или общественного деятеля… не в том, чтобы следовать за общественным мнением или «выражать» его, а в том, чтобы провести его – или, если хотите, протащить».
Он отмежевался от социалистов, честно признавшись, что «не познакомился как следует с этим учением», и публично причислил себя к сионистам. После собрания Хаим Раппопорт, один из будущих коммунистических лидеров Франции, подошёл к Жаботинскому и назвал его зоологическим юдофобом. Жаботинский ответил, что он еврей, – ему не поверили. Высказанное им пророчество и предложение укрыться в Палестине «просвещённым евреям» казалось диким.
Бернские колонисты не были одиноки в своей близорукости. Вдохновлённые равноправием евреев в просвещённой Германии, светлые умы австро-немецких евреев – Фрейда, Фейхтвангера, Эйнштейна, Стефана Цвейга – возможность Холокоста не рассматривали даже теоретически…
…Этой речью началась сионистская деятельность Жаботинского. До начала массовых погромов, всколыхнувших Россию, оставалось 5 лет; до принятия в «просвещённой Германии» нюрнбергских расовых законов, приведших к Катастрофе европейского еврейства и подтвердивших первое пророчество Жаботинского, – 37 лет.
Рим
Летом 1898-го публикация в петербургском журнале «Восход» стихотворения «Город мира» стала началом литературно-сионистской деятельности Жаботинского. А осенью для продолжения учёбы он переехал в Рим, где с перерывом на летние каникулы (летом он неизменно возвращался в Одессу) он прожил три года.
Он сменил газету, перешёл в «Одесские новости», самую популярную газету юга России, став её римским корреспондентом, – новая газета надолго стала его голосом, в ней с небольшими перерывами он проработал до Первой мировой войны.
Годы, проведенные в Италии, отточили интеллект Жаботинского. «Если есть у меня духовное отечество, то это Италия, а не Россия, – писал он позднее. – Со дня прибытия в Италию я ассимилировался среди итальянской молодежи и жил её жизнью до самого отъезда. Все свои позиции по вопросам нации, государства и общества я выработал под итальянским влиянием. В Италии научился я любить архитектуру, скульптуру и живопись, а также литургическое пение… В университете моими учителями были Антонио Лабриола и Энрико Ферри, и веру в справедливость социалистического строя, которую они вселили в моё сердце, я сохранил как «нечто само собой разумеющееся», пока она не разрушилась до основания при взгляде на красный эксперимент в России. Легенда о Гарибальди, сочинения Мадзини, поэзия Леопарди и Джусти обогатили и углубили мой практический сионизм и из инстинктивного чувства превратили его в мировоззрение…В большинстве музеев я чувствовал себя как дома».
В Италии Жаботинский переболел увлечением социализмом. По его собственному признанию, духовно в эти годы он примыкал к социалистам и, хотя ни разу не вступал в партию, разделял её взгляды, считая, что национализация орудий производства – естественное последствие развития общества, а «рабочий класс»– знаменосец всех неимущих, независимо от того, наёмные ли они рабочие, лавочники или адвокаты без клиентуры».
Италия конца девятнадцатого века была едва ли не единственной европейской страной, в которой не существовало антисемитизма, и, несмотря на обет, который юноша дал себе в Берне (посвятить себя после окончания учёбы сионистской деятельности), Жаботинский не только не вспоминал о нём, но даже и не интересовался ежегодными сионистскими конгрессами, собиравшимися в Базеле.
Он влюбился в Италию. Предместья Рима знакомы ему были так же, как Фонтаны Одессы. Почти в каждом из римских предместий ему довелось квартировать – где месяц, где два. «Через неделю, – вспоминал Жаботинский, «скромно» не упоминая девушек, его навещавших, – хозяйки начинали бунтовать, протестуя против непрерывной сутолоки в моей комнате, визитов, песен, звона бокалов, криков спора и перебранок и, наконец, всегда предлагали мне подыскать себе другое место».
Немногие из нынешнего поколения читали «Исповедь» Жан Жака Руссо, не побоявшегося публичного раскаивания, – обычно мемуаристы выстраивают себе прижизненный памятник из каррарского мрамора, забывая о грехах молодости, привирая и приукрашивая свою жизнь. Жаботинский был честен всегда. Даже в мелочах. Со стыдом повинился он в преступлении, непристойном для будущего лидера сионистов. Как-то в молодёжной компании, обсуждавшей обычаи католической церкви, на вопрос одной из девушек: «А вы, господин, православный?» – он, сам не ведая почему, ответил утвердительно. Впоследствии, анализируя свой поступок, он нашёл объяснение (хотя никогда не любил оправдываться), что в римский период он вёл жизнь «молодого, здорового и легкомысленного существа», не ощущая себя частью еврейского гетто. «Возможно, я опасался, – размышлял Жаботинский, – что потеряю в их мнении, если признаюсь перед этими свободными людьми в том, что я раб». Он не забывал о черте оседлости и ограничениях в правах, которым подвергались евреи в Российской империи (об этом ему напоминала каждая каникулярная поездка домой), но в компании свободных людей хотел казаться таким же, как и они.
…Итальянский язык стал его родным, жители Рима принимали его за уроженца Милана, сицилианцы за римлянина, но никак не за чужеземца. Молодости он отдал, по его признанию, всё, что ей причиталось: любил выпить и погулять, познал лёгкие суетные удовольствия и сумасбродства, которые весело описывал на страницах «Одесских новостей», иногда сильно приукрашивая (сказалось влияние одесских репортёров, которых боялся Чехов).
Дважды в неделю его итальянские письма под псевдонимом Альталена печатались в «Одесских новостях». Вскоре его статьи стали появляться в петербургском «Северном курьере», а затем и на итальянском языке в газете итальянских социалистов «Аванти».
Из его рассказов вырисовываются сумасбродства его итальянской жизни, названные им «юношеской глупостью». Они сделали его любимцем либеральной публики и самым популярным российским зарубежным корреспондентом. Из них мы узнаём о Пренаде, невесте его друга Уго, которую он с друзьями выкупил из публичного дома и вывез в торжественной процессии с мандолинами и факелами. О споре, вспыхнувшем между ним и Уго, и о двух «секундантах», посланных Жаботинским, чтобы вызвать его на дуэль. О появлении его в качестве свата, в чёрном фраке и жёлтых перчатках, перед синьорой Эмилией, прачкой и женой извозчика, когда от имени своего друга Гофридо он просил «руки» её старшей дочери…
Публику забавляли его рассказы, редакторов – радовали. Политики в них было немного, больше было приключенческого авантюризма, привлекавшего читателей. Когда летом 1901 года Владимир ненадолго приехал в Одессу, намереваясь к осени вернуться в Италию и закончить обучение на юридическом факультете, он, к своему великому удивлению, обнаружил, что как писатель «приобрёл имя». В городском театре ставились его пьесы. Двадцатилетнему юноше льстила неожиданная популярность, возможность бесплатно пройти в оперный театр, где в пятом ряду его ждало персональное кресло с выгравированной на табличке надписью: «г-н Альталена», – такой же бесплатный пропуск был у него во всех театрах Одессы.
Редактор газеты сделал ему щедрое предложение, предложив ежедневно писать фельетон, и положил немалый по тем временам оклад, 120 рублей. Искушение было велико, и двадцатилетний литератор, почувствовавший себя на вершине писательской Славы, не устоял, отказавшись от университетского диплома, карьеры адвоката, любимой Италии и возможность жить вне черты оседлости. Эта привилегия по закону 1870 года полагалась евреям, получившим высшее образование, но г-н Альталена от неё отказался и остался в Одессе, о которой после большевистской революции, когда дорога в родной город была закрыта, с нежностью писал в ностальгических воспоминаниях:
«Одним из трёх факторов, которые наложили печать свободы на моё детство, была Одесса. Я не видел города с такой лёгкой атмосферой, и говорю это не как старик, думающий, что на небосклоне потухло солнце, потому что оно не греет ему, как прежде. Лучшие годы юности я провел в Риме, живал в молодые лета и в Вене и мог мерить духовный «климат» одинаковым масштабом: нет другой Одессы – разумеется, Одессы того времени – по мягкой весёлости и лёгкому плутовству, витающим в воздухе, без всякого намека на душевное смятение, без тени нравственной трагедии».
Если другого пояснения нельзя обнаружить, то не объясняют ли эти строки географический феномен, случившийся на пересечении 46 градусов северной широты и 30 градусов восточной долготы: появление в короткий промежуток времени яркой плеяды одесских вундеркиндов: Жаботинского, Чуковского, Саши Чёрного, и в последующем поколении – братьев Катаевых, Утёсова, Ильфа, Бабеля, объединённых артистичной «мягкой весёлостью и лёгким плутовством, витающим в воздухе»?
Первый арест
Приняв щедрое предложение редактора, Жаботинский остался в Одессе, но Россия, которую он застал, уже была иной. В воздухе пахло революцией, ослабла цензура. Студенчество было охвачено брожением, предчувствием перемен. Публично произносимые слова «конституция» и «социализм», некогда крамольные и чреватые сибирской каторгой, вселяли надежду на скорое светлое будущее. Россия и русское еврейство (в частности) жили в наивном заблуждении, что достаточно одного мощного толчка, и демократические ценности, на завоевание которых Европа затратила целое столетие, будут молниеносно достигнуты.
Самодержавный режим, трещавший прямо на глазах, продолжал сопротивление, но оно ни в какое сравнение не шло с репрессиями жандармов царя Николая I. В России уже действовал суд присяжных, который – немыслимое для прежних царей дело – оправдал террористку Веру Засулич, стрелявшую в петербургского градоначальника. И за что?! За приказ выпороть заключённого, не пожелавшего его приветствовать. O tempora, o mores! – О времена, о нравы! О Россия, о суд присяжных конца девятнадцатого века! Куда мы катимся?! В правосудие, (страшно подумать) независимое от государства?!
В начале 1902-го Жаботинского арестовали. Г-н Альталена жил в квартире родной сестры, вышедшей к тому времени замуж, в которой ему была отведена комната. Ночью пришли жандармы, перерыли книги, нашли запрещённую брошюру и статьи в газете итальянских социалистов «Аванти», подписанные его именем, и до получения официального свидетельства политической благонадёжности автора (итальянским языком жандармский офицер не владел) журналист, успевший уже повздорить с властями, был арестован.
Дорогу в тюрьму, которая находилась за Чумкой, позади Второго еврейского кладбища, Жаботинский коротал в пролётке любезной беседой с околоточным надзирателем, который оказался большим поклонником его творчества: «Читал я, сударь, ваши статьи: весьма недурственно».
Под арестом Жаботинский провёл семь недель – столько времени потребовалось переводчику, чтобы подтвердить, что в статьях г-н Альталена нет «посягательств на достоинство государя Императора».
…Это историческое здание, одесская тюрьма, знавшая многое и многих, и поныне исправно исполняет служебный долг, решётчатыми окнами поглядывая через дорогу на разросшееся христианское кладбище. На месте еврейского, примыкавшего к тюрьме и снесённого в семидесятых годах прошлого столетия, разбит ныне парк – тюрьмы в Восточной Европе живут дольше еврейских кладбищ.
Семь недель, проведённых Жаботинским в царской тюрьме, стали его данью русской революции. Он научился пользоваться тюремной почтой. Полученный опыт пригодится через 18 лет: став узником британской тюрьмы в Акко, он вспомнит, чему его учили в Одессе. Впрочем, в России он ещё трижды освежит память кратковременными арестами – в Херсоне, после несанкционированного властями собрания сионистов; в той же Одессе, в конце 1904-го, после выступления на митинге против самодержавия, которое Жаботинский завершил любимым итальянским выражением: «Баста!»; и в Петербурге, в 1905-м, за нарушение паспортного режима: еврею не положено жительствовать вне черты оседлости. Третий арест был профилактическим. В полиции ему проставили красную печать в паспорте, означающую, что в 24 часа правонарушитель должен покинуть столицу российской империи, и в сопровождении городового вежливо проводили на Финляндский вокзал, где слуга закона, получив от арестанта серебряный рубль, приложил руку к козырьку и стоял перед ним навытяжку, пока не тронулся поезд. Какая идиллия! (Автор хотел написать «коррупция», но, к счастью, одумался).