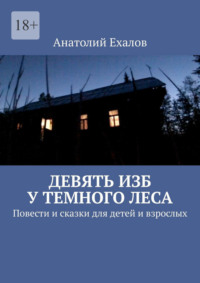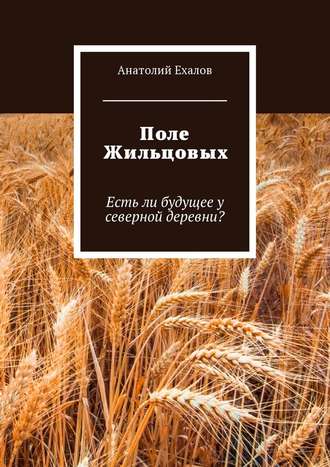
Полная версия
Поле Жильцовых. Есть ли будущее у северной деревни?
Они зарывали нас в землю
Есть со стороны старого грязовецкого тракта под Вологдой маленькая деревенька Горка. Здесь жил и вел крестьянское хозяйство, несмотря на возраст и совершенно слабое зрение, замечательный человек, в прошлом военный летчик, ставший к семидесяти годам фермером, философ, неистребимый оптимист, веривший до конца в народные силы, Константин Александрович Шохичев.
Жизнь его полна самых разнообразных событий, драм и подвигов, их хватило бы не на одну человеческую жизнь.
В последние годы его жизни я сдружился с ним. Мы частенько сидели с Шохичевым перед его камином.
– Я не скажу, что уж совсем хорошо прожил жизнь, но я себя не считаю неудачником. Знаете, я человек без молодости, детство было, юность была, а всю молодость я оставил на войне, а потом… – Он тягостно замолчал. – И все равно на сегодняшний день я могу сказать, что испытания не прошли даром. Может, я без них до 85 лет и не дожил бы.
Знаете, какая во мне энергия! Когда мы уезжали с Севера сюда в Вологду, а на Севере я очень хорошо зарабатывал, честно говоря, и жил на Севере ради длинного рубля, чего тут скрывать. Так вот, когда я уезжал в Вологду, все мои сотрудники, говорили: «Ты там обнищаешь моментально, в трубу вылетишь. У тебя, говорили, есть деньги, купи на Юге хороший дом и живи в удовольствие.»
Но мы люди вологодские, а родина милее любого рая. А что касается обнищания… Моя жена им так отвечала: " Моего Костю выкиньте на голые камни, через два часа поверните, так он с той стороны мхом уже обрастет. Мы не сможем жить плохо, где бы мы ни оказались!» И верно. Это геотропизм такой, как не бросай зерно, все равно корень вниз пойдет, а колос к солнцу.
– А что скажете насчет купеческих корней? – спросил я Шохичева.
– А вот можно ли моего деда назвать купцом? Он в старом Питере имел три трактира. Один трактир лично свой, а два других отдавал внаем землякам. Дед жил не для того, чтобы иметь много денег, у него был интерес, чтобы вокруг него крутились люди.
И когда он собрался жениться, невеста, будущая бабка моя, поставила условия: «Купи земли у помещицы 150 десятин да 100 десятин лесу, дом поставь, тогда приезжай свататься. Не верю я, говорит, в твои трактиры.» К тому же дед еще и выпить любил.
Условия выполнил, женился. Бабка в деревне осталась, а он в Питере заправлял трактирами. Да скоро революция совершилась, всю посуду собрал, в деревню под Грязовец укатил. С месяц в деревне пожил – затосковал, решил маслозавод построить, да непростой, а для импорта за границу вологодского масла. Заключил с крестьянами договор, что они будут кормить коров сеном с пустошей.
Вологодское масло – это когда кормят корову сеном, в котором не до 300 ли разных трав находится. И за молоко он платил в полтора раза больше, чтобы крестьяне были заинтересованы…
Так было до 27-го года. Потом стали поговаривать, что богатых прижимать станут. А у деда уже было одиннадцать дочерей и два сына. И вот как-то ночью маслобойка вспыхнула и сгорела до тла…
Потом отобрали лес…
Дедушка мой, Иван Андреевич, не очень горевал о пропавшем богатстве. Дед считал, что более-менее легко нажил именье. Когда стал помирать, перед смертью сказал:
– Мать, не греши, маслобойку-то я сам сжег, чтоб не раскулачили.
Его хотели раскулачить, но вся округа восстала. И деда моего кулачение не тронуло. Правда, дом был хороший, со светелкой, под железной крышей. Часы были с башенками, на всю деревню бой стоял. Железо снял, часы, посуду, все, что было ценного, потихонечку распродал. К 30-му году дом уже был дранкой покрыт, и светелки не было.
А помер дед из-за лошади. В хозяйстве их было две. Одна была рабочая, а вторая – Воронуха. Эту лошадь дядя Илья, сын младший, привез с гражданской войны.
Дядя Илья у нас воевал до 26-го года. Последний поход конницы Буденного был в Среднюю Азию, и когда они там басмачей разбили, Буденный сказал, что все кавалеристы уедут домой на своих конях.
Дядя Илья отчаянный был, семнадцати лет попал на империалистическую войну, его ранили в плечо, привезли домой. Сосед, Ваня Пиков был такой дураковатый, спрашивает:
– Ой, Илюшка, расскажи о фронте.
– Ну, Ваня, лучше не спрашивай. Вот сидим мы в окопах, вдруг закричали: вперед, в атаку! Вскакиваем, кричим «ура» и бежим все. А немец из пулеметов, из пушек! Кому ногу оторвало, кому руку, кому голову. А мы на это внимания не обращаем, все равно бежим и кричим «ура».
– А как же без головы-то?
– Тряпицу навьем, голову подмышку, бежим, кричим! Потом в лазарете, приставят.
И вот он, такой отчаянный, попал в гражданскую войну в конницу Буденного. Дядя Илья приехал домой на Воронухе в полной кавалерийской форме, с подарками из Средней Азии, с карабином, шашкой и наганом. Сдал он в военкомат только один карабин, седло и лошадь оставил, наган спрятал, а саблю на стену повесил. И как только выпьет на празднике в деревне, хватается за саблю и побежал по деревне: «Изрублю в капусту!»
Бабушка, боясь, что спьяну сын натворит чего, призвала кузнеца, мол, переруби ты мне эту шашку пополам и сделай два косаря лучину щепать. Наган спрятала под крыльцо, и остался дядя без оружия…
А Воронуха-то была очень хорошая кобылица. дед так любил эту лошадь, что всегда кусочек сахару для нее носил. Когда колхозы начались, лошадей у них отобрали. Месяца три-четыре прошло, наверное, дед пришел на конский двор, а Воронуха-то и голову повесила. Дед с расстройства заболел да и умер в 64 года.
…Мой отец был работник торговый. Его пригласили организовать кредитное товарищество в уездном городе Грязовце. В 38-м году я уже учился в техникуме механизации сельского хозяйства, и тогда был призыв партии и правительства: «Страна должна иметь 150 тысяч летчиков!»
Все тут начали бежать в летчики. И столько наехало людей в эти авиа училища, что не знали, что делать. Стали комиссии выезжать на места и отбирать нужную молодежь, чтобы не было такого переполнения.
Приехала и к нам комиссия. Ну, и я ради интереса пошел на летчиков посмотреть. А там было врачей!
По здоровью прежде отбирали. А я парень был здоровый. Хорошо занимался на турнике, на брусьях, двухпудовую гирю выкидывать мог столько, что надоест считать. Сейчас, наверно, ни одного парня нет в возрасте 16 лет, который гирю мог бы кидать, как мяч.
Комиссия прошла, председатель комиссии, комиссар – две шпалы в петлицах, – и говорит: « Вашему техникуму повезло больше всех. С вашего техникума четверо юношей имеют право по состоянию здоровья поступать в авиационное училище.»
Ну, и зачитывает мою фамилию. Я и глаза вылупил, а мой друг, Гриша Сухарев, так уж он хотел попасть в авиацию, не прошел.
– А Сухарев? —
– Нет Сухарева.
– Посмотрите еще раз!
– А, вот товарищ Сухарев, нашел Вашу карточку. Вы не прошли, по здоровью, у Вас три минуса. Не годен.
– Как так? Вот, Шохичев 10 километров на лыжах идет 59 минут, а я -52 минуты иду. Шохичев попадает, годен, а я не годен? Где же тут логика, где же справедливость?
А комиссар и говорит:
– Все верно, товарищ, у вас 52, но нам нужны не лыжники, а летчики.
…В 40-м году заканчиваю летное училище. Я любил тогда заниматься изобретательством, и стал еще в училище работать над автоматическим компрессором на двигатель к самолету ЯК-40. И конструкция у меня получилась очень хорошая. Направили меня с моей конструкцией в округ, где я в первый раз и встретился с нашим земляком Ильюшиным.
Я там развесил все свои чертежи. Один большой инженер, два ромба в петлицах, подошел ко мне, по голове потрепал и говорит:
– Это Ваш младший лейтенант?
– Да. этот наш.
– У этого лейтенанта котелок варит. Вы его направьте учиться в авиатехническую академию, ему не летать надо, а изобретать. У него очень цепкий ум. Смотрите, как он просто решил этот вопрос автоматики.
Вдруг подходит ко мне еще один с ромбом в петлицах, а я все рассказываю про компрессор, а он смеется и смеется надо мной.
Я думаю, что же это он все смеется надо мной? Я же в этом уверен. А он спрашивает:
– А ты откуда. парень. будешь?
– Вологодский. А что, в Вологде одни дураки, что ли? Что вы смеетесь…
– Да ты не обижайся, я сам вологодский. Я в тебе земляка по говору признал.
Это был Ильюшин. Он только и сказал, что все у тебя, парень, будет нормально.
Это был сорок первый год, март месяц. И в академии я не успел поучиться.
Шохичев подкинул в камин дров. Советовал мне на огонь смотреть: полезно для нервной системы.
– Вот, видите, здесь, у камина, можно погреть ноги. Это моя затея стариковская. Я на Севере любил вечером отдыхать у камина. Камин мне напоминает костер каторжный. Костры нас спасали от лютой стужи и от тоски.
Вот сейчас все говорят, что в концлагерях у Гитлера было плохо, а я скажу, что наши лагеря еще очко вперед дадут гитлеровским лагерям.
У камина я вспоминаю друзей своих по каторге. Я там таких людей встретил, что в простой жизни встретишь в редкость.
Там всех собрали, орешек к орешку. Там была вся ленинская гвардия, петроградская, кто делал с Лениным революцию, кого не расстреляли, все были там, у нас в лагере.
Четвертый секретарь компартии Германии, он у Ленина в Швейцарии брал уроки марксизма. Когда Гитлер пришел к власти, он бежал в Советский Союз, а Сталин его посадил. Вот это был коммунист, это был марксист!
Над этими ярыми большевиками потешались потом бандеровцы: «А, гады, с чем боролись, на то и напоролись…»
– Вас-то не сделали марксистом они?
– Нет, меня марксистом они не сделали, обида была очень большая. Меня ведь посадили всего за четыре слова.
Я был летчиком – штурмовиком. Мы начинали с того, что еще в сорок первом разбомбили у Гитлера нефтеперегонные заводы в Венгрии. Были у нас в Генштабе светлые головы. Собрали нас в мощный воздушный кулак. Мы прилетели в Плоешти ночью. Вся Европа сияла электричеством, никакой светомаскировки, Геринг убеждал Гитлера, что у русских авиации уже нет. И вот мы… Было море огня…
Последствия этой бомбардировки для Германии были не просто тяжелыми. До конца войны немецкие армии испытывали нехватку горючего. Потому то они так рвались к Бакинской нефти…
Скоро в своем полку я стал любимцем. В штурмовой авиации нужно сохранять особую выдержку, идти под обстрелом, как бы не замечать зенитного огня, а потом, выбрав цель, нужно круто сваливаться в пике…. У меня это получалось хорошо. А вот на земле выдержки-то и не хватило. Надо сказать, что немцы были настоящими воинами. Все остальные против них: румыны, итальянцы – ничто. Идешь, бывало на огневую точку, поливаешь ее огнем, а он в тебя из зенитных пулеметов гвоздит. И бьет так, что чертям тошно. Не убежит, не бросит пост…
Судьба его берегла. Но однажды противник все же достал его «ИЛ». Снаряд попал в двигатель, выбросило масло, залило стекло, приборную доску. Шохичев все же дотянул до своих, самолет сажал на брюхо, имея лишь боковой обзор. При ударе о землю у летчика лопнули позвонки и тазовые кости.
Два месяца лежал он на полном скелетном вытажении. Товарищи по госпиталю уже радовались за него:
– Поедешь домой, будешь работать инструктором в райкоме, по командировкам в деревни ездить. А там баб молодых, вдовых…
А когда Шохочев бросил костыли и уже с палочкой ходил, приехал в госпиталь друг его Петр Кузнецов, ведомый его, и со слезами на глазах стал рассказывать, что прибыли в часть молодые необстрелянные «грачи», и что Петру придется летать с ними. А это верная погибель…
И Константин решил бежать из госпиталя в свою часть. Петр достал одежду, Шохичев спустился по простыням со второго этажа, и они нарезали в свою часть.
Немного погодя, к летчикам прибыл тыловой генерал. Летчики выстроились на взлетном поле, а генерал стал обходить строй. Заметил Шохичева с палкой, поднял скандал.
Командир полка вступился за Шохичева:
– Товарищ, генерал, вы на это не обращайте внимания, он недолечился немного. Он бросит палку. Зато летает хорошо. Хотите взглянуть?
И Шохичев устроил показательные выступления. Он закладывал такие фигуры высшего пилотажа, что у начальства закружились головы.
– Вот, грачи, – сказал генерал. – Учитесь так летать, как летает Константин Шохичев.
Война катилась на Запад. Уже давно в воздухе было превосходство Советской Армии, но каждый день война забирала все новые и новые жертвы среди летчиков. И вот однажды:
– Перед тем, как мы вылетали на фронт, перед нами комиссар эскадрильи каждый раз зачитывал приказ Главнокомандующего под номером 227.
– Знаменитый приказ Сталина «Ни шагу назад!»
– Совершенно верно. И вот к 44 году этот приказ так навяз в зубах, что я вышел из строя и сказал: «Приказы читать – не приказы выполнять!» И к вечеру был уже в особом отделе.
Из лап особого отдела вызволить человека было невозможно, и чтобы меня не расстреляли, начальник штаба, он меня очень ценил, и комиссар полка, они меня разжаловали из лейтенантов до сержантов задним числом и передали в запасной полк.
Четыре следователя сменились, а четвертый, Назаров, сказал: «Парень, у тебя все равно выхода нет, давай подписывай, иначе тебя здесь заморят и забьют, а после, война уж к концу идет, разберутся, а сейчас некогда.»
Я и подписался.
Когда меня привезли в лагерь, там встретился мне прокурор Казахской ССР, 25 лет тянул. Ну, а я приехал во всей форме, только без погон, он и спрашивает:
– А тебя, летун за что посадили, вроде война, нужный человек…
А я и говорю ему, что за четыре слова. И говорю за какие.
– Ну, ты и дурак!
– Да почему дурак, что тут такого?
– Да разве можно у нас так говорить, да еще перед строем! Умные люди, когда зубы болят, в затылке дыру долбят и через ту дыру зуб вырывают, а ты рот открыл, да перед строем!
Сидели, кроме ленинской гвардии, профессора и академики, композиторы и врачи. В 47-м году привезли даже аристократов. Сидел граф Алексей Александрович Хвостов, последний придворный царя. Он был ходячей русской энциклопедией.
Я с ним очень много говорил о Распутине. «Как же вы допустили, – спрашивал я, – чтобы такой мужлан у Вас там верховодил?»
Так он относил на женщин, княгинь и графинь, которых сволочами обзывал, что все это они морочили голову царю. И очень царицу он ненавидел, душой, мол, немка, и революция произошла потому, что государыня была такая.
А царя он любил, царь был слишком либеральным. Возьмите, если Ленин в Шушенском в ссылке получал как дворянин 25 рублей пособие, занимался охотой, писал, читал газеты, жил с женой, а корова в ту пору стоила 15 рублей. Тут можно революции делать. Вот Сталин этот опыт и учел, и так закрутил, только держись!
…В 1938 году девятнадцатилетним мальчиком ушел Константин Шохичев из дома, а вернулся только в 1953 в возрасте 34 лет полностью седым… Но не сломленным.
После северов приехал в Шохичев Вологду, поселился на старом московском тракте, а когда наступили новые времена, выпросил у властей 40 гектаров земли, купил трактор, завел коров, птицу и стал хозяйствовать всласть…
Он говорил мне:
– Они зарывали нас в землю, не зная, что мы семена.
«Родина» Лобытова
Первыми на старом московском тракте встретятся вам угодья колхоза «Родина», который в недавнем прошлом считался лучшим не только в Вологодской области, пожалуй, и в России. Правда, многие поговаривали, что успехи в этом хозяйстве держались на опеке обкома партии. Но это не так. Или не совсем так.
В последнюю для СССР пятилетку колхоз «Родина» достиг символических трех пятерок. Надой молока на корову составлял пять тысяч литров в год. Урожайность зерновых – пять тонн с гектара. Конечно, молоко можно было разбавить, урожайность приписать, но третий показатель говорил об истинности первых двух. Чистая прибыль ежегодно составляла в колхозе пять миллионов рублей. Это более пяти миллионов долларов!
Почти сорок лет стоял у колхозного руля Михаил Григорьевич Лобытов, единственный в области дважды Герой Социалистического Труда.

Писатель В. И. Белов и М. Г. Лобытов
Когда-то я записал некоторые истории, рассказанные о Лобытове его коллегами и друзьями.
А вот как все начиналось, когда Лобытов добровольно из начальственного кресла председателя райисполкома сел на скрипучий стул председателя худшего в районе колхоза.
Вот небольшой отрывок из книжки Б. Лапина о Лобытове :
«…Бескормица на фермах в буквальном смысле слова подступала с ножом к горлу. Еще во время массовых отелов, как сообщил Лобытову зоотехник Соколов, большинство телят родились мертвыми. Многих не удалось сохранить по той причине, что специальных теплых помещений для нарождающегося молодняка на фермах не было. Те из доярок, что посердобольней, уносили выживших малышат домой, ставили в теплый хлев к теленку от собственной коровы. К апрелю подобрали возле скотных дворов последние клочки соломы, мужики, посланные еще раз на приозерные сенокосные поймы, нашли несколько забытых при стоговании изопревших копешек осоки.
Каждое утро Михаил Григорьевич просыпался с тревожным чувством. Бывало, и среди глубокой ночи ощущение неотвратимой беды поднимало его с постели, и старушка-хозяйка, у которой он временно квартировал, слыша, как скрипят половицы от тяжелых шагов нового председателя, слезала с печи, зажигала керосиновую лампу и начинала щепать лучину. Она уж знала, что Григорьичу все равно не уснуть и он будет маяться до утра, мерить избу от переднего угла до порога, потому самое лучшее лекарство для человека в таком состоянии – послушать шумок закипающего самовара, посидеть за чайком да поговорить о чем угодно, только бы отвлечься от тяжелых мыслей.
Сегодня опять чуть свет Лобытов отправился на Погореловскую ферму. Доярки уже привыкли к тому, что председатель начинает свой рабочий день спозаранку и обязательно заходит к ним. Встретили у ворот.
– Беда, Михаил Григорьич. Моя Звездка не встает.
– И у меня две…
– Остальные-то едва на ногах держатся.
– Кабы падеж не начался. Ой, горе-то какое!
Лобытов принял керосиновый фонарь, нагнулся, чтобы не удариться о притолоку, ступил во двор и, осторожно ступая по натоптышам затверделого навоза, пошел по проходу меж стойлами. Тягостно было видеть грязные впалые коровьи бока, нечищеные, наросшие за зиму от навоза на полметра полы, слушать голодное, просящее мычание животных.
– Вот она, Звездка-то, – забегая вперед, показала доярка.
Корова через силу подняла голову на свет фонаря. Женщины сгрудились позади председателя, охали и вздыхали, какая-то не сдержалась, завсхлипывала и побежала к выходу.
Лобытов, еще не зная, что предпринять, от бессилия и растерянности хотел попенять дояркам на то, что они так и не выполнили его распоряжение: и коров не почистили, и стойла, не говоря уж о проходе, но сдержался, понимая, что это будет не ко времени и не к месту. Он поднял фонарь над головой, посмотрел вверх. Тусклый отблеск высветил пыльные, увитые провисью паутины и сенной трухи балки.
– Поднимать надо коровушек, верно, – уловила взгляд председателя одна из доярок. – На веревках держать.
– На веревках, девки, худо, – отозвалась другая. – Изотрем коров до крови, чего они – кожа да кости.
Лобытов опустил фонарь, спросил:
– Бригадир еще не заходил?
– Да, кажись, приболел он. Вчера сказывал – всего ломает. А не то был бы уж тут как тут.
– Ну-ка кто-нибудь сбегайте за ним. Если на ногах, пусть придет.
Лобытов отдал дояркам фонарь, пошел на улицу. В воротах, забитых мерзлым навозом, забыл пригнуться, больно ударился о притолоку. «В конец захламили двор, – ругнулся про себя, потирая ушибленный лоб. – Утонули в навозе, а на поля ни груды не вывезено. Ручьи потекут – поздно будет. Надо не тянуть, за вывозку браться».
Бригадир Ворухин не заставил себя долго ждать.
– Как самочувствие, Иван Дмитриевич? – участливо спросил Лобытов.
– Да вроде маленько отлежался. Болеть-то, вишь, некогда, раз такое дело. Я уж, как Анна прибежала, сразу смекнул: коровы не встают. Надо поднимать.
– Надо, Иван Дмитриевич. Созови мужиков. На веревки поднимать нельзя: испортим коров. Я сегодня же постараюсь найти пожарные шланги. Штука крепкая, и бока коровам не изотрет. Думаю, такое же положение и на других фермах. В общем, скажу в конторе, пусть бригадиров созовут сюда, в Погорелово, шланги привезу – всем нарежем.
– Ясно дело, – бодрым голосом ответил Ворухин. – Только поднять-то поднимем, это нехитрое дело, а кормить будем чем?
– Крышами кормить будем, – негромко отозвался Лобытов.
– Чем-чем?
– Придется, Иван Дмитриевич, снимать солому с крыш. Пока дворы и так простоят, а потом покроем наново.
– Дак ить там солома, поди-ко, истлела, – засомневался ничуть не обрадованный Ворухин. – Коровы и нюхать не захотят.
– Ладно, обсудим этот вопрос на правлении. Ты давай пока обойди мужиков. Пусть будут наготове.
На колхозной полуторке Лобытов отправился в город. Побывал у пожарников, в воинской части. И там и тут нашлись списанные шланги. Попутно поинтересовался у военных, не помогут ли чем-либо еще полезным для сельхозработ.
Предложили посмотреть повозку конной тяги. Оказалось, этакая арба о четырех колесах, с высокими бортами. «А что? – прикинул Лобытов. Зерно отвозить от комбайнов в самый раз. Только лошадку покрепче». Договорились, что колхоз заберет повозки позднее.
За полдня дорогу от города до Огаркова развезло изрядно.
Полуторка пыжилась что было сил, выкарабкиваясь из колдобин. Михаил Григорьевич рассеянно смотрел в затуманенное оттепельной моросью окно, прикидывал, как поведут себя колхозники на сегодняшнем заседании правления. Что ни говори, а оголять крыши скотных дворов – значит, показать всему народу, что колхоз докатился до последней крайности. Как воспримут люди это распоряжение? Скорее всего, подумают, что новый председатель расписывается в собственной беспомощности.
Ведь для них он еще председатель райисполкома, который может и должен использовать прежнюю власть и связи, найти «ходы-выходы» в районных организациях, достать солому или даже и сено где-то на стороне.
Но этот вариант, он уже окончательно решил, отпадает. Конечно, попытка не пытка, но для него сейчас искать подмогу на стороне – все равно что идти просить милостыню.
В Огаркове полуторку уже ждали. Он заметил еще издали: возле скотного двора стояло пять или шесть лошадей, запряженных в дровни, толпились мужики.
Выскочив из кабины, он первым делом спросил бригадиров, как на фермах. Мужики заговорили в один голос, и Лобытов, поняв, что беда всех коснулась одинаково, рукой показал на кузов полуторки: «разбирайте примерно поровну», напомнил, что в семнадцать ноль-ноль собирается правление, и всем бригадирам прибыть обязательно, глянул на часы – половина четвертого, и только сейчас вспомнил, что кроме утреннего чая у него сегодня во рту и крошки не было».
Через тридцать лет великих трудов и напряжения «Родина» уже была показательным образцовым хозяйством, куда ехали за опытом со всех концов области и страны.
Секретов не держим
Из «Родины» не выезжают делегации.
– Поделитесь секретами высоких урожаев!
Лобытов на трибуне понижает голос:
– Честно сказать, все дело тут в говнище. Берешь его побольше, вывезешь на поле, запахиваешь. А больше говнища положишь, больше урожай вырастет. Больше зерна и соломы, лучше скотину кормим, она больше говнища дает. Больше его в землю положим, больше урожай получим, опять же лучше скотину кормим…
Вот так и живем. Вся ставка на говнище.
Не выгорело
Звонят Лобытову из обкома партии:
– Михаил Григорьевич! Тут у нас товарищи из ЦК. Не покажете ли им Ваше хозяйство, комплекс в Харычеве?
– Показать не жалко. Пусть приезжают.
– И еще одна просьба. Организуйте для них обед. У вас там столовая хорошая и комната подходящая есть.
– Отчего не покормить? Покормим, – отвечал Лобытов.– Ждем.
– Вот и прекрасно, – радуются в обкоме партии.
– Опять обкому денег жалко, – говорит Лобытов своему по-мошнику. – Хочет за наш счет гостеприимным выглядеть. Пусть едут.
Делегация скорехонько осмотрела животноводческий комплекс, и далее – в столовую. Зал для гостей готов, столы накрыты. Гости сытно отобедали и, подобревшие, стали выражать благодарность Михаилу Григорьевичу.
Лобытов раскланялся, а когда машины с начальством скрылись за поворотом, набрал номер бухгалтерии:
– Валентина! Не забудь счет в столовой взять за угощение. Там на двадцать два рубля тридцать копеек. Отошли его в обком. Пусть оплатят. А если не оплатят, то отправь в ЦК. Пусть Центральный Комитет платит. У нас колхоз, а не богадельня.