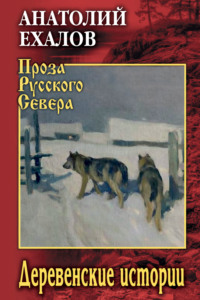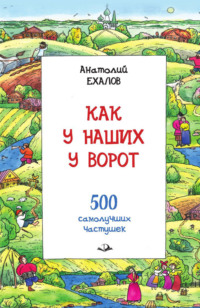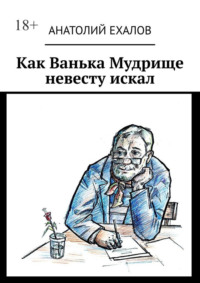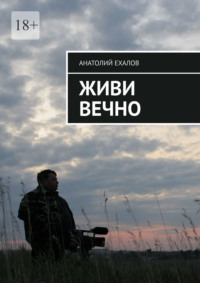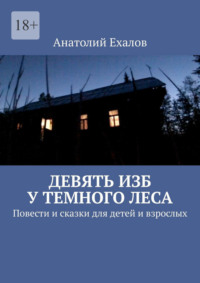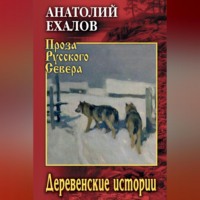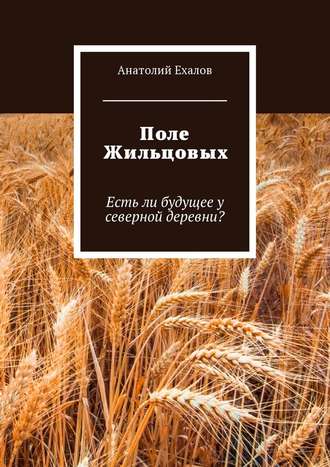
Полная версия
Поле Жильцовых. Есть ли будущее у северной деревни?

Поле Жильцовых
Есть ли будущее у северной деревни?
Анатолий Константинович Ехалов
© Анатолий Константинович Ехалов, 2018
ISBN 978-5-4485-8699-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Братия! Не проводите жизни вашей в пустых занятиях, не промотайте жизни земной, краткой, данной нам для приобретений вечных…»
Игнатий Брянчанинов, святитель
НА БЕРЕГУ НЕСАМОРОДНОГО МОРЯ
Рыбинское водохранилище – вот оно рядом, рукой подать. Деревню эту с некоторым условием можно назвать приморской деревней, потому что совсем недавно, каких-то десять- пятнадцать лет тому назад, к ее лугам и пастбищам подступило рукотворное море, скрывшее под своими «несамородными» водами сотни деревень с угодьями, пашнями, дворами и подворьями. Да что деревни…, города уходили под воду: Молога и Весьегонск…

С тех пор жизнь у моря для многих стала другой, иные уже не землю возделывали, а бороздили просторы водохранилища: не пахал, не сеял, а урожай снимал. На подводных пастбищах гуляли несметные стада судаков и лещей…
У семьи Жильцовых появился свой промысел. На большой моторной лодке братья Жильцовы перевозили на удаленные сенокосы покосников, а порой доярок и бидоны с молоком.
Холодно с утра, роса жжет босые ноги, зато сон быстро проходит… Стучит мотор, туман стелется по воде, скрывая мир.
Старается Васька держать направление, чтобы не «лажануться» в тумане, не уйти в открытое Рыбинское водохранилище с его неоглядными просторами. Нужно побыстрее доставить покосников на заливные луга: коси коса пока роса. Бывало, в тумане чуть вправо возьмешь, и скоро твоя лодка, не заметишь, как ткнется носом в берег, с которого отплывали…
Компас нужен, чтоб не заплутать туманным утром в безбрежных просторах водохранилища…
Помнится, однажды, возвращаясь домой, заблудился. Лодка ткнулась носом в берег. Вроде бы рано еще приплыть…
Дунул ветерок, приподнял занавеску тумана. Какая-то болотистая местность, кочки брусничные и черничные, мелкие сосенки… Болото!
– Куда же это я попал? Где берег, где деревня, где пастбище с коровами?
Прислушался: ага, где-то далеко промычала одна корова, другая…
Развернул он лодку, пошел вдоль болота в поисках знакомого берега. Долго плыл вдоль его, пока не догадался, что это он круги наматывает вокруг болотистого острова. Но откуда он здесь? Не было никогда его..
Болото оказалось плавучим островом. Как оно оказалось тут, что ли штормом оторвало от берега и пустило по волнам?
Вечером за ужином отец Васи высказал предположение. Десятки и сотни болот в округе были затоплены при заполнении водохранилища.. А болота – это бывшие озера, затянувшиеся торфяными пробками. И вот, затопленные, они отрываются там под водой и всплывают то тут, то там, и дрейфуют, словно «летучие голландцы», по рукотворному морю, напоминая людям о недавней истории этого края…
Деревня Пустошка – три десятка домов в два посада, деревня, каких десятки и сотни тысяч по все Великой Руси.
У Пустошки Череповецкого района, в которой родился наш герой Василий Иванович Жильцов – счастливая, среди прочих деревень этого пришекснинского края, судьба. Эта деревня не попала в зону затопления, не ушла под воду, как восемьсот с лишним деревень и город Молога при заполнении Рыбинского водохранилища.
В сентябре 1935 года в СССР было принято решение о строительстве Рыбинского гидроузла. По проекту уровень воды должен был подняться на 98 метров. Но уже 1 января 1937 года проект пересмотрели и приняли решение повысить уровень до 102 метров. Это позволяло увеличить мощность Рыбинской ГЭС в полтора раза, но в то же время площадь затапливаемых земель должна была увеличиться почти вдвое.
Грандиозное строительство угрожало существованию города Молога, сотням деревень и сел Вологодской и Ярославской областей.
Когда жителям Мологи сообщили о том, что скоро их родина перестанет существовать и скроется под водой, никто в это не мог поверить. В то время районный город Молога насчитывал около семи тысяч жителей.
Переселение жителей с предполагаемых территорий затопления началось весной 1937 года. В архивах НКВД сохранился рапорт о том, что 294 человека не пожелали добровольно покинуть дома, а некоторые из них угрожали даже приковать себя замками.
Советская пропаганда объяснила это «психическим расстройством отсталых элементов». Согласно инструкции НКВД, к ним были применены методы силового воздействия.
13 апреля 1941 года под Рыбинском закрыли последний шлюз плотины, и вода хлынула в пойму. Город Молога, история которого насчитывала почти 8 веков, ушел под воду. Полностью его территория была затоплена в 1947 году, на поверхности остались лишь главы некоторых церквей, но через несколько лет и они скрылись под водой.
Под затоплением кроме Мологи оказались около 700 сел и деревень, население которых составляло около 130 000 человек. Все они были переселены в другие регионы.
Но иногда «Русскую Атлантиду» можно увидеть. Уровень воды в Рыбинском водохранилище часто колеблется, и затопленный город появляется над поверхностью Волги. Можно увидеть сохранившиеся церкви и остатки кирпичных домов.
Русская Атлантида
…Как скоротечна человеческая память.
Мы идем на катере по некогда густо населенной Молого-Шекснинской низменности, знаменитой житнице Севера.
Гигантские просторы Рыбинского водохранилища. Тихи и зеркальны его воды. Лишь изредка жирующая рыба нарушит их спокойствие, белый теплоход проплывет в тумане или огромное нефтеналивное судно пройдет неслышно, и снова тишина.
Но вот налетают чайки, и резкие крики их будят сонные просторы.
Многие ли из жителей этих мест сегодня знают, что в двадцати девяти километрах от Череповца под толщей воды погребена в сороковых годах одна из самых знаменитых православных святынь – Иоанно-Предтеченский женский монастырь, с которым связана самая жгучая тайна России – тайна ее падения и, даст Бог, грядущего подъема и расцвета…
Имя Марии Васильевны Солоповой было хорошо известно в русской поэзии девятнадцатого века. Да и по сей день песни и романсы на стихи поэтессы Солоповой, родственницы Пушкина по материнской линии, звучат в России. Но поэтическая стезя привела Марию Солопову к духовной прозе, более того, скоро она приняла монашеский постриг и имя Таисья.
С тех пор это имя неразрывно связано с Леушинской православной обителью – самым крупным в России женским монастырем, в котором на 1917 год подвизалось около 700 насельниц.
Становление и расцвет монастыря пришелся на годы управлением им игуменьей Таисьей, которую позднее стали величать «игуменьей всея Руси».
Матушка Таисья причастна к созданию еще 10 женских монастырей и, можно сказать, основанию целой школы женского монашества в России. Еще при жизни почитали ее святой. Она была духовной дочерью святого преподобного Иоанна Кронштадского, отмечавшего Леушино особой любовью и постоянно посещавшего его.
В начале лета 1903 года о. Иоанн на пароходе прибыл в Леушино, вернее, на монастырскую пристань в деревне Борок. Но во всей этой местности распространилась тогда страшная болезнь скота – сибирская язва. Со всех сторон стояли карантины, и полевые работы не проводились. Вот что пишет по этому поводу игуменья Таисья: « Утром я отправилась навстречу Батюшке и еще на пароходе рассказала ему все. Выслушав меня молча, Батюшка встал со своего места и начал ходить по трапу парохода и молиться. Через полчаса времени сел возле меня и сказал: «Какое сокровище – молитва!»
…На пристани собралась не одна сотня домохозяев и хозяек, намеревавшихся просить Батюшку об избавлении их от такого тяжелого наказания, как потеря скота.
– За грехи ваши Господь попустил на вас такую беду: вот, например, праздники вам даны, чтобы в церковь сходить, Богу помолиться, а вы пьянствуете. А уж при пьянстве чего хорошего, сами знаете! – наставлял их священник.
– Вестимо, Батюшка, кормилец, чего уж в пьянстве хорошего, одно зло!
– Так вы сознаете, друзья мои, что по грехам получаете возмездие?
– Как же не сознавать, кормилец! Помолись за нас, грешных!
Батюшка приказал принести ушат и тут же из реки почерпнуть воды. Совершив краткое водоосвящение, он сказал:
– Возьмите каждый этой воды, покропите ею скотинку и с Богом работайте. Господь помиловал вас!
…В тот же день все мужички поехали куда кому надо было, все карантины были сняты, о язве осталось лишь одно воспоминание, соединенное с благоговейным удивлением к великому молитвеннику земли Русской.
…Затерянная в дремучих лесах Леушинская обитель, не имевшая ни средств, ни настоящих дорог, за годы правления игуменьи Таисьи превратилась в явленное чудо – «большую свечу» Богородицы, ее Дом. За пять лет ее неустанных трудов в Леушинской обители был построен пятикупольный храм Похвалы Божьей Матери, главный храм монастыря, поражавший всех своим величием и красотой.
Надо сказать, что сестры возили сюда камни для строительства лишь во время половодья, а зимним путем на лошадях доставляли за полтораста верст из Ферапонтова монастыря известь.
«Все храмы обители пропитаны моими слезами, – писала в дневниках игуменья Таисья. – Я в буквальном смысле изведала весь труд нищей храмосоздательницы монастыря.» В Похвальском соборе были собраны списки всех явленных икон Богородицы и учрежден Чин Чтения Неусыпаемого Акафиста…», где в течение десяти лет изо дня в день, из ночи в ночь не прекращалось ни на минуту чтение Канонов и Акафиста Богоматери.…
Однажды игуменье Таисье было видение Богородицы, и это видение стало основой для написания монахиней Алипией иконы Леушинской Божьей Матери «Аз есмь с вами и никто же на Вы». Впоследствии Иоанн Кронштадский назовет эту икону Спасительницей России и благословит ею местного купца Василия Муравьева, только что побывавшего паломником на Афоне, на старчество и молитвенный подвиг. При этом Иоанн Кронштадский предсказал грядущие на Россию бедствия, падение империи, разрушение монастырей и храмов, появление множества святых исповедников и мучеников… Оба они при этом горько плакали.
Но предсказал святой праведник хотя и нескорое, но возрождение России и православия. Василий Муравьев принял постриг и стал еще одним великим молитвенником России – Серафимом Вырицким, повторившим дважды молитвенный подвиг Серафима Саровского. Он молился о спасении России, стоя на камне перед Леушинской иконой Божьей Матери тысячу дней и ночей, накануне и во время Великой Отечественной войны.

Сегодня эта икона « Аз есмь с вами, и никто же на вы» находится в Черниговской епархии в Свято-Георгиевском монастыре и источает многие чудеса и исцеления.
А теперь мы подходим еще к одной тайне Леушинской обители. Игуменья Таисья записала в дневниках свой сон – видение, оказавшийся пророчеством русской Атлантиды. Однажды ей приснилось, что идет она к монастырю полем, и вдруг все окружающее начинает покрывать прибылая, несамородная вода.
Скоро вода эта покрыла и монастырь, и все окружающее его пространство. А игуменья шла и шла по воде как посуху. И долго так шла, пока, наконец, вода не стала убывать, и монастырь вновь не открылся Божьему свету. Игуменья Таисья закончила земную жизнь через шесть лет после кончины своего духовного отца Иоанна Кронштадского и была погребена в построенном ею Похвальском соборе монастыря.
Через два года Россию накрыл девятый вал революционных потрясений. Леушинский монастырь был закрыт властями в тридцатых годах, насельницы разошлись, монашествуя в миру, по окрестным деревням, осели в большом селе Мякса, что на противоположном берегу реки Шексны, и в городе Череповце.
Монастырь был отдан под колонию беспризорников. Немного осталось живых свидетелей того времени. Серафим Павлович Тяпин, пенсионер из Мяксы, вырос в деревне Леушино.
– Замечательная была деревня, – рассказывал он мне. – Столько лет прошло, а все еще снится. 250 домов было. Четыре улицы. И монастырь. В праздники колокольный звон покрывал всю округу. А какие были леса, сколько грибов, ягод, – Серафим Павлович вздыхает и закрывает глаза, словно вглядывается в невидимые нам картины прошлого. – Когда беспризорников поселили в монастыре, они надругались над святынями. Многие иконы были сожжены и растащены.
Я сам не видел, но однажды вечером к матери пришли бывшие служительницы монастыря и стали рассказывать ужасные вещи, будто бы беспризорники вскрыли гробницу матушки Таисьи, вытащили мощи и даже играли ее головой в футбол. Ночью старицы тайно пробрались в монастырь и вынесли мощи игуменьи.
Где она вновь была перезахоронена, Серафим Павлович не знает. Но по некоторым сведениям мощи Таисьи предавались земле не раз. Были слухи, что монахини захоронили ее в сухом подвале одной из деревень, не попавших под затопление, и якобы по церковным праздникам мощи ими извлекались, обтирались святой водой и переоблачались.
…Колония беспризорников недолго просуществовала в стенах монастыря. С середины тридцатых в эти места пошли эшелоны с заключенными, которых гнали этапами в леса. В Леушинском монастыре был организован один из концентрационных лагерей. Заключенные начали валить лес и углублять русло Шексны. Большая часть леса сжигалась, и над огромными пространствами висела дымовая завеса.
По деревням поползли тревожные разговоры о грядущем выселении и затоплении, под которое попадало более шестисот деревень, города Молога, Весьегонск, Мышкин, Углич, Калязин… Скоро волей-неволей пришлось покидать родные места. Жить в зоне затопления от горевших лесов стало невозможно. Весной сорок первого года были опущены затворы Рыбинской плотины, и вода пошла в наступление. К сорок седьмому году самое крупное рукотворное море протяженностью в 256 и шириною до 60 километров было заполнено до краев.
Молого-Шекснинское междуречье ушло под воду. «Несамородная» вода скрыла и Леушинскую обитель, предварительно взорванную строителями светлого будущего. И только колокольня ее еще долго возвышалась над просторами новоявленного моря, но и она рухнула, когда вода подточила ее фундамент. Пророчества Иоанна Кронштадского и игуменьи Таисьи в первой своей части, можно сказать, сбылись. И вот, кажется, начала сбываться вторая часть вещего сна игуменьи.
В 2003 году на свет Божий показались остатки превращенной в горы щебня и битого кирпича Леушинской святыни. Мы бродили по хрустевшим остаткам кирпича и плитки – былому духовному величию Пустыни, и я подумал, что пророческому сну Матушки не суждено было исполниться.
Возрождение Леушинской святыни началось с ее сохранившегося в Санкт-Петербурге подворья да инициативы священника Иоанно-Богословского храма о. Геннадия Беловолова. Ежегодно в устье реки Мяксы, что впадает в Рыбинское море, 7 июля проводится Леушинское стояние, на которое собираются паломники со всей России с явленными иконами Богородицы. Здесь, напротив скрывшегося под водами Леушина, был поставлен крест из прибившегося к берегу плавника, а в самой Мяксе жителями села был поставлен храм, в котором один из его приделов станет именоваться Похвальским.
Вечерами на водохранилище, там, где поднимаются год от года из воды останки Леушинского монастыря, поднимается в сумеречное небо светящийся столб, по которому словно сама Богородица сходит к людям. «Аз есмь с Вами, и никто же на Вы».
В восьмидесятых и девяностых годах по поводу создания Рыбинского водохранилища возникли жестокие споры. На страницах газет и журналов, в документальном кино многочисленные критики называли трагической ошибкой строительство ГЭС, канала и водохранилища… Неоправданными затратами человеческих ресурсов, затопление плодороднейших земель… Были даже предложения поднять затворы плотин и осушить затопленные территории, чтобы ввести их снова в сельскохозяйственный оборот.
Если бы это произошло, обнажившееся ложе водохранилища в десятки тысяч квадратных километров принесло бы новые беды краю: пыльные бури, эрозию почв, нарушило циркуляцию грунтовых вод, вновь изменило ландшафт и биосферу…
И скорее всего, Рыбинское водохранилище и драматические эпизоды его строительства стали разменной картой в политических битвах девяностых. И верно, надо нам, пользующимся сегодня благами, созданными предшествующими поколениями, знать, как все это создавалось, и принимать их с благодарностью за те труды и страдания, какими они создавались.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ДОРОГА
Едва вывалишься из Вологды, начинается экстремальная езда – смотри под колеса во все глаза, держи руль крепче: колдобина за колдобиной, словно злокозненный враг устроил на этой несчастной дороге ковровую бомбардировку.
Старый Московский тракт на Грязовец. Верно, он никогда не был первоклассной дорогой, хотя и держал от Грязовца направление на столицу. Ныне это, прежде всего, крестьянская, колхозная дорога, оставшаяся в стороне от новой, день и ночь гудящей потоками машин трассы М-8.
Кто ездит сегодня этим старым трактом? Редкая легковушка провернется, грузовичок громыхнет на этих древних холмах, именуемых на картах Отрогами Северных увалов…
А ведь бывало и царские кортежи Ивана Грозного, Петра Первого, Александра Первого считали рытвины да ухабы на этом тракте… Да когда это было-то! Все быльем поросло.
С тех пор из большого начальства, разве что Анатолий Семенович Дрыгин по этой дороге ездил. Все остальные «крупняки» уже поездами да самолетами из Москвы в Вологду прибывали.
Да вот и я то и дело сновал по этому старомосковскому тракту, проведывая свою историческую родину, собирая материалы для газет, радио да телевидения. И потому знаю множество историй, связанных с ним и людьми, населяющими эти грязовецкие края, которые в некоторой степени мне родные. Про них мой рассказ, прежде чем доберусь до главного героя этой книги.
Великий исход
…Перед самой войной в 39 году этой вот дорогой шел мой прадед Дмитрий Сергеевич Синицын, делегат Первого Всероссийского съезда крестьян. Было ему в ту пору под семьдесят лет. В стоптанных сапогах, старом полушубке на плечах, с котомкою за спиною. В руках у него была веревка, на которой он вел корову также немолодую уже ярославской породы.
Брел он из деревни Наместово Междуреченского района в село Пречистое Ярославской области, куда уже перебралась вся молодежь огромного синицынского рода.
Дмитрий Сергеевич был последним вынужденным переселенцем.
Первым из междуреченских пределов уехал мой дед Сергей Сергеевич Петухов, несогласный с колхозной политикой. В двадцатом году он высватал в Славянке мою будущую бабушку Марью Дмитриевну и привез ее в новый, пахнущий сосновой смолой дом в деревню Быково.
Ох, и хороша была деревня Быково! Небольшая, уютная. Она словно ожерельем опоясывала своими посадками высокий холм, вокруг которого лежали разработанные крестьянами, освобожденные от леса и пней, поля…
Матушка моя могла часами вспоминать эту привольную деревенскую жизнь. Она родилась в Быкове в 27 году, а уже в тридцать пятом покинула ее.
– Мы же природные крестьяне, – говаривала она. – В июне начинают возить навоз в поля, оставленные на пары. И такой волнующий запах навоза стоит во всей округе, что сердце радуется: так пахнет будущий урожай хлеба. А вот согнали с земли…
К началу коллективизации у Сергея Сергеевича Петухова было уже пятеро детей, две коровы, ухоженные поля, пасека. Но одна корова утонула в трясине на болоте, где пасли неколхозный скот, а вторую, Краснуху, зарезали на нужды колхоза на деревенском пруду.
Моей матери не было и пяти лет, она видела, как резали и разделывали кормилицу Краснуху. И еще она запомнила, как хохотали мужики, бросив к ногам девчонки большое окровавленное краснухино сердце, и она, ухватив его, плача от горя, потащила домой.
А горе и призрак голода уже стояли у ворот нового соснового дома. Сергей Сергеевич первым покинул Междуречье, уехал в Пречистенский леспромхоз за заработком, став пролетарием, делал дошники – большие деревянные кадушки для закваски капусты для растущего рабочего класса.
У Марии Дмитриевны в колхозе не стало жизни… И она, заколотив новый, звонкий, как колокол, дом, собрав в узлы имущество, наняла лошадь и отправилась с детьми на железнодорожную станцию вслед за мужем.
И когда увидел он на перроне в Пречистом эту ораву, заплакал:
– Машенька, куда же я вас дену? Я ведь в конюшне живу.
Пять лет, пока строился дом, семья жила в конюшне.
Вслед за старшей Марией уехали из бывшей Авнегской волости остальные Синицыны, основав на станции Пречистое целый синицынский край.
Осталась лишь ветвь Половинкиных-Синицыных, двоюродников моей бабки, из которых самый известный и ныне живущий в Молочном фронтовик, ученый, доктор наук Павел Анатольевич Половинкин, которого помнят все выпускники Молочной академии, слушавшие его лекции по политэкономии.
Оставили в тридцатых Междуречье пахарь, плотник и столяр дядька Петя с семьей, дядька Паша с семьей, тетка Дуня опять же с семьей, тетка Фиса с семьей… Поехали двоюродники, троюродники… Сколько их пошло от корня Ивана Синицына, жившего в конце 18 века в Авнегской волости пра-пра-предка…
Последним поднялся младший синицынский отпрыск Геннадий Дмитриевич. Он был инвалидом с детства, одна нога отставала в росте. Когда-то сестра Дуня, водившаяся с мальцом, оставила его на холодном лужке и заигралась. Генашка застудил ногу, и стала она отставать в росте. Поэтому и выбрал он профессию портного, шил деревенскому населению штаны, пиджаки, платья, кепки восьми клинки, полушубки…
Жили они с Дмитрием Сергеевичем одним хозяйством: младший, как говорится, «на корню сидит», в деревне Наместове. Жили бобылями без женского пригляда. И вот однажды пришла к ним в избу нищенка с девчушкой. Накормили их, напоили, в суму пирога положили.
– А пошто ты с собой Шурку-то таскаешь? – спрашивает Дмитрий Сергеевич.
– Сирота она, – отвечает нищенка. – Самой не прокормиться. Вот и вожу за собой.
– Оставляй девку нам, – говорит Дмитрий Сергеевич. – Мы прокормим. По хозяйству станет помогать, щи научим варить, корову доить… Подрастет, так Генашке невестой станет.
Оставили девку, Геннадий докормил ее до зрелого возраста, да и женился на ней. Девятерых детей на свет произвели…
Геннадий в Междуречье дольше всех продержался, но и он затосковал по родне, собрался в дорогу, купил крохотный домишко на станции и перевез семью.
Остался один Дмитрий Сергеевич, делегат Первого Всероссийского съезда крестьян новой России, все еще не решившийся оторваться от земли…
Бабушка моя частенько вспоминала Дмитрия Сергеевича. Мне представляется он великим тружеником.
Он приходил домой с поля, когда все уже спали. Садился на порог и принимался снимать сапоги. Да так и засыпал об одном сапоге у дверей с головой на пороге. А утром его уже не было, уходил затемно в поле.
Еду ему носили ребятишки, перекусит на меже, и опять за труды.
– Это же рабство настоящее! – скажет современный молодой человек и будет неправ.
Это, прежде всего, не нужда, а радость земледельца и жажда труда, который приносит каждодневное удовлетворение, заставляла работать его от зари до зари.
Для земледельца каждый день – новые радости, новые задачи сотворения собственного гармоничного мира…
Это большинство из нас, живущих в городе, встает по будильнику в течение тридцати – сорока лет, чтобы отправиться на проходную завода или учреждения: к станку, столу или прилавку. И все эти сорок лет одно и то же: проходная, станок, стол… И тоскливое ожидание отпуска… Это ли не рабство?
Наверное, сердце его, природного пахаря и сеятеля, ликовало, когда на крестьянском съезде звучали эти божественные слова «земля и воля». Какие новые надежды и великие жизненные силы рождали они…
И вот «великий перелом» 29—31 годов…, ставший для моего рода великим исходом…
Я знаю, что прадед Дмитрий, преодолев верную сотню километров с коровой на поводу, пришел в новый дом к Марии Дмитриевне, где и провел последние дни своей жизни.
А корова та спасла в войну уже мою мать и ее братьев, когда Сергей Сергеевич Петухов сгинул в пучине войны…
Недавно я решил собрать на прародине в Междуречье своих родственников, наплодившихся из синицынского корня. При самом приблизительном подсчете их набралось около трехсот человек… Собралось – восемьдесят больших и малых, раскиданных по просторам необъятной России и уже за пределами ее, из которых все, кроме меня, впервые побывали на земле своих предков.
Радостное и одновременно грустное было событие. Но, кажется, у каждого, кто был у этого родового костра, выросли крылья. Ведь за спиной каждого уже стояла великая сила рода…