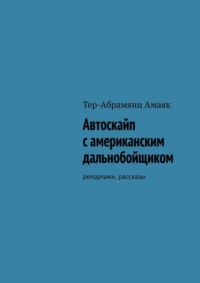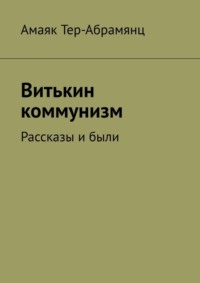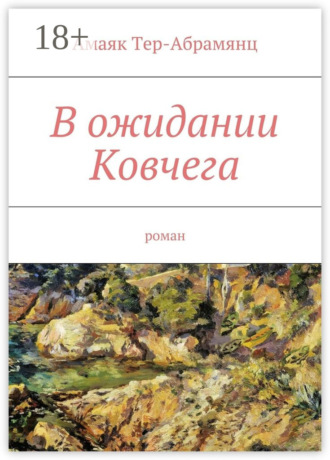
Полная версия
В ожидании Ковчега. Роман
Гурген подошел к краю обрыва и сразу отпрянул.
Лег на землю и, медленно подползая, выдвинул над краем голову. Не такой уж высокий обрыв – метров пятнадцать-двадцать, с красными уступами, переходящий в довольно пологий склон и плоскость долины.
В первый миг ему показалось, что пологость обрыва усыпана выроненными из коробка желтыми спичками. Приглядевшись, он увидел, что спички эти разной толщины и длины, одни проступали явственно, другие полускрыты грязью, зрение, напрягаясь, стало различать елочки грудных скелетов, бугристости черепов… Среди костей копошились какие-то темные существа, развернул черные крылья с траурной бахромой стервятник и вновь сложил их, видимо передумав взлетать.
Гурген вцепился руками в траву, сердце его колотилось о камень.
Он вдруг все понял, увидел, как все это было, почти как наяву.
Аскеры неспеша шли цепью через деревню. Они шутили, улыбались, смеялись. Это была веселая охота. Они не торопились убивать. Просто выгоняли полуголых, едва проснувшихся людей из домов, били прикладами и, как скот, гнали к утесу. В ужасе жители деревни, в основном женщины, старухи с детьми, старики, бежали, шли, ковыляли (кого-то парализованного даже несли на себе!) в ловушку. Такая игра вызывала веселый жизнерадостный смех солдат – ведь те, которых они гнали, были и не люди вовсе, а те, которых полагалось приказом беспощадно истреблять и истреблять! Все это бегство могло продлить бегущим жизнь на какие-то десятки минут, минуты, но инстинкт был сильнее разума, и они бежали, обезумев. А те, жизням которых ничего не угрожало, посмеивались над ними, как над неразумными животными.
И наступил миг, когда людей согнали на утес.
Впереди был обрыв, позади стояли аскеры с примкнутыми штыками, ожидая последнего приказа. Вой и плач…
Офицер скомандовал…
Гурген лежал, скребя пальцами камень, сердце бухало так, будто пыталось разрушить скалу. Он просунул руку за пазуху, нащупал и сжал куколку дочери. Значит там, в этой гниющей куче, и его Нунэ? И отец? И мать? И жена? И сестра?.. – «Твой сон – плохой сон…». —«Нет-нет-нет! – кричала в нем кровь». «Да, да, да, – усмехался кто-то далекий и холодный». Но неожиданно в краснобагровой черноте вдруг замерцала искорка: но ведь Вардуи уцелела! А значит, мог уцелеть еще кто-то – кто-то мог быть в это время в лесу, кто-то в поле, кто-то мог спрятаться, наконец! И почему бы среди этих уцелевших не могло оказаться кого-нибудь из его близких? Крохотная искорка стремительно разгоралась, и скоро весь сухой лес отчаянья был объят пламенем безумной надежды.
Вардуи! Надо немедленно выяснить!
Гурген вскочил и бросился в деревню.
Вбежал в знакомые ворота.
Вардуи сидела так же посреди сада, подставив лицо солнечным лучам, и будто чему-то улыбалась.
– Вардуи! – вскричал он. – Вардуи, очнись!
Она не отвечала, она не хотела слышать.
Он схватил ее за плечи, и руки его в первый миг будто схватили пустоту – между висящей тканью и костями не было плоти, а кости, которые он затем ощутил, были тонки и хрупки, как у ребенка.
– Вардуи, – встряхнул он ее беспощадно, – Выжил ли еще кто-нибудь, кроме тебя, ради Бога, очнись! Кто-нибудь еще спасся?
Она приоткрыла глаза, смотря на него исподлобья.
Неожиданно ее гладкое лицо на глазах стало покрываться трещинами морщин, дробиться на все более и более мелкие кусочки. Так пламя сморщивает гладкую бумагу перед тем как обратить ее в прах. Все скрытые и разглаженные морщины и морщинки проявились, всего за несколько мгновений из сравнительно нестарой пятидесятилетней женщины она превратилась в семидесятилетнюю старуху с мутными бессмысленными глазами.
– Плохой сон… Нехороший сон… – только бормотала старуха, – нехороший мальчик!
– Где они? Где? – он безжалостно встряхивал и встряхивал ее.
– В Саду, в Саду, в Саду…
Выйдя на улицу, остановился и, вытащив деревянную куколку, некоторое время смотрел на нее, будто испрашивая совета. Нет, он не мог уйти просто так, сразу: надо досмотреть. Зачем? Почему? – Он и сам не знал.
Снова зашагал к саду, через сад, где – шлеп, шлеп, – падали дозревшие яблоки.
По дорожке, извивающейся по краю обрыва, спустился вниз. Груды костей желтели, на них виднелись куски серой плоти, того, что оставалось от одежды, и грязи. На скалящихся черепах оставались куски кожи и волосы. Детские и взрослые скелеты лежали один на другом, вперемешку, и разобраться, кому какие останки принадлежали, здесь было под силу только Богу. Ветер подул в сторону Гургена, и в голове у него потемнело от смрада.
На куче произошло какое-то движение. Стая одичавших псов-людоедов сверху внимательно наблюдала за явившимся сюда зачем-то человеком. С тех пор как хозяева стали им здесь пищей, они сами привыкли быть здесь хозяевами. Это была сплоченная стая, привыкшая отражать покушения на их территорию шакалов, лисиц и даже волков. Все они были разжиревшие, лоснящиеся, но особенно выделялся среди них самый крупный, очевидно, вожак. Это был экземпляр кавказской овчарки, ростом чуть менее теленка, багровоглазый, с короткими, почти невидимыми ушами и густой гривой, отчего он был больше похож на льва, чем на собаку.
Дожди, солнце, тление, предыдущие пиры почти не оставили им уже пригодного в пищу человеческого мяса, и им больше приходилось лишь обгладывать кости. Стая начинала ощущать первые признаки голода. В чужаке же они почувствовали и какую-то опасность, и одновременно возможность добычи. Вожак зарычал, обнажив клыки, оскалилась и стая, двинулась на человека полукругом: в центре – вожак, по краям – кто послабее, включая нескольких щенков.
Стервятники сидели на утесах, расслаблено прогнув голые змеиные шеи, и невозмутимо наблюдали за происходящим внизу из-под полуприкрытых пленчатых век.
Как только вожак рванулся вперед, стая с яростным лаем сорвалась с места и бросилась на Гургена.
Щелкнул выстрел – вожак упал.
Стая, как по команде, на миг остановилась и кинулась врассыпную.
А вожак лежал, всего полтора шага не допрыгнув до человека, и жалобно, совсем как щенок или человечий ребенок, скулил и плакал, будто помощи просил.
Теперь Гурген узнал его – это был пастуший пес Аракс – гроза волков и всех непрошеных гостей. Из людей он подпускал к себе лишь пастуха Каро, а из прочих лишь пару раз давал себя кормить с рук Гургену.
Скуля и постанывая, грозный пес медленно подползал к ногам Гургена. Узнал ли он его?.. Пес поднял свою большую голову и предсмертно мутными глазами, в которых уже не было ни тени ярости, а покорность судьбе, взглянул на человека, будто признав в нем хозяина, Бога. Волкодав опустил голову, и черный большой нос ткнулся в мысок сапога и, неожиданно, постанывая и скуля, он стал облизывать его широкой тряпкой языка.
Гурген опустил маузер и выстрелил.
Как только голова пса замерла, стервятники на уступах озабоченно зашевелились, в нетерпеньи раскрывая и складывая крылья, зашуршали, захлопали, вытягивая змеиные шеи, будто требуя, чтобы человек, совершивший для них работу, немедленно удалился.
Гурген поднял глаза на груду костей. В один миг весь мир ему представился бессмысленным бесконечным кругом пожираний и выделений.
– Так вот во что ты, Господи, превратил мой народ!
За то, что мы молились тысячи лет на тебя, за то что сеяли, любили и терпели?
За что ты отнял мою дочь Нунэ? Чем же она успела пред тобою провиниться? Чем успела нагрешить? И после этого святые, мудрейшие отцы говорят, будто ты добр?!!.. Ведь сказано – ни один волос не упадет без твоего желания!.. Тогда за что ж ты убил мою Нунэ?
Нет, Господи, нет! Не жди теперь от меня молитв.
Теперь нам не по пути!
Он отвернулся и медленно зашагал прочь, слыша за собой хлопанье крыльев стервятников. Он поднимался по склону, по тропе, приник к роднику на несколько минут, презирая свое тело —даже в такой миг сохраняющее естественные потребности. Отпив, он выпрямился и огляделся – мир стал другим, несмотря на знакомые контуры гор. И вдруг ощутил, что навсегда потерял способность простой бессознательной радости богатству его красок и форм. Весь мир будто стал черно-белым… Нет, не совсем черно-белым, один цвет из его богатой палитры все же ему остался будто в насмешку – красный во всех его оттенках – от алого до багрового – цвет крови, цвет убийства!
С этих минут он изгнал Бога из своей души, но не ведал он, что если в душе нет Бога – его место занимает дьявол – свято место пусто не бывает!
Он и не заметил, что солнце коснулось кромки гор, когда он поднялся на обрыв, в саду уже густели синие сумерки. Он подумал о том, что Ваче, следуя его приказу, наверное, уже уезжает, но подумал равнодушно, безразлично, он не хотел догонять его.
Но когда вошел в деревню, вдруг услышал, что кто-то поет. Голос был мужской и сильный:
Оровел, Оровел…Вот рассвет зарозовел.К борозде бороздуВ чистом поле проведу.Дай Бог, чтоб я все успел…Оровел, оровел!По центральной улице ехал на лошади Ваче, ведя за собою лошадь Гургена, и распевал во всю глотку.
Гурген вышел навстречу.
– Я же тебе велел уезжать!
– Уезжать? Я подумал, что мне без тебя, Гурген, будет скучновато…
– Эх, дурак, дурак, а если б турки?
– Смотрю – тихо в деревне… Да и что мне бояться? Мы, карабахцы, бояться не привыкли – не то, что вы, феллахи…
– Да, только ума у вас немного.
– Эх, Гурген, а что толку в вашем уме? Всю жизнь вы под турками ходили, а над нами, карабахцами, не было, и нет никого, выше нас – только небо! Знаешь, мой дед говорил: тот умнее, у кого пуля быстрее!
– А не пожалеешь, смельчак, что со мною остался?..
Яма (зов мёртвых)
Вино текло в глотки, весело блеяла зурна, выбивали ритм барабаны… Кажется, веселье достигало свей кульминации, когда оно таково, что теряется память, когда само уже оно начинает распадаться, раздираться в клочья: кто-то орал-пел что-то невнятное, кто-то пустился в пляс, кто-то выстрелил в потолок… Кажется, все достигли острова счастья и потеряли память… Так слишком раскрученный камень обрывает веревку и летит черт те куда… Только Гурген в эти моменты вдруг мрачнел. Ему вдруг становились противны эти звуки зурны, – то истерично хохочущей, то истерично плачущей, как распутная девка, эти бессмысленные неузнаваемо искривленные рожи, эти пригорошни пустых глаз… И все черное вдруг наваливалось с такой силой, что трескалось, а в ветвящиеся трещины протекало красное, растекалось…
И тогда он неожиданно бил кулаком по столу так, что подпрыгивали стаканы и бутыли. Шум затихал, взоры обращались к нему.
– Все! – объявлял. – Все! Давайте дудук! Где Гаспар?
Гаспар был здесь, он лишь скромно ждал своего часа. Седоволосый старик с красивым крепким лицом. Он сидел и, не обращая внимания на веселье, то ли думал о чем-то своем, то ли дремал и только поблескивало кованое серебро его кудрей. Теперь он открывал свои темные умные глаза, бережно доставал из чехла свою абрикосовую свирель.
– Тихо! – командовал Гурген, и все замолкали. – Гаспар, дорогой, ты один человек на этом Божьем свете, садись ближе!
Тихо начинал пробовать Гаспар то одну, то другую ноту, находил, тянул, будто откуда-то из глубины чрева матери вселенной сквозь ледяные пространства вытягивалась, прорастала пуповина – долгая и тихая нота, пальцы чуть шевелились на трубке, звуки плавно перетекали один в другой, но не спешили, а плыли, плавные, как абрис армянских гор, и затихала ватага… Дудук будто возвращал те времена, когда они еще не научились убивать. Дудук возвращал дорогие образы матерей, сестер, невест, детей, отцов, братьев, друзей – тех близких, которые уж были навсегда потеряны, но в звуках его не было отчаянья, а было грустное торжество, торжество воскрешенья, и те, воскресшие, смотрели из прошлого сквозь стекло времени, будто улыбаясь и жалея нынешних… Мужчины замолкали: им слышались отзвуки зовущих за общий стол родных голосов – и то, прошлое, за непреодолимым стеклом уже казалось реальнее того, в чем они жили сейчас: залитого вином грязного подвала, табачного дыма под тяжелыми сводами, этих новых сотоварищей, объединенных не любовью, а ненавистью к тем, кто осиротил их души, обесценил всякую Жизнь. А звуки будто вливали снова в опустевшие жилы Жизнь, и память из мертвых ям возносил дудук к небесам, а голоса звали, вопрошали…
И Гурген снова вспоминал, как первый раз врезалась в землю лопата…
Лопата с силой врезалась в землю, и металл скрипнул от мелких камешков на ее пути – а ведь здесь, у церкви, была самая мягкая земля в деревне! Могилу они с Ваче приблизительно расчертили у сельского кладбища с уже расколотыми и разбросанными хачкарами (соседи постарались!). Надо было вырыть две длинные траншеи, подобные тем, какие они рыли на фронте. Траншеи должны были перекрещиваться и образовать один общий на всю деревню крест. Они не думали о времени, они не думали о еде – в садах было полно яблок, абрикосов… Пили воду из родника и там же умывались.
Сняв рубахи, они с Ваче рыли Яму. Останки Гурген таскал на себе, Ваче прикасаться к ним не обязан – он и так неутомимо работал лопатой. А Гурген дал себе клятву, что не уйдет отсюда, покуда не схоронит всех односельчан до последнего. Он приготовил волокуши – две длинные жерди, переплетенные лианами, на которые укладывал кости – по два-три скелета и тянул наверх по тропе. Он привык прикасаться к человеческому праху – костям, остататкам кожи и мышц, к дурнопахнущим комьям слизи, он лишь повязывал себе на лицо платок, когда разбирал останки, но и сам не заметил, что, несмотря на ежедневное по нескольку раз мытье в источнике, пропах смрадом – человек привыкает ко всему! Псы его больше не беспокоили – они лишь издали посматривали на него с опаской, стервятники тоже – все они только ждали пока он уйдет. Но с крысами ему приходилось бороться по-настоящему: наглые, многочисленные и бесстрашные, они вырывали куски гниющей плоти из его рук, кусали. Он бил их палками, но удар редко попадал в цель —твари ловко уворачивались и снова наступали. Поначалу он было пытался приспособить к работе коней, но кони были ездовые, и впрячь их в волокуши стоило труда. Кроме того, они шарахались, почуяв запах смерти, и потому было проще тянуть свой скорбный груз самому.
Что бы он делал без Ваче? Ваче работал как вол, и пока он притаскивал на кладбище свой груз, Ваче успевал как раз прокопать могилу настолько, насколько было необходимо. Гургена удивляло, почему Ваче остался с ним, а не отправился домой – раз он даже напрямую спросил карабахца.
– Э! – усмехнулся Ваче, – да дома меня просто убьют братья Заруи. Затащила меня как-то на сеновал, а тут и они, я думаю, все было подстроено. Ну, говорят, теперь нашу сестру обесчестил: или женись, или мы тебя головой в нужник! Вот я в армию и сбежал! Так что торопиться мне некуда.
Ваче успевал даже присматривать за Вардуи, Вардуи все так же общалась с родственниками, соседями и пела. Раз в день Ваче кормил ее абрикосами с рук, которые та покорно ела, не открывая глаз, и поил водой из родника. Когда ее поили, она иногда открывала глаза, холодно благодарила и снова впадала в транс. С каждым днем она становилась все прозрачнее, воздушнее и будто моложе.
Дни и ночи они не считали – главное было захоронить всех.
Почти на самом дне кучи, когда работа уже близилась к концу, Гурген обнаружил сильно объеденный крысами скелет ребенка четырех-пяти лет. Он приподнял его, чтобы положить на уже не раз обновляемые волокуши, и тут что-то заметил на правой кисти скелета. На том, что оставалось от безымянного пальца, болталось колечко. Косточки отваливались одна от другой, но эта кисть держалась. Гурген присмотрелся: это крохотное серебряное колечко с волнистым узором он подарил своей Нунэ! Сомнений быть не могло – перед ним было то, что оставалось от его дочки. Он сел на камень и некоторое время так сидел, держа в своих руках кисть дочери, больше не обращая внимания на шуршанье подбирающихся крыс.
Осторожно положив останки на волокуши, он, как в полусне, потащил их наверх.
У дома тетушки Вардуи он услышал вдруг ее пенье:
Баю-бай, идут овечки,С черных гор подходят к речке,Милый сон несут для нас,Для твоих, что море глаз,Усыпляют милым сном,Упояют молоком.Гурген остановился и сел, прислонившись спиной к глиняному забору, а Вардуи продолжала петь:
Богоматерь – мать твоя,Сын ее – хранит тебя.В церковь божию пойду,Всех святых я попрошу,Чтоб распятый нас хранилИ тебя благословил.«Чтоб распятый нас хранил и тебя благословил» – бормотал снова и снова Гурген, вытягивая волокуши. Он добрался до кладбища, бормоча и напевая что-то невнятное, и Ваче на него посмотрел с тревогой.
– Дочь моя, – давай похороним отдельно! – попросил Гурген.
Ваче только кивнул и снова взялся за лопату.
Лихорадка
Трижды Ваче закапывал его, но каждый раз только до шеи, зачем-то оставляя голову.
– Ваче, – спрашивал он его, – зачем голову оставляешь? – Я ведь умер!
– Так видеть-то ты должен? – удивлялся Ваче.
Гурген вставал, земля осыпалась, и Ваче снова начинал его закапывать. И снова, когда земля доходила до шеи, Ваче удовлетворенно откладывал лопату и закуривал трубку.
– Ваче, ты еще не закончил, – требовал Гурген, но Ваче будто не слышал.
Потом Ваче куда-то исчез. Появились мрачные работные люди с тачками, заполненными глыбами камня. Они наваливали и наваливали эти глыбы ему на грудь, и дышать становилось все труднее и труднее. Он хотел крикнуть им, чтобы они прекратили, но уже не хватало дыхания не только для крика, но и для шепота. И все же каким-то особым образом, не требующим дыхания, он выкрикнул им, чтобы они остановились.
– А нам-то какое дело, – ответил один из людей, не прерывая работу, – нам бы поскорее закончить!..
Жажда мучила его, а он плыл через море, чувствуя благодатную, но недоступную влагу у самых губ. «Так уж лучше я утону», – подумал он и стал тонуть. Пить и в самом деле хотелось меньше, когда он расслабился и стал медленно опускаться в голубую глубину. Вот и песчаное дно, и сидящая на песке Нунэ играет разноцветными камешками, выкладывает буквы и учит грамоте чудных прекрасных, как радуга, рыб.
Она подняла к нему свое круглое личико и рассмеялась, отчего на тугих щечках появились знакомые ямочки.
– Нунэ! – удивился он, – а я думал, ты на небе!
– А небо – оно ведь везде! – развела ручками Нунэ…
Он стоял посреди собора, привязанный к куполу веревкой, а вокруг ходили монахи в высоких острых капюшонах и что-то бормотали на непонятном языке. Он пытался разглядеть их лица, но никак не мог – вместо лиц была какая-то размытость, пустота.
– Поднимайте же, поднимайте! – кричал он им, а они, будто не слыша, все ходили и ходили вокруг, все бубнили, бубнили… Только кресты на их сутанах светились так ярко, что ломило глаза.
Среди этих видений все чаще и постояннее стало появляться одно, устойчивое – сморщенное лицо доброй ведьмы, чем-то странное знакомое, и слышался ее голос: «Сестра твоя жива, ты слышишь, Гурген, сестра твоя жива!»
И на столике возникал кувшин, который он хватал и пил, пил что-то невкусное, но чудесное…
Потом снова все пропадало, срывалось в сумасшедший поток, где разрывались связи предметные, знакомые слова меняли смысл и места, и это казалось естественным, где его посетила мать с лицом сестры, вопрошающая: «Ты жив, Гурген?», и в этом не было ничего удивительного.
– Как ты себя чувствуешь, Гурген?..
Он открыл глаза и увидел над собой это лицо доброй ведьмы, которое приходило к нему будто в бреду, и кувшин на столе, потянулся к нему.
– Выжил, – радостно кивнула кому-то старушка. – Мертвые звали тебя, но ты не пошел за ними…
Гурген, привстав на ложе, жадно пил – на сей раз это была холодная чистая родниковая вода. Отпив, он снова улегся, устремив взгляд вверх.
Рядом сидел Ваче, опустив ручищи меж колен.
– Не узнаешь? – спросила старушка, – я Гайкануш, двоюродная сестра твоего отца, тетка твоя троюродная. Бог меня спас… Только я не знала для чего, а теперь знаю… Я в пещере жила, боялась возвращаться. Наших убили – всех-всех, а мы с сестрой твоей в лесу находились…
– Гайкануш… – он вспомнил эту одинокую женщину, рано лишившуюся мужа – не успели они оставить потомства. Она редко появлялась у них в деревне, а жила где-то на западе – то ли в Стамбуле, то ли в Смирне.
– А ты семь дней бредил… А теперь гляди-ка – выжил!
– Нет, не выжил, – были его первые слова, – вернулся.
– Ты еще слаб. Ешь сейчас, ешь, – Гайкануш протягивала ему абрикосы, – тебе надо поправиться, а то один скелет остался…
– Где мы? – он удивленно озирался на бугристые каменные своды явно природного происхождения.
– Дома, у меня, в пещере, здесь нас никто не найдет, – тихо рассмеялась Гайкануш. – В деревне оставаться опасно. Твой друг убил турка: мародер из соседней деревни, свою арбу заполнял нашим урожаем. Он был один, но ведь его хватятся и другие придут… А здесь можно пережить зиму до прихода наших и русских…
– А что, сестра моя жива?
– Мы были в лесу, когда все это происходило в деревне, я ее перед рассветом позвала ягоды собирать. Когда увидели аскеров, а за ними повозки – наших соседей турок, то поняли все и бросились бежать. В лесу я ее потеряла.
Что делать? Но недаром я в Смирне 20 лет в турецкой семье прожила, растила детей и убирала по дому, и турецкий язык у меня как родной. А по моей старой физиономии уже сам Господь не определит национальность. Вот я и прикинулась нищенкой, убогой, и стала ходить по деревням турецким, милостыню просить, искала армян, известий о них…
– Что узнала?
– Все-все армяне или убиты, или бежали там где турок прошел. Из армян встретила только несколько несчастных полусумасшедших, бродящих по горам. Приютила одного – парня из Вана. Або его зовут. У него оружие есть, он охотник хороший – вчера кролика подстрелил…
Видела еще священника старого. В церкви старой. Отказался уходить. Он говорил – надо молиться за Армению – только это спасет всех нас. И молится, молится… Святой… Но я тебе больше скажу! Сестра твоя жива и я ее видела и говорила с ней!
– Где она? – Гурген подался вперед.
– Да ты лежи, лежи спокойно, все расскажу… Жива, и ничего ей не угрожает. Однажды я ходила нищенкой по одному турецкому селу. Оно тут – недалеко. Ак-чай. Там услышала как женщины сплетничали, обсуждали муллу, который принял к себе в дом рыжую армянку. Я сразу поняла, что это Анаит! Разузнала о ней потихоньку. В деревне она появилась недавно, живет у сына муллы… говорили, хороший человек. Да и она как хороша! – в деревне на нее заглядывались… Я нашла тот дом, но постучать побоялась. Как узнать Анаит на улице? – все женщины в чадре… И тут Бог меня надоумил пойти к водопаду, откуда женщины воду берут. Там мужчин нет – они лица открывают, воду пьют, умываются… Там я ее и увидела! В турецких шароварах, монисто золотое на ней было… Я выждала, когда она вниз пойдет и одна останется и за ней поспешила, догнала, назвала по имени…
– Ну?
– Мне кажется она испугалась. Узнала меня сразу, о родителях спросила, я ей все сказала… Слезы у нее в глазах появились, но тут появились турчанки. Мы только успели условиться на другой день у водопада. Стала я ждать ее у воды, да турчанки испугались: подумали, что нищенка хочет их воду сглазить и стали гнать меня, чуть камнями не побили. Пришлось мне из той деревни бежать.
Она закончила, а Гурген некоторое время молчал, устремив взгляд в потолок пещеры.
– Значит наложница сына муллы? – переспросил он.
– Да, – подтвердила Гайкануш. – Хоть жива!
– Я убью его, – спокойно пообещал Гурген.
– Вай! Зачем? А может, хорошо ей там? – Золотое монисто на ней было!
Гурген в ярости скрипнул зубами. – Ты, женщина, считаешь, что выжить – это главное? Вы считаете, что я выжил, когда у меня отняли все? Нет, я не выжил, я мертвый остался – только двигаться могу. И сестру мою не подарю им!
Он некоторое время лежал, молча, и вдруг спросил:
– А что с тетушкой Вардуи?
– Умерла, – ответил Ваче, – однажды подхожу к ней, чтобы напоить. Она сидит с закрытыми глазами, улыбается. Тронул – упала. Легкая, как листик. Я схоронил ее рядом с дочкой твоей.
– Счастливая… – вздохнул Гурген. – Ваче?
– А?
– Мы всех схоронили?
– Да.
– Дай руку, брат…
Мусульманский рай
Возможно, Бог и создал это место, чтобы у людей, обитавших здесь, был бы повод его возблагодарить. Деревня Ак-чай была окружена с севера и с востока крутыми живописно-зубчатыми скалами, знойными летними днями они большую часть дня давали деревне тень, а зимой служили надежными стенами, защищающими от жестких северных и восточных ветров. Стекающая с северных гор речка за века нанесла в эту долину из высокогорных лесов ил, и почва была здесь на удивление плодородна. Речка спадала каскадами в озеро, служащее водопоем для домашней скотины. Лошади, козы и коровы наслаждались здесь тенью и теплом, овцы подолгу с удивлением смотрели на собственные отражения, натрудившиеся за день широкорогие волы дремали, разлегшись прямо у воды.