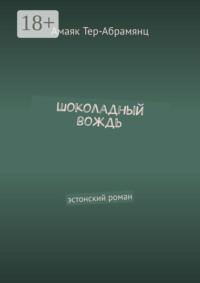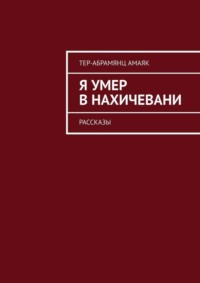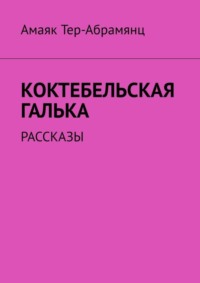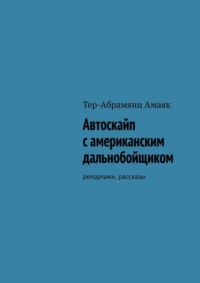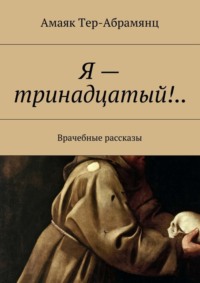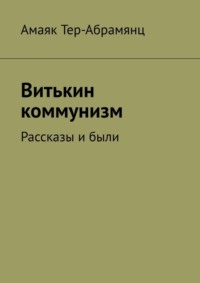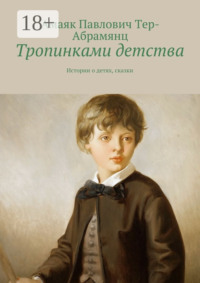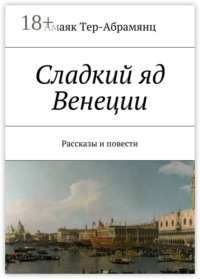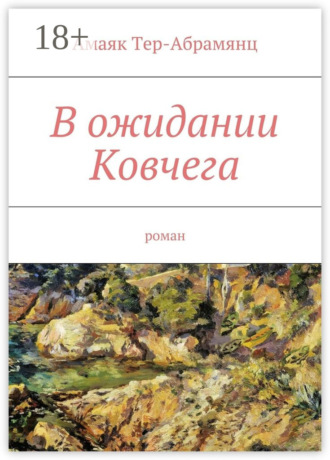
Полная версия
В ожидании Ковчега. Роман
И Гурген, когда начинал пить вместе со всеми, поначалу веселел, казалось, еще немного, и мир превратится из черно-белого в цветной, каким он был «ДО ТОГО», и что он пережил и перевидал, покажется полусном, который можно забыть, как забывается дурной кошмар, когда встряхнешь поутру головой и умоешь лицо ключевой студеной водой. Но то была лишь временная иллюзия, и с новой чаркой вдруг начавшие выламываться откуда-то куски прошлого становились реальнее всей этой окружающей его шутовской свистопляски. Он пил, чтобы забыться, дать душе утонуть, топил прошлое волнами алкоголя, а оно снова всплывало, совсем не цветное, а черное по преимуществу, с растекающимися по черному фону багровыми и красными ветвями… И багрового, алого становилось все больше, оно затопляло все, и лишь тогда он будто в яму проваливался.
Гриднев
Начиная с 1914 года, когда разразилась Мировая Война, дела России на Кавказском фронте обстояли гораздо лучше, чем на Германском: русские части успешно наступали и эмиссары правительства Турции обратились к армянам с предложением поднять восстание в тылу русских войск. Они обратились к тем, кого сотни лет угнетали, грабили, убивали – не считали за людей. Армяне ответили твердым отказом. С Россией они связывали свои надежды на свободу, жизнь, человеческое будущее.
И тогда c 1915 года на территории западной Армении, а далее и везде, куда только достигали турецкие аскеры и их союзники кавказские татары, началось то, что армяне назвали Метц Ехерн – великим злодеянием, большой резней или Цехоспанутюн – уничтожение нации, а в 1944 году, после трагедии европейского еврейства, Шоа – катастрофы, Холокоста – всесожжения, получило более понятный европейцу юридически-научно звучащий термин, происходящий из латинских корней: геноцид – физическое уничтожение народа по единственному признаку – национальному.
Метц Ехерн взломал армянскую историю на «до» и «после», оставив навсегда глубочайшую травму в национальном самосознании армян.
Организованное младотурецким правительством планомерное и систематическое уничтожение армянского населения дало возможность проявиться всему низменному и лживому, что было в человеческой натуре. Но турки уничтожали армян не хладнокровно безжалостно, шизофренически последовательно и аккуратно, как это делали с евреями позже немцы, а с азиатской горячечностью, наслаждением и большой выдумкой. Пустить пулю в звтылок, повесить, заколоть штыком – это слишком просто. Вот отрезать голову, облить керосином и сжечь заживо, женщину изнасиловать на глазах собственного связанного мужа и детей, отрезать половой член и затолкать в рот жертве… – да всех «веселых» задумок восточного человека и не перечислишь! Странно – та рука, которая разбивала голову прикладом армянскому младенцу потом ласкала и гладила голову собственного ребенка!..
Конечно, часть солдат просто выполняла приказы без всякого удовольствия, а были даже среди турок те, немногие, которые укрывали армян, рискуя собственным благополучием и даже жизнью. Те, история о которых еще не написании (да и вряд ли будет написана), но деяния которых все еще позволяют сохранить какую-то надежду на человечество.
За годы войны, во время наступления русской армии, в которую он был призван, Гурген навидался последствий Метц Ехерна – сожженные армянские деревни, распятые мужчины с отрезанными половыми органами, отсечённые головы на древках, изнасилованные женщины с закоченевшими раздвинутыми ногами и перерезанным горлом, изуродованные трупы детей, стариков и старух, объедаемые голодными псами. Он и другие армяне, служащие в кавказском корпусе повидали это! Они видели истощенных беженцев, рассказывающих вещи невообразимые, творимые турецкими аскерами… безумных женщин, упрямо несущих мертвых детей… И сердца Гургена и его товарищей вновь и вновь наливались ненавистью к тем, кто губил его народ, а иные каменели, немели в запредельном безразличии и такие живые мертвецы были уже подобны заводным куклам… Но русская армия наступала, и это вселяло в армян надежду.
Но в 17 году, после того как в России произошла революция и «белый царь» был низвергнут, победоносный Кавказский фронт остановился. Обессиленные турки тоже не рвались в атаку, и фронт стоял месяц за месяцем, не двигаясь ни в ту, ни в другую сторону – боевые действия практически прекратились.
В русских частях, как в Европе, так и на Кавказе началось и набирало силу невиданное демократическое движение: солдаты сами выбирали командиров! А неугодных офицеров изгоняли или поднимали на штыки! И любой приказ офицеры теперь должны были согласовывать с комитетами советов солдатских депутатов.
На бочку перед толпой солдат вылез коренастый, известный всем горлопан Васька Дундуков.
– Хорош, братва! – орал Дундуков. – Теперича наша власть! Революция! Свобода! Воля! Мы, солдаты, вольны командиров выбирать: кого захотим – того и поставим. А прежних, царских – долой! Вон наш поручик Гриднев, ****ина, плакал-то, когда царя-батюшку тю-тю… Надыть его тю-тю… менять! Предлагаю, братцы, себя! Я ль с вами вместе из одного котелка не хлебал? Я ль с вами в атаку не ходил, я ль в окопах с вами вшей не кормил? Кто как не я, братцы, нашу нужду солдатскую знает?
А перво-наперво, какая нам нужда воевать? Нас царь-батюшка сюда прислал, а теперь и Керенский тож толкает: воюй!.. А то, братцы, не наша война – то царская, я вам скажу!
Толпа одобрительно гудела.
– И чего мы в энтих горах не видали? На кой ляд они нам? У нас дома в Расее женки с детушками, землица не пахана! Я так скажу: турка тоже человек! Турка тоже воевать не хочет! У него тоже детушки, и свои богатеи его воевать шлют. Вот с германского фронта кореша писали – с немцем тама братаются – винтяры в землю, выйдут наши и они на полосу, и давай на гармошках – кто кого!.. Вот и нам с турком так надо брататься – мы на гармошке – они на дуде!.. И пусть в Россию, домой отправляют! Такая наша воля!
– Домой! – радостно заревела толпа. – В Россию!.. Хватит!
Небольшая группа солдат-армян стояла поодаль и мрачно слушала.
– Пошли к поручику! – махнул рукой Гурген после последних слов оратора, и группа зашагала прочь.
Поручик Гриднев сидел у себя в комнатке за столом в нижней рубахе, в галифе и босой. На столе стояла початая бутыль самогона и стакан. Он перебирал струны гитары и тихо напевал глубоким с хрипотцой голосом:
Утро туманное, утро седое,Нивы печальные, снегом покрытые…Нехотя вспомнишь и время былое…В дверь постучали.
– Заходи! – рявкнул Гриднев.
Несколько человек, топая сапогами, вошли и стали у стола.
– А-а, – сказал Гриднев, не поднимая головы от гитары. – Депутаты?
– Нэт, мы армяне! – сказал один из вошедших.
– А-а, – Гриднев, наконец, поднял глаза от гитары на солдат. – Тоже себе начальника выбрали?
– Нет, – сказал вышедший вперед Гурген. – Господин офицер, там Дундукова ротным выбирают, мы ему подчиняться не будем: пусть сам с турками целуется…
– Чего ж вы от меня хотите? – с некоторым интересом и недоумением взглянул на гостей Гриднев.
– Господин поручик! Мы только вам подчиняться хотим!
Гриднев усмехнулся:
– Трогательно… трогательно, конечно… Ну, я вас понимаю… Мы уйдем – вам лихо придется! Но… – он неожиданно взял на гитаре аккорд, – не получится!
– Почему?
– Солдаты домой хотят, и понять их можно… А потому они дундуковых будут слушать, а не меня! Да о чем разговор, братцы армяне! Сам Керенский бессилен против этих «депутатов», а вы хотите, чтобы Гриднев все изменил! Социалистов развелось! – добавил он зло, уже себе.
– Мы все равно не будем под Дундуковым! – упрямо заявил Гурген.
– Ну не будьте, а что я могу сделать?
– Ваше благородие! – заявил Гурген по дореволюционной форме, и Гриднев почувствовал, как несимпатична революция этим людям. – Из моей деревни вестей уже месяца два нет. Дайте отпуск!
– А где твоя деревня?
Гурген назвал район. Район был непонятный, горный, без четкой линии фронта. Точнее, не было там крупных воинских частей ни с той, ни с другой стороны.
– А давай я вам всем отпуск дам – пока я еще командир! – вдруг повеселел Гриднев. – Езжайте-ка по домам на недельку-две, а там, говорят в штабе, и армянский корпус будут формировать!
Он достал листы, ручку, чернила и принялся писать.
А на прощанье растрогался и подарил Гургену отличный цейсовский бинокль.
– Ты хорошим солдатом, Гурген, был, недаром Георгия носишь, бери! И вспоминай иногда поручика Гриднева! И быстро к полковнику за печатью!
Куколка
У знакомого поворота дороги на деревню Гурген и Ваче из Карабага придержали коней.
Ваче был добродушный и послушный детина и охотно позволял Гургену собою командовать. Они были из одной роты, и Ваче по непонятным причинам увязался за Гургеном.
– Стой! – тихо скомандовал Гурген, поднимая руку: нехорошие предчувствия теснили ему грудь. Он усмехнулся, подумав, что вот его деревня, а он, как вор, боится в нее войти. Однако все виденное за последние месяцы заставляло быть крайне осторожным и ожидать только худшего.
Раздобыв лошадей, больше недели они ехали по прифронтовой полосе, больше напоминавшей пустыню, проходя разоренные и сожженные армянские села – свежие знаки Великой Беды. В некоторые начали было возвращаться беженцы: истощенные, они бродили, как пугливые тени среди развалин. Мужчины воевали на фронтах, подчас совсем не на Кавказе, а в какой-нибудь Галиции. Старики, женщины, дети жили в страхе перед ночными набегами курдов или турок, деревни которых были русскими войсками в общем-то нетронуты, полны мужчин, которых, как мусульман, не мобилизовывали в русскую армию – эти села Гурген и Ваче обходили…
На краю кизилового леса они привязали лошадей.
– Жди меня здесь до заката, если не вернусь – ночью уходи, – распорядился Гурген. Шашку он оставил, подвязав к луке седла, и взял с собой из оружия только маузер, предварительно проверив исправность, наличие патронов в магазине, пощелкал предохранителем… Затем, сдвинув папаху на затылок, двинулся по дороге.
На поле, справа от дороги, дозревали колосья хлебов. В это время обычно начиналась жатва с песнями, трудом от зари до зари, но на поле не было ни одного человека, в лесу не перекликались собирающие ягоды и сучья женщины, и это был дурной знак. Гурген сошел с дороги, стал пробираться по ее краю вдоль кустарника, но это ему быстро надоело, и он решил пойти напрямик – срезать дорогу, перейдя отрог, за которым и должна сразу открыться деревня.
Гурген вышел на голое безлесное плечо отрога. Медленно и тяжело поднимался солдат в папахе с георгиевским крестиком на груди, с маузером в руке. Оглушительно верещали цикады. Он шел по выжженной солнцем колючей траве склона с рассеянными тут и там белыми камнями, на которых грелись черные змеи – почуяв человечьи шаги, они быстро исчезали в невидимых щелях – шел к синеющему над гребнем небу, и сердце бухало тяжко, будто орудие прямой наводкой.
Вот глаза его уже на уровне, разделяющем небо и сушу, еще шаг —выступили знакомые с детства силуэты дальних гор, еще пара шагов, земля отступила вниз – перед ним открылась котловина с деревней…
Гурген остановился, чувствуя, как холодеет спина. Вся деревня как на ладони. Нет, она была цела – ни пожарищ, ни разрушений… вот хижина пастуха, церквушка на холме… Дом его – стены его дома белеют за чинарой!.. Но ни звука, ни движения! Ни дымка над очагами, ни мычанья волов, ни звона церковного колокола… Подняв бинокль, он стал рассматривать улицы: ни человека, ни собаки… Что ж, возможно, это и к лучшему, если жители успели покинуть деревню до прихода турок!.. Однако тревога не оставляла его. Гурген рванул ворот, обнажив волосатую грудь, глубоко вдохнул и, как в омут погружаясь, зашагал вниз.
Он шел по улице мимо глиняных заборов, саманных домиков, вспоминая тех, кто в них жил, шел к отчему дому – в этом хмурый пастух Каро, в этом пекшая самый вкусный в деревне лаваш толстая хохотушка Тигрануи… стекла окон мертво смотрели на него, некоторые были разбиты… Многие ворота распахнуты, будто через них только-только телега или всадник проезжали. Густые сады с ветвями, клонящимися к земле от тяжести желто-красных яблок, айвы, хурмы и абрикосов на ветвях, будто гостеприимно пригашали войти путника…
Вот и знакомая огромная чинара посреди центральной площади, под которой собирался деревенский сход и принимались все важнейшие для деревни решения, будь то распределение воды по участкам, проведение сельских работ, отправка в армию или на строительные работы молодежи или еще что-либо. Так в первые годы войны большая часть молодежи и мужчин была мобилизована в русскую армию, и среди них был Гурген. Мужчин в деревне оставалось совсем немного – никто и не думал, что русская армия оставит эти приграничные края, что Великая Катастрофа 15-ого года докатится и сюда, потому что все знали, даже турки, что русские – непобедимы!. Кроме того, неподалеку расположился небольшой казачий разъезд, охранявший деревню от набегов курдских банд.
Но вот и белые стены отчего дома под бурой черепичной крышей. Так же, как и у соседей, открыты ворота… Горло сжало, и Гурген шагнул в сад… Когда он уходил, здесь оставались отец, мать, жена с трехлетней дочкой Нунэ. Старшего брата уже не было – с братом они рассорились давно, за год до того, как Гурген ушел на фронт, и тот уехал на север.
Он быстро прошел в сад, поднялся на крыльцо и толкнул дверь – она оказалась не заперта. В комнатах его встретило запустение и картины полного разгрома – здесь уже хорошо поработали мародеры: стены, некогда покрытые коврами, были оголены, отсутствовали, конечно, привезенные когда-то отцом из России часы с кукушкой, мебели не было, под ногами скрипели осколки кувшинов, глиняной посуды. В некоторых местах пол был разворочен, стены пробиты – очевидно, искали тайники с золотом и деньгами. Он пытался обнаружить хоть один дорогой его памяти предмет, но ничего не находил. Лишь в самой большой комнате сохранился длинный с выбитыми досками стол, за которым когда-то обедала вся семья.
В углу комнаты что-то серое шевельнулось. Он поднял глаза и увидел стоящую на задних лапах крысу, внимательно смотрящую не него наглыми желтыми глазами. Он наклонился, чтобы поднять глиняный осколок и швырнуть в нее – крыса моментально исчезла. Однако вместо осколка он нащупал какую-то деревяшку и пальцы ощутили некие формы. Поднял ее к глазам, и сердце замерло: да ведь это была та самая куколка, которую он выточил своей дочери, когда год назад приезжал домой в недельный отпуск, данный за то, что он вынес на себе из-под огня раненного адъютанта генерала Юденича!
Дочка уже подросла, была живая и лёгкая, как солнечный зайчик, круглолица. По утрам она забиралась на широкую волосатую грудь отца и весело щебетала, дёргала за бороду, а он притворно рычал, делал страшные глаза, и она, восторженно визжа, убегала в соседнюю комнату, подглядывала лукаво из-за дверного косяка за отцом и весело хохотала, когда он снова делал страшные глаза. А сердце его переполнялось ранее неведомым счастливым теплом. И казалось странным, невозможным существование одновременное на одной земле двух миров: этого райского, затопленного любовью, и того, фронтового, с его окопами, грязью, вшами, смертью и беспощадной ненавистью… Долгожданная, желанная была Нунэ: целых семь лет Бог им не давал с женой дитя, Астхиг обошла все ближние и дальние храмы, святые места, вымаливая ребёнка, и лишь на восьмой год Господь смилостивился.
Он вытачивал эту куколку из деревянного брусочка целый день – головка, руки, опущенные вдоль тела… Снял дерево, и получились надбровные дуги, щеки, острием ножа выточил глаза, а между ними что-то вроде носа, сделал насечку рта, вырезал на платье пояс и даже крестообразный орнамент на нем… На голове куколки оставалось нечто вроде шапочки, которую носят армянские женщины. Жена, Астхиг, прорисовала углем брови и глаза, рот смазала гранатовым соком, к шапочке прилепила вуальку, а платье выкрасила зеленым травянистым отваром.
Вот было счастье для маленькой Нунэ, лишенной игрушек, которые были у богатых! Она сразу назвала куколку своей дочкой, маленькой Нунэ и таскала ее с собой повсюду, украшая ее цветами, напевая ей песенки, кормила вместе с собою, даже во сне не расставалась с ней, беря в кроватку, и требовала от родителей всерьез признавать в ней свою дочку или сестренку.
Гурген держал в руках куколку, и воздух остекленел – дыхание перехватило. Это значит, бегство было слишком стремительным, и она даже не успела взять ее с собой… или… думать дальше не хотелось. Он сунул куколку себе за пазуху. Теперь его в этом доме ничего не держало. Он вышел на крыльцо и, глядя на изобильный, так и не дождавшийся садовника сад, вздохнул.
Посреди – гордость сада – черное доброе абрикосовое дерево, под которым на обрубках пеньков перед крошечным столиком так часто вечерами собиралась семья. На столик выставлялись плоды, чай, для мужчин кувшин с вином. Здесь и произошел жесткий спор со старшим братом Петросом во время его последнего приезда с Севера, когда они чуть было не подрались и поклялись никогда в жизни больше не встречаться.
Петрос был старший брат и, в отличие от Гургена, считался «умным», надеждой семьи. Он хорошо учился в приходской школе, и его отправили к родственникам в Россию продолжить образование, а Гурген остался дома землю пахать, в горах охотиться да пасти овечьи отары вместе с пастухом Каро. После окончания русского реального училища Петрос не вернулся и несколько лет прожил в Баку и Тифлисе… Много чужого ума там понабрался, а Гурген с детства мечтал стать фидаином.4
И вот Петрос стал насмехаться над братом, мол, фидаины – все это романтическая чушь, а главное – мировая революция – главное уничтожить всех богатых, поделить их добро, и всем беднякам объединиться в мировую бедняцкую державу, где будет все по справедливости и где все равно какой ты нации.
– Но если нас, армян, сейчас убивают, мы ведь и не успеем дожить до твоей мировой революции? – спросил Гурген.
– Надо сражаться не против турок, а против богатых, – упрямо твердил брат. – на другое силы не растрачивать!
– Это на что сил не растрачивать? – взорвался Гурген. – На защиту Армении?
– А если центральный комитет решит, то и так! – жестко отрезал брат. – Какая разница? Наций все равно в будущем не будет!
– Ах, центральный комитет? А это он тебя вырастил? Это он выкормил?
– Я родителей давно в Тифлис зову, там есть, где жить – возражал Петрос.
– Сын мой, – сказала мать, привлеченная громкими голосами мужчин. – Я тебе не раз говорила, мы с отцом отсюда никуда не поедем: здесь могилы наших предков, здесь и нас похоронят…
– Разве можно жить ради могил? – удивился Петрос.
– Ради чести, ради чести надо жить! – закричал Гурген, вскочив, чувствуя, как наивно звучат его слова, и от этого еще более злясь.
– Ну и глуп же ты, – спокойно усмехнулся брат. – люди живут ради счастья! А мы, революционеры, им это счастье дадим! И такие упрямые ишаки, как ты, нам это сделать не помешают!
– Шакал! Ну ты и шакал! – только выдохнул Гурген, он верил, что в тысячу раз более прав, чем его лощеный, выученный в чужих краях братец, в премудрых словах которого скользила ложь, но ухватить ее он не мог. Он только вскочил и вцепился в грудки Петросу.
Тут он и оторвал ворот пиджака братниного городского костюма, пока их не растащили мать и прибежавший на шум отец. Казалось, брата больше всего оскорбило именно это – оторванный воротник.
– Мелкобуржуазный прихвостень! – брезгливо сказал он, стараясь приладить вновь к пиджаку оторванный ворот.
– Петросик, Петросик, не волнуйся, – успокаивала его мать, – я тебе до завтра подошью…
– Ты мне не брат больше, не брат, клянусь! – кричал Гурген, уходя.
На следующий день Гурген проснулся рано, и отправился в сарай точить косу, и только слышал, как брат выходил из ворот, а мать что-то говорила ему вслед: что-то просительное, ласковое, а он недовольно отвечал. Больше о нем Гурген ничего не слышал.
Гурген вышел на улицу. Судьба брата уже давно его не беспокоила. Он думал лишь о дочке, о матери, жене, отце, сестре. Что же случилось с ними? Он брел по улице, оглядываясь, будто ища ответа, но не находил. Окна домов безмолвно смотрели на него.
Песенки тётушки Вардуи
Неожиданно он услышал голос. Какая-то женщина пела. Зашагав на голос, он очутился у раскрытых ворот в сад. Он сразу узнал, чьи эти дом и сад. Женщина пела на армянском.
Из воды возник алый тростник,Из горла его дым возник,Из того огня младенец возник,И были его власы из огня,Была у него брада из огня,И, как солнце, был прекрасен лик.Голос перестал петь и будто начал с кем-то говорить.
Гурген вошел в сад. Здесь жила тетушка Вардуи, известная на всю округу ведунья и повитуха. Тетушка Вардуи собирала в горах лишь ей известные травы, варила настои, лечила от всех болезней, принимала роды, предсказывала судьбу.
Пройдя мимо гнущихся от обилия красных плодов яблонь, он отвел тяжелые ветви и увидел тетушку Вардуи.
Женщина сидела посреди сада с закрытыми глазами, на стуле с прямой спинкой, и с кем-то разговаривала. Было ей лет пятьдесят, но выглядела она сейчас по сравнению с той, какой он ее видел в последний раз, странно помолодевшей: морщины разгладились, кожа будто сияла.
Гурген оглянулся, но больше никого, к своему удивлению, не увидел.
А тетушка Вардуи, не открывая глаз, продолжала говорить.
– Ну, Рубик, вкусную я тебе кашку приготовила?.. Ай, Рубик, ай озорник! Ну зачем ты опять молоко пролил? Ну вот я маме скажу, я маме скажу, что бабушку не слушаешь. Что смеешься?.. – Не боишься маму?.. Ни маму, ни бабушку?.. Почему?.. Потому что ты хороший? Потому что тебя любят? Ах, проказник! И как ты догадался! Как догадался!..
– Тетушка Вардуи, тетушка Вардуи! – хрипло позвал Гурген и шагнул к женщине.
Вардуи открыла глаза, улыбка сразу исчезла с ее лица, известные на всю деревню голубые глаза смотрели на Гургена строго и недоброжелательно.
– Это я, Гурген, сын Петроса-каменщика! Тетушка Вардуи, вы узнаете меня?
– Конечно, я узнала тебя, Гурген, несчастье твоего отца! Я принимала родственников, кормила Рубика, а ты позвал меня в свой сон. Твой сон плохой, нехороший. Я хочу в свой сон, а ты мне только мешаешь. Ты невоспитанный мальчик и всегда был таким. О, бедный, бедный твой отец!
– Где они, где деревня?! – вскричал Гурген, сжимая кулаки, – Где моя дочь? Сестра? Жена?.. Где мать?
Вардуи снова холодно взглянула на него.
– Какой невоспитанный! – Они все ушли в сад…
– В сад? В какой сад?
– А то ты не знаешь, ушли в сад и о делах забыли! Вся деревня! Им бы только петь, танцевать! А кто будет хлеб убирать, виноград? Абрикосы? На зиму заготовки делать? А им бы только веселиться! Иди, Гурген, иди и позови их наконец а мне пора к родственникам, а то они обидятся и уйдут!
Оставив безумную, Гурген вышел на улицу: если она говорила о саде, то это скорее всего большой сельский яблоневый сад на утесе, где обычно все собирались после трудового дня полюбоваться на закат над горами, отдохнуть, пообщаться, обсудить новости. Старики сидели там и днями в тени яблонь, покуривая трубки, попивая холодное вино, заедая завернутой в лаваш брынзой, пили родниковую воду, которую им приносили женщины и дети снизу. Там, между садом и обрывом, была большая площадка, на которой справляли свадьбы, вечерами дефилировали компании молодежи (юноши и девушки отдельно!).. А если на закате перед обрывом появлялись юноша и девушка, взявшиеся за руки, то это означало для всей деревни известие об очередной помолвке.
Гурген двинулся к краю села. Еще некоторое время до него доносилась песня Вардуи, слов в которой уже нельзя было разобрать.
Песня затихла, и Гурген вступил в сад.
Ветви гнулись от красно-золотых яблок, и он то и дело наступал на опавшие, начавшие подгнивать плоды. В тишине послышался звук упавшего на землю дозревшего яблока —шлеп…
Там, где заканчивался сад, открывалась площадка перед обрывом. Все здесь было знакомо с детства: каменные скамьи, на которых восседали старики, зубообразный камень у обрыва, у которого когда-то стоял он со своей невестой Астхиг… вытоптанная поляна, уже, однако, слегка поросшая рыжей колючей травой, мягкие голубые линии отдаленных гор, за которые сколько раз заходило солнце – и сегодня зайдет!.. В этом месте, в этом пейзаже было что-то тихое, умиротворяющее – потому и полюбилось оно не одному поколению селян. Старики философствовали, молодежь шутила и смеялась, люди зрелые по тому, как садится солнце, пытались угадать погоду на завтра, беседовали о хозяйстве и семьях.
Но теперь в этой тишине не было тепла отдохновения после нелегких дневных трудов, в ней тянуло непривычным холодком вечности, вызывающим невольный озноб.