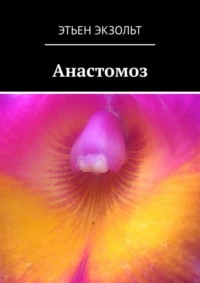Полная версия
Богиня бессильных
Усевшись на полу, перебирая их, выставляя те, представления о чьем содержимом казались наиболее многообещающими, я вспоминал счастливые дни, когда мне удавалось, наконец, после долгих поисков, жалобных уговоров и значительных денежных трат, заполучить вожделенные записи и я торопился домой, предвкушая удовольствие, каким обязаны были стать они для меня.
Одна из пирамидок не имела на себе наклейки.
Само по себе это не показалось мне странным. Бумага могла отклеиться со временем. Но я всегда приобретал носители только одной фирмы. Считалось, и мнение то подтверждалось большинством знакомых мне профессионалов, что именно «Масано – Кривьер» производила самые надежные пирамидальные носители, выдерживавшие до пятисот тысяч циклов перезаписи, имеющие органические компоненты, менее всего подверженные мутациям и подвижные части, изготовленные из композитных материалов, применяемых в шаманском деле. Стоимость пирамидок той фирмы была столь высока, что вместо одной из них я мог бы купить не меньше трех, изготовляемых конкурентами. Но ценность записей превосходила для меня все прочее и я не экономил на носителях даже в юности, когда покупал их на карманные деньги и только посмеивался, выслушивая моих одноклассников, прибегавших ко мне с просьбой снова переписать особо приглянувшееся им анальное совокупление Клары Дюболь или скользящие по демоническому члены губы Амолы Шарвье.
На основании пирамидки я рассмотрел изогнутый силуэт императорской кобры с близорукими буквами под ней. Но мне было достаточно и пышногривой змеи, чтобы опознать непереносимую мерзость. То была пирамидка «Ультрафона», одно только прикосновение к которой превращало меня в еретического безумца. Никогда в жизни я не позволил бы себе купить подобную непристойную дешевку. Глядя на нее, я чувствовал, как под пластиковым корпусом все в ней гниет, ржавеет, растворяется, покрывается усидчивым грибком, уничтожая информацию, превращая ее в череду растерянных кадров, смешение губительных помех. Не помнил я и чтобы кто-то приносил мне такой носитель. Невнимательная к деталям и мелочам, моя жена могла купить ненадежную пирамидку, а потом швырнуть в коробку, беспорядком своим создававшую иллюзию незначительности хранимого ею.
Поставив таинственную пирамидку к трем уже выбранным мной, я счел их заполняющими все мои намерения. Обратный путь оказался более трудным. Сжимая в каждой руке по две пирамиды, царапая ладони о их углы и края, я пробирался в залу втрое большее время.
В пародийном ритуальном падении опустившись на колени перед проигрывателем, затаившимся в его логове под телевизором, я обхватил его обеими руками и аккуратно потянул на себя. Цепляясь резиновыми лапками за гладкое дерево, он нехотя, поскуливая, поддался мне, являя запыленное свое тело, недовольный причиненным беспокойством.
Слишком долго пребывал он в бездеятельном отречении. Дважды пришлось мне нажимать на круглый стальной выступ в левом пределе передней панели, прежде чем устройство очнулось, недовольно заворчало, поворачивая скрипучие внутренности свои. В глубине его что-то задрожало, со все нарастающим тонким свистом ускорилось вращение незримых частей, невнятный гул колдовским шепотом поднялся, сотрясая пыль на верхней крышке, блеклые зеленые цифры выплыли из темных глубин экрана, устроившегося в брезгливом отдалении от кнопки включения, обрамленные загадочными рунами символов и пиктограмм, значения которых я не помнил. Прикосновением к кнопке выброса я произвел во внутренностях устройства новое движение и результатом того бессвязного брожения, спазматического нетерпения, упоительного недержания, стал щелчок, извергнувший ко мне часть того аппарата, прикрытую до этого услужливо поднявшейся дверцей, несшей на себе эмблему изготовившей той устройство компании. В пластике, украшенном жесткосердными броненосцами, имелось углубление, в которое с мягким стуком упала безымянная пирамидка. Повторное нажатие на овальную кнопку втянуло выдвинувшееся обратно. Как только опустилось, скрывая за собой пирамидку, черное, татуированное длинноязыким паразитарным цветком лезвие, проигрыватель наполнился движением и шумом. Утроба его, пригодная только для воспроизведения, издавала подземные щелчки, глумливый рокот, шуршащие возгласы ускорения, булькающие восторги усваиваемой информации и так продолжалось некоторое время, пока все они не слились, как было у них принято, в ровный, пульсирующий, шероховатый, увлажненный фосфоресцирующими мечтаниями гул. Внутренности машины той, насыщаясь содержимым пирамиды, распечатывали экстренные резервуары миражей, открывали сейфы галлюцинаций, вспарывали гнойники сновидений, придавая им вид случившегося в действительности, превращая их во всевидящее, общепризнанное, многократно повторяемое, неизменное, вязкое уныние прошлого, в самую худшую его, объективную разновидность, одинаково заметную каждому, кто сможет или удосужится просмотреть. В своих поисках незаметных драгоценностей, утомительных, уродливых редкостей, я преследовал отнюдь не желание выделиться среди прочих, не был ведом бесприютной гордыней, как наивно полагали даже многие из давних моих знакомых, но стремился обрести уверенность в допустимости исходящего извне личного, то есть всего притворявшегося моими видениями и все же имевшего доказательства своего существования, обнаруживаемые во всеобщем восприятии, в изданных вымирающим тиражом монографиях, специализированных энциклопедиях, каталогах того, что никто не надеется увидеть.
Запись была сделана на камеру низкой восприимчивости.
Такими короткими волосы моей жены были за несколько лет до нашей встречи.
Улыбаясь яркими губами, совсем маленькими тогда, не распухшими еще от регулярного присутствия между ними моего члена, она, обнаженная, смотрела прямо на объектив, чуть сощурив глаза и левый косил немного больше, не познав еще исправляющего вмешательства. Намного позже оргазменное напряжение совершит то, чего не смогли сделать ни врачи, ни шаманы, почти поставит его на полагавшееся ему место. Сочетание недоверчиво – любопытного взгляда и кокетливо – игривой улыбки, вместе с угадывавшимся в девушке лихорадочным напряжением, бродившим под ее кожей невидимыми фрактальными демонами, производило впечатление существа, одурманенного собственной плотью. Само ее присутствие в качестве определимого воплощения восхищало ее, не говоря уже о всех предоставляемых тем фактом возможностях. Сменив улыбку на нечто сосредоточенно-неподвижное, она произнесла несколько слов, чуть изменив направление взгляда, обращаясь к находящимся за пределами видимого. Мгновение радости, достойной ребенка, получившего обещание невозможного подарка, позволило ей обрести расслабленную уверенность и она упала назад, повалилась на спину как пустая бутылка, готовящаяся разбрасывать поцелуи. Одновременно вскидывая обе вытянутые ноги, обнаруживая свою оранжевую наготу, она радостно смеялась, выставляя на обозрение лобок с аккуратной полоской присыпанных серебристыми искрами волос. Разведя в стороны дрожащие ноги, она согнула их, приподнялась на локтях, взирая на неведомых присутствовавших с игривой заносчивостью, с упрямой дерзостью подростка, вознамерившегося во что бы то ни стало повторить содеянное всеми уже приятелями его. Последовал очередной торопливый обмен фразами, смущенно опустивший глаза Ирины и движения губ ее, неуверенные, неточные, сомневающиеся в правильности выпускаемых ими звуков, сопутствовали той уступчивой скромности, а пальцы ног ее сгибались и выпрямлялись, неподвластные ей, выдающие буйное ее нетерпение. Тряхнув головой еще раз, она совершила резкое движение, выбросила вверх сошедшиеся, выпрямившиеся ноги, тяжело продавила кровать и, едва не завалившись на бок, перекувырнулась, оказавшись в результате того растрепавшего волосы пируэта сидящей на коленях, сминая жемчужный шелк простыни. Мне она говорила, что никогда не умела и не могла кувыркаться. Сдув ткнувшиеся изогнутым острием в подбородок волосы с левого глаза, отведя за ухо самую непоседливую прядь, она махнула рукой тому, кто производил ту запись, метнула огненным заклинанием недовольное вспыльчивое слово, обжегшее ее губы так, что ей пришлось прикусить нижнюю, одной болью заменяя другую. На несколько секунд экран увлекся безутешной темнотой, а затем я увидел свою жену, сжимающую губами мужской член подобно тилацину, заглатывающему овцу. Расположившись возле правого бока мужчины, она стояла на четвереньках, правую руку положив поперек волосатых ног, щепоткой пальцев ее касаясь разбухших, вылепленных с волнующей неаккуратностью тестикул, левой же придерживая у основания член, вздымавшейся покосившейся башней похотливого колдуна, сохраняя вертикальное положение его для удобства обращения. Величие того вознесения смутило меня, превосходя доступное мне. Возносясь над вытянувшей из себя черные ростки пустыней выбритого лобка, оно покачивалось в осторожном сжатии, приоткрыв обсерваторию на округлой вершине своей, сквозь темную прореху в которой должны были заметны все светила наслаждения, все оргазменные вспышки и темные течения похоти. Недостатки записывающего устройства, неспособность справиться со слабым светом или непонятным привкусом его привели к тому, что все воспроизводимое обрело желтовато-оранжевый тигровый оттенок, придававший ему ощущение намеренного уклонения от точности, стремления к приукрашенному смягчению, искаженному изяществу. Кожа девушки приобретала от того вид загорелой и лоснящейся бесстыдным золотом, c волосами забавлялся желтоватый угромый оттенок, в фиолетовые веки вгрызалась искристая темнота, а любая тень вбирала в себя непритязательную, дешевую, акулью глубину. Протянувшаяся из-за пределов экрана рука, тонкая и покрытая запутавшимися в волосках шрамами, приподняла волосы Ирины и осталась на ее голове, придерживая их, не позволяя им закрывать профиль ее, искажаемый производимым ею действом. Обхватив губами темное навершие, она медленно низвергалась на упрямую твердыню, вынуждая ее исчезнуть во влажном небытии. Струйка слюны текла по левому краю напрягшейся плоти, ртутным блеском переползая через придерживающие ее девичьи пальцы, глаза Ирины то опускали веки, отчего проявлялась во всей своей вязкой черноте длина ее ресниц, почитаемых многими накладными, то оставались открытыми и тогда ее взгляд обретал пророческую неподвижность, наблюдая сцены неотвратимого безразличия. Казалось, она не видела перед собой ни мужчины, ни его плоти, не чувствовала соприкосновения с ней, не осознавала совершаемого ею или, во всяком случае, не воспринимала его как соитие в его подразумевающей нечто относящееся к столкновению полов разновидности. Мне доводилось встречать проституток, ввиду опыта и многократного повторения совершавших то же действо с унылой отстраненностью, неестественной, кукольной небрежностью. Ирина же полностью исчезала в совершаемом ею, ни на мгновение не желая отрываться от мужчины, как не пожелал бы отвести взор от чудесных знамений в небе самонадеянный пророк. Губы ее плыли по мужской плоти, вбирали ее длину подобно странному лекарству, предотвращающему неведомые в этих краях болезни или диковинному фрукту, оплодотворяемому девственницами, модному и, как принято говорить, имеющему похожий на клубничный вкус. В неторопливой надменности презирающих повторения движений я видел упорную настойчивость старателя, задыхающегося в растяжимой хрупкости престарелого противогаза, но не перестающего процеживать чешуйчатыми перчатками ртуть в поисках мозговых камней.
В происходящем на экране виделся мне признак иного мира, вратами своими выбравшего разомкнувшиеся, раздувшиеся от усердия губы девушки, избавленного от всего мягкого и позволяющего себе только нечто напряженное, твердое, раздувшееся, набухшее, насытившееся, разрывающееся от влажной натужности, блуждающее в сонном забытьи, прерываемом лишь появлением новой возможности судорожного излияния. В этом вдохновленном буйстве признавалось исключительно увлеченно округлое, чванливо вздымающееся, сладостно сочное, заманчиво липкое и она вполне соответствовала всему тому. С молчаливой, деятельной, порывистой сосредоточенностью набрасывалась она на член, отрывалась от него, оставаясь связанной с ним шелковой нитью блестящей слюны, всматривалась в его предвечную темноту, снова опускалась, вбирая его, предвестника насекомых упрощений, сияющего золотистым предостережением об упадке, утопающего в пузырящейся слюне и казалось, что нет в мире занятия, которому она дарила бы время с большей щедростью. Все движения ее отличались самоуверенной, расслабленной, мягкой и точной небрежностью, отличающей не столько опыт, сколько всемерное расположение к занятию, наличие дара особого, драгоценного, представляющего собой сочетание всех приобретенных особенностей, подтвержденного как природой, так и всеми другими силами, наличествующими в мироздании. Легкость, с которой художник делает набросок на салфетке привокзального кафе, волнующая радость музыканта, мягким прикосновением к клавишам позабытого пианино выбивающего из них пыльную сонату, сосредоточенная оторопь снайпера, через много лет после войны взявшего в руки винтовку. Подняв губы над блестящей влажной головкой, напряжение в которой могло бы сплотить иные недоверчивости, она повернулась к мужчине и произнесла нечто, способное быть только предложением. Радужными горизонтальными линиями вспыхнули помехи, неистовыми стаями разбрелись по экрану, преследуя скрывающуюся в пространствах между его точками добычу, еще один кадр пробился ко мне определимым образом, позволив увидел девушку, стоящую на четвереньках над мужчиной, затем изображение сменилось на мгновение увлеченной разноцветными полосами темнотой, после чего и вовсе исчезло. Никогда не следует доверять важные записи дешевым и ненадежным носителям.
В тот вечер она вновь пожелала испытать на мне свою похоть и после получаса слюнявых стараний, когда я, почти уже засыпая, узрел сквозь подступающую темноту кадры подсмотренного мной, радостный крик жены вырвал меня из влюбленной полудремы.
– Он дернулся! – она вскочила, села на колени, пораженно всматриваясь в моей член, словно был он цветком, распускающимся один раз в тысячелетие. – Я почувствовала, он дернулся!
Зарычав, она с еще большей яростью набросилась на него, но успех не повторился. По истечении часа она устала и, тяжело дыша, легка рядом со мной, прижимаясь к моему боку горячими грудями, пересчитывая мои ребра окаменевшими сосками. Руки ее гладили меня, пощипывая мои соски, но не касаясь члена, словно боялись более беспокоить его и предпочитали дать ему отдохнуть после усилия, представавшего немыслимым в настоящих обстоятельствах.
– Я почувствовала, как он дернулся! – шептала она, изнывая от радости моряка, умирающего на открытом им острове. – Скоро все будет как раньше.
Сам я не ощутил того, о чем она говорила. Никакого изменения не наблюдал я в себе, не появилось во мне ни силы, ни твердости. Возможно, близость непритязательных сновидений отвлекла меня от собственных переживаний и я упустил мгновение плодоносной вспышки или в незначительности своей она позволила ощутить себя только языку Ирины, подвижному, как плавники морского конька, чувствительному настолько, что мог он пересчитать крупинки соли, обрушившиеся на него. Распутная темнота кружилась, смеялась, позволяя мне выбирать между сном и любой другой пустотой и я не был уверен в том, которая показалась мне предпочтительнее.
Вернулся я к действительности лежа на спине, как будто за всю ночь не поменял положения. Но в конечностях моих не было ничего, кроме ставшей уже привычной мягкотелой слабости, не имелось в них ни покалывания застоявшейся крови, ни усталости судорожного напряжения. Еще не прислушавшись, не впитав в себя пространства квартиры, я уже понял, что был в ней один. Впервые за все дни после катастрофы я проспал уход моей жены и счел то знамением благоприятного будущего, убедив и себя в том, что была она права и действительно ощутила минувшей ночью биение грядущей страсти, как другие женщины – первый удар о матку пятки нежеланного ребенка.
За свою жизнь я, к чести своей, пережил немало поражений, включая и имевшие причиной женщин, но никогда ранее я не чувствовал себя таким неудержимо слабым, словно произошла во мне некая неопределимая, сверхъестественная инверсия, открывшая меня для иной вселенной, где слабость и сила противоположное привычному мне имели значение и теперь они перетекали сквозь мои незримые каналы, сменяя друг друга в уверенности незаразного недуга. Ранее я не без оснований наслаждался собственным мнением о себе как о существе порочном и развратном, склонном к великому числу разнообразных перверсий, не имеющему в себе ограничений, отвращений и страхов относительно удовольствий и сладострастных страданий плоти. И моя жена, во всей ее ненасытной похоти, подтверждала то, утверждала в других мнение обо мне как о тонкословном соблазнителе, неутомимом развратнике, изощренном палаче, аморальном авантюристе. Теперь же я ощущал себя ребенком, получившим умиляющуюся похвалу от матери и самые изощренные свои предприятия видел отражающимися в глазах Ирины повторением не самых удачных ее переживаний.
Несколько часов я потратил на поиски других лишенных наклеек пирамидок. Уверенный в многочисленном их существовании, я желал увидеть и прочие подвиги моей жены с не меньшим завороженным любопытством, с каким в детстве ожидал очередного рассказа о разрушительных деяниях древних героев, каждый вечер сообщаемых мне матерью. Осмотрев все хранившие мою коллекцию ящики и коробки, я нашел в них только обладающее наклейками и почувствовал себя раздраженным и недовольным, возмущенным пошлой несправедливостью. Я мечтал, чтобы мне открылась истина о наличии у нее до меня сотен любовников, обворожительных гигантов, превосходящих меня размером члена, намного более привлекательных, чем я, превосходящих меня ростом, великолепных фигурой, статью, благородными чертами лица, могучих красавцев, даривших ей бесчисленные оргазмы, в чьей сперме она захлебывалась, воспаленными пятнами на коже сохраняя воспоминания о липких потоках. Мне хотелось, чтобы каждое из ее порывистых совокуплений с ними было запечатлено в пирамидальной памяти, сохранено в священных тайниках, открытых моей мужественной слабостью и предстало теперь передо мной, позволяя прозреть прошлое, обрести в нем призрачную прочность, разрушительную ясность, сметающую нелепые наслоения обыденности, счищающую с сознания ороговевшие наросты привычек, преподносящую мир во всем его великолепном, сияющем безумии, яростном и радостном, глумливом и похотливом. Увиденное мной являло собой исключение из всего, чем ранее представлялось мне существование, становилось в мыслях моих событием немыслимо редким невероятным, подобным божественному или инопланетному явлению, превращаясь в бесповоротное чудо, после наслаждения им оставлявшее только возможности для самоубийства или превращения в пророка. Если бы подобное было открыто мной до катастрофы, я предпочел бы первое, но теперь, подобно новоявленному поклоннику, узревшему неоспоримое, желал новых, иных, еще более восхитительных чудес и, прислонившись спиной к тумбе стола, бессильно опустив руки на мягкий ковер, рыдал от невозможности обрести их. Издаваемый телефоном скрежет прервал мои излияния. После недавнего падения он, так и оставшийся на полу, не мог уже произвести обычный свой истеричный звон и тот лишь изредка прорывался сквозь трескучие, неровные, волнистые припадки. Потребовалось лишь протянуть руку и ощутить под пальцами льстиво гладкую телефонную трубку, но я выждал семь ее сотрясений, собираясь с силами, глубоко вдохнул и не столько поднял, сколько вскинул ее, выскальзывающую из слабеющих пальцев, подхватил второй рукой, забросил на плечо, наклонил голову, прижимая ее к нему, вслушиваясь в прогрызающий путь через наросты тишины голос, почти забытый уже мной.
– Здравствуй, друг. – преувеличенная его дружелюбность, ранее ему не свойственная, не столько насторожила, сколько удивила меня. Пронырливая, хрипловатая, вкрадчивая, она притворялась плоскозубой и подслеповатой, но, я был уверен, способна была на неожиданное хищное коварство.
Пробормотав невнятное приветствие, я закрыл глаза, сосредотачиваясь на том, что должен был услышать.
– Я встретил вчера твою жену. – его молчание присоединилось к моему и я замер, наблюдая за поединком их слившихся тел, недоумевая, которому из них удалось все же поглотить другое под аплодисменты порочных помех.
– Она рассказала мне о случившемся. Я же ничего не знал. Сочувствую, сочувствую— но в последних словах мне слышалось только напряженное злорадство.
– Твоя жена, – он немного смутился или сделал вид. – Она рассказала мне все. О твоих проблемах по мужской части.
Должен признаться, что я позволил себе мгновение злости на Ирину, ощутив себя еще более слабым от распространения подробностей моего недуга. Успокоиться мне удалось только напомнив себе об отсутствии оскорбительного в истине. Каким бы ни было мое состояние, оно признавалось временным и вскоре болтливое унижение, произведенное девушкой, уже ничего не будет означать.
– Врачи говорят, что это ненадолго. – несмотря на то, что я всего лишь повторял чужие слова, выглядели они ложью и для меня самого.
– Рад это слышать. Но ей очень тяжело. Она смеется, что уже натерла пальцы, но ты же понимаешь, насколько это серьезно. Она страстная женщина, ей нужен мужчина. Боюсь, если это продлится еще какое-то время, она уйдет от тебя. – повтор собственных мои мыслей из чужих уст предстал зловещим бесплатным предсказанием, темным теплом ворвавшимся в сердце.
– И что, по-твоему я могу сделать? – неоправданное раздражение мое самому мне показалось приятным.
– Ты можешь отдать ее мне. – таким голосом сам я просил о скидке у рыночных торговцев.
Его интерес к ней всегда был слишком заметным и я не избегал насладиться им. Уверенный в сути своей единственного мужчины, к которому Ирина проявляет любопытство, превосходящее смешливую бесплотность, я с презрительным умилением наблюдал за тем, как на совместно проводимых празднествах или вечеринках мой друг старается держаться поближе к моей жене, одаряя ее большим вниманием, чем собственную его женщину, вслушивался в их разговоры, касавшиеся, в том числе и прежде всего, тем непристойно-насмешливых. Признавая ее, не испытывающую стеснения, не понимающую смущения и отрекшейся от стыда, единственной женщиной, с которой он может чувствовать себя свободным при обсуждении столь жизнеутверждающих вопросов, как множественный женский оргазм или переживания, которые она испытывает, когда задумчивый воск из вставленной в ее влагалище свечи стекает на клитор, он однажды нашел возможным сообщить мне, что, если бы у нас возникло желание, не отказался бы принять участие в наших постельных забавах. Для меня это прозвучало как откровенное желание совокупиться с моей женой, получающее законное основание в виде моего предполагаемого присутствия, но стало скорее приятным, чем оскорбительным, утвердив мое мужское превосходство. В ту минуту я счел лучшим кокетливо улыбнуться, позволяя понять, что склонен считать услышанное шуточным недоразумением.
– Ты должен понимать. – сочтя тишину с моей стороны язвительно-агрессивной, он возвысил голос свой, ускорил слова. – Так будет лучше. Ты же знаешь, я совершенно здоров и не причиню ей вреда. Чего нельзя сказать о том, кого она найдет на стороне. Ты можешь быть уверен, что со мной она будет в безопасности. Что ты скажешь?
– Ты разговаривал с ней об этом? – трубка становилась все более теплой, все менее приятной.
– Нет. – принимая мою власть над ней, он следовал собственным воззрениям, не понимая покорность ее исток имеющей в удовольствии и питаемой только им. – Сперва я решил узнать твое мнение.
– Поговори с ней. – из того, что мне было о нем известно, я сомневался в возможности для него выдержать натиск ее ненасытной похоти, этой истеричной хищницы, полной паразитарных извращений, пожирающих любое попадающее к ней удовольствие, вынуждающих ее к неустанному голоду.
Большим пальцем левой ноги я коснулся пластикового черного рычага, выпрямил шею, позволив трубке упасть на ковер, произведя при этом звук, с каким падает на землю выброшенная артиллерийским орудием гильза несущего ядовитые газы снаряда.
Прислонившись головой к прохладному дереву, я некоторое время сидел с закрытыми глазами, после чего, встав на четвереньки, отправился в залу по темному и пыльному коридору, забрался на диван, вынудив запись к постоянному повторению, снова и снова наблюдая за тем, как моя жена забавляется с чужим членом, как будто был он проводником величайших тайн, предвестником очищающих превращений.
Мне снилась неведомая лучезарная машина, пребывающая высоко над миром, в горячей высоте, слишком близко к солнцу для пребывания в покое и ее серебристо-белое тело, исходящее мириадом златоточивых бликов, видимое лишь малой своей частью, напряженным подбрюшьем, исполосованным ровными следами ритуальных шрамов, посреди которых с медлительностью рождающей чудовищ луны возникала рваная оторопь, разлеталась темными брызгами, желчными каплями, разрывая непорочную плоть, позволяя видеть темную изнанку ее, выбрасывая из себя преждевременным извержением, молчаливым выкидышем, нечто тонкое, сжавшееся, вязкое в своей плотоядной страсти к жизни, неторопливо падающее, легкостью равное оговорке, разворачивающееся всепожирающей гусеницей, выпрямляющее напряженное тело, выдергивающее из него короткие прямоугольные крылья, ознобом сладостной дрожи стряхивающее льдистые покровы, пламенным всхлипом возвращающее себя миру и устремляющееся прочь, вращаясь, позволяя лицезреть неведомые письмена, начертанные на ним кровью девственных пилигримов.