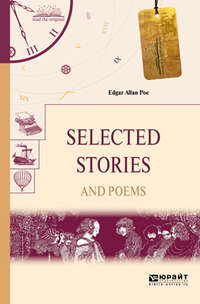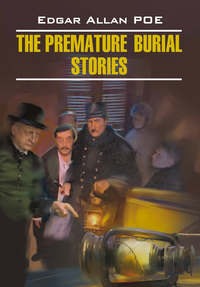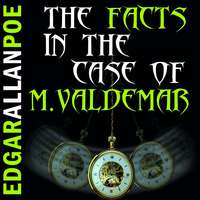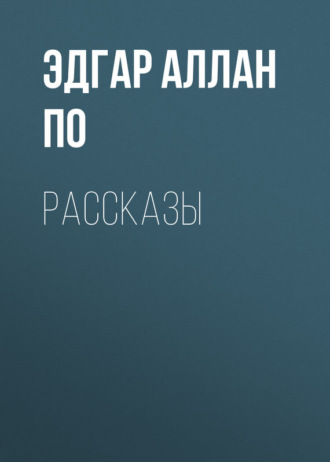 полная версия
полная версияРассказы
Я уже упоминал о болезненном состоянии слухового нерва, благодаря которому мой друг не выносил никакой музыки, кроме некоторых струнных инструментов. Быть может, эта необходимость суживать себя тесными пределами гитары в значительной мере обусловливала фантастическое свойство его импровизаций. Но легкость его impromptus не объясняется этим обстоятельством. Музыка и слова его диких фантазий (он нередко сопровождал свою игру рифмованными импровизациями) были, по всей вероятности, следствием самоуглубления и сосредоточенности, которые, как я уже говорил, замечаются в известные минуты чрезвычайного искусственного возбуждения. Я запомнил слова одной из его песен. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие истолкования, которое я дал ее таинственному смыслу. Мне казалось, будто Эшер вполне ясно сознает, что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Передаю эту песнь, если не вполне, то почти точно:
I.
В зеленой долине, жилище светлых ангелов, возвышался когда-то прекрасный, гордый, лучезарный замок. Там стоял он во владениях властелина Мысли! Никогда серафим не простирал своих крыльев над столь прекрасным зданием.
II.
Пышные златотканные знамена развевались на кровле его (все это было – все это было в старые, давно минувшие годы); ветерок, порхая по стенам дворца, уносился, напоенный благоуханием.
III.
Путник, проходя счастливой долиной видел в ярко освещенные окна, как духи плавно двигались под мерные звуки лютни вокруг престола, на котором восседал в блеске славы своей порфирородный властитель.
IV.
Жемчугами и рубинами горели пышные двери, из них вылетали, кружась и сверкая, толпы Эхо, воспевавшие голосами невыразимо-сладостными мудрость своего повелителя.
V.
Но злые призраки в черных одеждах осадили дворец великого царя (ах, пожалеем о нем: солнце уже никогда не взойдет для него, безнадежного!), и ныне царственная слава дома его – только сказание древности полузабытое.
VI.
И ныне путник, проходя по долине, видит сквозь озаренные багровым светом окна, как безобразные призраки теснятся под звуки нестройной мелодии, а из бледных дверей, подобно зловещему потоку, вылетают толпы отвратительных чудовищ и смеются, но никогда не улыбаются.
* * *Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказал мнение, которое я отмечаю не вследствие его новизны (многие высказывали то же самое [14]), а потому, что он защищал его с большим упорством. Сущность этого мнения в том, что растительные организмы обладают чувствительностью. Но его воображение придало этой идее еще более смелый характер, перенеся ее до некоторой степени в царство неорганическое.
Не знаю, какими словами выразить степень или размах его убеждения. Оно имело связь (как я уже намекал) с серыми камнями дома его предков. Условия этой чувствительности он усматривал в самом размещении камней – в порядке их сочетания, в изобильных мхах, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг, – а главное в том, что они так долго оставались в одном и том же положении, ничем не потревоженные, и удвоялись в спокойных водах пруда. Доказательством этой чувствительности, – прибавил он, – может служить особенный воздух (я невольно вздрогнул при этих словах), сгустившийся вокруг стен и пруда. О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние усадьбы на характер его предков и на него самого, – так как именно это влияние сделало его таким, каков он теперь. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и потому я удержусь от них.
Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, были подобны видениям его. Мы вместе читали «Вер-Вер» и «Шартрезу» Грессе; «Бельфегора» Маккиавели; «Небо и Ад» Сведенборга; «Подземное путешествие Николая Климма» Гольберга; Хиромантии Роберта Флюда, Жана Д'Эндажинэ, Делантамбра; Путешествие в «Голубую даль» Тика; «Город Солнца» Кампанелы. Нашим любимым чтением было маленькое, в восьмушку, издание «Directorium Inquisitorium» доминиканца Эймерика де-Жиронн, и отрывки из Помпония Мелы об африканских сатирах и эгипанах, над которыми Эшер раздумывал по целым часам.
Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкий и любопытный готический in quarto служебник одной забытой церкви – Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae.
Я вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, и об ее вероятном влиянии на ипохондрика, когда, однажды вечером, он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых и что он намерен поместить ее тело на две недели (до окончательного погребения) в одном из многочисленных склепов здания. Я не счел возможным оспаривать это странное решение в виду его побудительной причины. По словам Эшера его побуждали к этому необычайный характер болезни, странные и назойливые заявления доктора и отдаленность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, – мне и в голову не пришло оспаривать эту, во всяком случае, безвредную предосторожность.
По просьбе Эшера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели (он так долго не отворялся, что наши факелы чуть мерцали в сгущенном воздухе), был маленький сырой погреб, куда свет не проникал, так как он помещался на большой глубине в той части здания, где находилась моя спальня. Без сомнения, в средневековые времена он служил для каких-нибудь тайных целей, а позднее в нем был устроен склад пороха, или другого быстро воспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты медью. Массивная железная дверь тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный пронзительный визг.
Сложив печальную ношу в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба и взглянули в лицо покойницы. Поразительное сходство брата и сестры бросилось мне в глаза. Выть может, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял только, что они были близнецы и что между ними всегда существовала почти непонятная симпатия. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила следы, отличительные во всех вообще каталептических болезнях: слабый румянец на щеках и ту особенную томную улыбку, которая так пугает на лице покойника. Мы завинтили гроб, замкнули железную дверь и, с стесненным сердцем, вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее.
Прошло несколько унылых дней, в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменились. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бродил из комнаты в комнату бесцельными торопливыми нетвердыми шагами. Бледное лицо его приняло, если возможно, еще более зловещий оттенок, но блеск его глаз померк. Голос окончательно утратил решительные резкие звуки; в нем слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которую не хватает смелости. А иногда я приписывал все эти странности необъяснимым причудам сумасшествия, замечая, что он по целым часам сидит недвижимо, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало, даже заражало меня. Я чувствовал, что влияние его суеверных грез сказывается и на мне медленно, но неотразимо.
На седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины, когда я ложился спать поздно вечером, эти ощущения нахлынули на меня с особенною силой.
Проходил час за часом, но сон бежал от глаз моих. Я старался стряхнуть с себя это болезненное настроение. Старался убедить себя, что оно всецело или, по крайней мере, в значительной степени зависит от мрачной обстановки: темных, ветхих занавесей, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все было тщетно. Неодолимый страх глубине и глубже проникал мне в душу и, наконец, демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием стряхнул его, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную темноту, прислушивался, сам не знаю, зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом – к тихим неясным звукам, доносившимся неведомо откуда в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и безотчетным ужасом, я кое-как надел платье (чувствуя, что в эту ночь не придется спать) и попытался отогнать это жалкое малодушие, расхаживая взад и вперед по комнатам.
Сделав два-три оборота, я остановился, услыхав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Эшера. Минуту спустя, он слегка постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Его наружность, как всегда, напоминала труп, – но на этот раз безумное веселье светилось в глазах его– очевидно, он был в припадке истерии. Вид его поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству, так что далее обрадовался его приходу.
– А вы еще не видали этого? – сказал он отрывисто, после довольно продолжительного молчания, – не видали? так вот посмотрите. – С этими словами он поставил лампу к сторонке, и, подбежав к окну, разом распахнул его.
Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была действительно великолепная в своем мрачном величии. По-видимому, средоточие урагана приходилось как раз в усадьбе: ветер то и дело менялся; густые тучи, нависшие над замком (так низко, что казалось, будто они касаются башенок), мчались туда и сюда с неимоверной быстротой, сталкиваясь друг с другом, но не удаляясь на значительное расстояние.
Несмотря на то, что тучи нависли сплошной черной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было, и молния не озаряла их своим блеском. Но, с нижней поверхности туч и от всех окружающих предметов исходили светящиеся газообразные испарения, окутывавшие постройку.
– Вы не должны, вы не будете смотреть на это, – сказал я Эшеру, отведя его от окна с ласковым насилием. – Явления, которые так смущают вас, довольно обыкновенные электрические явления, пли, быть может, они порождены тяжелыми испарениями пруда. Закроем окно: холодный воздух вреден для вас. У меня один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте; и так мы скоротаем эту ужасную ночь.
Книга, о которой я говорил, была «Mad Trist» сэра Ланчелота Каннинга, но назвать ее любимым романом Эшера можно было разве в насмешку; ее неуклюжее и вялое многословие совсем не подходило к возвышенному идеализму моего друга. Как бы то ни было, никакой другой книги не. случилось под рукою, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что возбуждение ипохондрика найдет облегчение в самом избытке безумия, о котором я буду читать (история умственных расстройств представляет много подобных странностей). И точно, судя по напряженному вниманию, с которым он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом.
Я дошел до того места, когда Этельред, видя, что его не пускают добром в жилище отшельника, решается войти силой. Если припомнит читатель, эта сцена описывается так.
«Этельред, который по природе был смел, да к тому же еще находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, но, чувствуя капли дождя и опасаясь, что буря вот-вот разразится, поднял свою палицу и живо проломил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетой в Железную перчатку, за доска, так рванул их, что глухой треск ломающегося дерева отдался по всему лесу».
Окончив этот период, я вздрогнул и остановился. Мне почудилось (впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения), будто из какой-то отдаленной части дома раздалось глухое, неясное эхо того самого треска, который так обстоятельно описан у сэра Ланчедота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, так как, сам по себе, этот звук был слишком слаб, чтобы заметить его среди рева и Свиста бури. Я продолжал:
«Но войдя в дверь, славный витязь Этельред был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный покрытый чешуею дракон с огненным языком, сидевший на страже перед золотым замком с серебряными дверями, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью:
Кто в дверь сию войдет, – тот замок покорит;Дракона кто убьет, получит славный щит.«Тогда Этельред замахнулся палицей и ударил дракона по голове, так что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным визгом, что витязь поскорее заткнул уши, чтобы не слышать этого адского звука».
Тут я снова остановился – на этот раз с чувством ужаса и изумления, – так как услышал совершенно ясно (хотя и не мог разобрать, в каком именно направлении) слабый, отдаленный, не резкий, протяжный, визгливый звук, – совершенно подобный неестественному визгу, который чудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона.
Подавленный при этом вторичном и необычайном совпадении наплывом самых разнородных ощущений, над которыми господствовали изумление и ужас, я тем не менее сохранил присутствие духа настолько, что удержался От всяких замечаний, которые могли бы усилил, нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был; уверен, что он слышал эти звуки, хотя заметил в нем странную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я не мог разглядеть лица его, хотя и заметил, что губы его дрожат и как будто шепчут что-то беззвучно. Голова опустилась на грудь, однако, он не спал: я видел в профиль, что глаза его широко раскрыты. К тому же он не сидел неподвижно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал рассказ сэра Ланчелота:
«Избежав свирепости дракона, витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища в сторону и смело пошел по серебряной мостовой к стене, на которой висел щит; однако, последний не дождался его приближения, а упал и покатился к ногам Этельреда с громким и страшным звоном».
Не успел я выговорить эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее ясный, звонкий металлический звук, – точно и впрямь в эту самую минуту медный щит грохнулся на серебряную мостовую. Потеряв всякое самообладание, я вскочил, но Эшер сидел по-прежнему, мерно раскачиваясь на стуле. Я бросился к нему. Он как будто окоченел, неподвижно уставившись в пространство. Но, когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по телу его, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал тихим, торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему, и понял, наконец, его безумную речь.
– Не слышу?.. да, я слышу… я слышал. Долго… долго… долго… много минут, много часов, много дней слышал я это – но не смел, – о, горе мне, несчастному!.. не смел…не смел сказать! Мы похоронили ее живою! Не говорил ли я, что мои чувства изощрены? Теперь говорю вам, что я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их… много, много дней тому назад… но не смел… не смел сказать. А теперь… сейчас… Этельред… ха, ха!.. треск двери в приюте отшельника, предсмертный крик дракона, звон щита!. скажите лучше, – треск гроба, визг железной двери, и судорожная борьба ее в медной арке коридора. О, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда укорять меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных биений сердца ее? Безумец! – Тут он вскочил в бешенстве и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его улетала вместе с этим криком: – Безумец! говорю вам, что она стоит теперь за дверями!
И, как будто нечеловеческая сила этих слов имела силу заклинания, – высокая старинная дверь медленно распахнула свои тяжкие черные челюсти. Это могло быть действием порыва ветра, – но в дверях стояла высокая, одетая саваном фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда ее была залита кровью, изможденное тело обнаруживало признаки отчаянной борьбы. С минуту она стояла, дрожа и шатаясь на пороге, – потом, с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, на этот раз последней, агонии увлекла за собою на пол бездыханное тело жертвы ужаса, предугаданного им заранее.
Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Внезапно передо мной мелькнул на тропинке какой-то странный свет; я обернулся посмотреть, откуда он, так как за мной находилось только темное здание усадьбы. Оказалось, что он исходил от полной кроваво– красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал выше, простиравшуюся зигзагом от кровли до основания дома. На моих глазах трещина быстро расширилась; налетел сильный порыв урагана; полный лунный круг внезапно засверкал перед моими глазами; мощные стены распались и рухнули; раздался гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий, черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами «Дома Эшер».
Черт на башне
Который час?
Известное выражение
Всем известно, что прекраснейшее местечко в мире есть, – или, увы, был – голландский городок Вондервоттеймиттис. Но так как он лежит в стороне от больших дорог, до некоторой степени в захолустье, то, по всей вероятности, лишь немногие из моих читателей навещали его. Для тех, которые не навещали, считаю не лишним описать его вкратце. Это тем более необходимо, что в надежде привлечь сочувствие публики к его обитателям, я намерен рассказать здесь о бедственных событиях, случившихся в последнее время в его пределах. Никто из знающих меня не усомнится, что, возложив на себя эту обязанность, я постараюсь исполнить ее по мере моих способностей с самым строгим беспристрастием, подвергая факты тщательнейшему исследованию и сопоставляя мнения авторитетов с усердием, которое всегда характеризует того, кто желает заслужить титул историка.
Тщательное изучение медалей, рукописей и надписей дает мне возможность утверждать, что городок Вондервоттеймиттис с самого основания своего находился в таких же условиях, в каких находится и ныне. О времени основания я, к сожалению могу говорить лишь с той неопределенной определенностью, на которую математикам приходится иногда соглашаться в известных алгебраических формулах. Время это, в отношении отдаленности, не может быть менее всякой определенной величины.
Что касается происхождения имени Вондервоттеймиттис, то я с сожалением должен сознаться, что и на этот счет не имею точных сведений. Среди множества мнений, высказанных по поводу этого деликатного пункта – остроумных, основательных и прямо противоположных – я не в состоянии указать ни одного удовлетворительного. Может быть, заслуживает предпочтения идея Грогсвигга, почти тождественная с мнением Ераутапплентэя. Вот ее сущность: – «Vondervotteimittiss – Vonder lege Donder – Votteimittiss, quasi und Bleitsiz: – Bleitsiz obsot: pro Blitzen» [15]. Действительно, это объяснение, по-видимому, подтверждается следами электрического действия на верхушке шпиля городской ратуши. Но я оставлю в стороне эту важную тему Я укажу любознательному читателю на «Oratiunculae de Rebus Praeteritis» [16]Дундергуца. Ср. также Блундербуззарда «De Derivationibus» [17] стр. 27 до 5010, Folio, готич. изд. красным шрифтом; и примечания на полях автографа Штуффундпуффа с подкомментариями Грунтундгуццеля.
Несмотря на то, что время основания Вондервоттеймиттиса и происхождение этого имени одеты мраком неизвестности, не может быть сомнения, как я уже заметил, что он всегда был таким же, как ныне. Старейший из старожилов в городке не запомнит ни малейших в нем изменений; и самое предположение о такой возможности было бы сочтено за оскорбление. Местность, в которой расположен городок, представляет совершенно круглую равнину, окруженную отлогими холмами, за вершины которых здешние обитатели никогда не решались заглядывать.
Они объясняют это весьма основательной причиной: именно, они не верят, чтобы по ту сторону холмов что-нибудь вообще находилось.
Долину (совершенно плоскую и вымощенную плоскими черепицами) окаймляют непрерывной вереницей шестьдесят домиков. Они обращены задним фасадом к холмам, а передом к площади, центр которой находится в шестидесяти ярдах от крыльца каждого из домиков. Перед каждым домиком имеется палисадник с круговой дорожкой, солнечными часами и двумя дюжинами кочнов капусты. Постройки, как две капли воды, походят одна на другую. Архитектурный стиль, вследствие своей глубокой древности, производит довольно курьезное впечатление, но тем не менее крайне живописен. Дома выстроены из красных кирпичиков с черными концами, так что стены имеют вид шахматных досок большого размера. Шпицы обращены к фронтону, вдоль стен и над главной дверью тянутся навесы такой же ширины, как сами дома. Окна узкие и глубокие с крошечными стеклами и широкими рамами. Домики крыты черепицей с длинными закрученными концами. Деревянные части темного цвета, украшены в изобилии резьбой не особенно разнообразной, так как резчики Вондервоттеймиттиса с незапамятных времен умеют вырезать только две фигуры: часы и кочан капусты. Зато эти фигурки они вырезают мастерски и с удивительным простодушием суют их всюду, где только найдется местечко.
Внутреннее устройство во всех домах одно и то же, мебель одного образца. Полы выложены квадратными черепицами, столы и стулья выкрашены под черное дерево. Каминные доски, широкие и высокие, украшены не только резными часами и кочнами, но и настоящими. Часы возвышаются по середине, оглашая комнату звонким тиканьем, а по бокам красуются два цветочных горшка с капустой. Между капустой перед часами помещается пузатый фарфоровый человек с большим круглым отверстием в животе, сквозь которое можно видеть циферблат.
Самые камины широкие и глубокие с крепкими, изогнутыми таганами. В камине всегда разведен огонь, а над ним горшок с капустой и свининой. Хозяйка дома, маленькая тучная старушка в высоком колпаке в виде сахарной головы, украшенном пунцовыми и желтыми лентами. Платье у нее из грубого оранжевого сукна, короткое в талии и вообще короткое, так что прикрывает ноги только наполовину. Ноги толстоваты, икры тоже, зато обуты в прекрасные зеленые чулки. Башмаки завязаны желтыми лентами, собранными в виде кочна капусты. В левой руке она держит маленькие, массивные голландские часы, в правой ложку для размешивания капусты. Подле нее – жирный пестрый кот с маленьким позолоченным репетиром на хвосте, к которому привязали его ребята из баловства.
Ребята, счетом трое, присматривают в саду за свиньей. Каждый из них двух футов ростом. На них треугольные шляпы, пунцовые жилеты до бедер, короткие штаны в обтяжку, красные шерстяные чулки, тяжелые башмаки с большими серебряными пряжками и длинные сюртуки с перламутровыми пуговицами. У каждого трубка во рту и маленькие пузатые часики в правой руке. Каждый затянется и взглянет на часы, потом взглянет на часы и затянется. Свинья, мясистая и жирная, то роется в опавшей капустной листве, то оглядывается на позолоченный репетир, который ребята привязали и к ее хвосту, чтоб и она была так же красива, как кот.
Направо от входа кресло с высокой спинкой и кожаной подушкой, на которой восседает сам старик хозяин. Это необычайно тучный старичок с выпученными круглыми глазами и жирным двойным подбородком. Платье его ничем не отличается от одежды ребят и потому не требует особого описания. Вся разница в том, что его трубка длиннее, и он может выпускать клубы дыма больших размеров. У него тоже часы, но он носит их в кармане. Ему некогда смотреть на часы, он занят более важным делом, каким именно – сейчас объясню. Он сидит, перекинув левую ногу через правое колено, сохраняет важный вид и не сводит глаз, по крайней мере, одного глаза, с замечательного предмета в центре площади.
Этот предмет помещается в башне городской ратуши. Городские советники, маленькие, круглые, жирные, смышленые люди, с большими выпученными глазами и двойными подбородками, отличаются от простых граждан Вондервоттеймиттиса более длинными фалдами сюртуков и более крупными пряжками на башмаках. Со времени моего пребывания в городке, они собирались три раза и выработали три важных постановления:
– Не следует изменять старый установившийся порядок вещей.
– Нет ничего путного за пределами Вондервоттеймиттиса…
– Мы будем держаться за наши часы и нашу капусту.
Над залой совета находится башня, а в башне есть колокольня, где помещается и помещалась с незапамятных времен гордость и слава городка – большие часы города Вондервоттеймиттиса. К этому-то предмету прикованы глаза господина, сидящего в кресле. У городских часов семь циферблатов, соответственно семи сторонам башни, так что их можно видеть со всех концов города. Циферблаты большие, белые, а стрелки массивные, черные. К часам приставлен особый смотритель, но эта должность чистейшая синекура, потому что часы Вондервоттеймиттиса не нуждаются в починке. До недавнего времени самое предположение о возможности этого было бы сочтено еретическим. С древнейших времен, о которых сохранились известия в архивах, они регулярно отбивали часы. То же самое можно сказать о всех остальных стенных и карманных часах в городе. Не найдется другого места на земле, где бы так удобно было следить за временем. Когда с башни раздается: «Двенадцать!», все остальные часы откликаются в ту же минуту. Так что добрые граждане, Вондервоттеймиттиса, восхищаясь своей капустой, гордились своими часами.