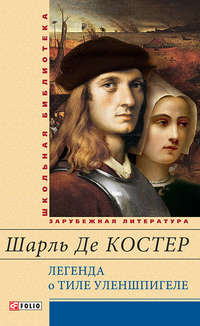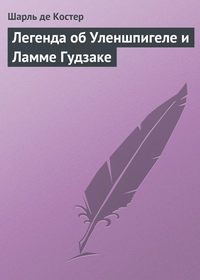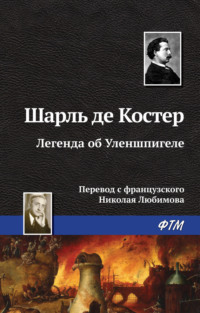полная версия
полная версияЛегенда об Уленшпигеле
И пребольно стегнул его. Осёл заревел.
– Ну, поел, теперь в путь!
Но осёл был неподвижен, как пограничный столб, и, видимо, намеревался съесть все придорожные колючки. А их было не мало.
Увидев это, Уленшпигель сошёл с осла, нарезал охапку чертополоха, вскочил на седло и протянул колючки перед его мордой, так что осёл потянулся за ними. И так они ехали до земли ландграфа Гессенского[82].
– Ах, серый, – сказал Уленшпигель, – вот ты бежишь за моей охапкой колючек, не получая их, а позади себя оставил прекрасную дорогу, обросшую этим лакомством. Ведь так и люди поступают. Одни гонятся за лаврами, которые проносит судьба мимо их носа, другие – за растущим барышом, третьи – за цветами любви. В конце пути они, как ты, видят, что гнались за пустяком, оставив позади всё важное – здоровье, труд, покой, домашний уют.
Так, болтая со своим ослом, Уленшпигель подъехал к замку ландграфа.
На ступеньках подъезда два стрелка-офицера играли в кости.
Один из них, рыжий великан, заметил Уленшпигеля, который, подъехав на Иефе, почтительно остановился и смотрел на них.
– Чего тебе, голодный святоша? – сказал офицер.
– А ведь и правда, – сказал Уленшпигель, – и голоден я и богомольствую не по своей воле.
– Ты голоден? Так накорми свою шею верёвкой: вот она висит на виселице, приготовленной для бродяг.
– Господин капитан, – ответил Уленшпигель, – если вы мне дадите золотой шнурок с вашей шляпы, то я, пожалуй, повешусь… вцепившись зубами в ветчину, что вот там висит у колбасника.
– Откуда ты? – спросил стрелок.
– Из Фландрии.
– Чего тебе надо?
– Я хочу представить его высочеству господину ландграфу картину моей работы.
– Если ты живописец и из Фландрии, то войди: я отведу тебя к графу.
Представ пред ландграфом, Уленшпигель отвесил троекратный и даже многократный поклон.
– Прошу прощения у вашего высочества за мою смелость, – начал он, – осмеливаюсь повергнуть к благородным стопам вашим написанную для вас картину. Я имел честь изобразить на ней пресвятую богоматерь во всём её царственном величии. Быть может, картина эта понравится вашему высочеству, и в этом случае, – продолжал он, – я не удержусь от преувеличенного мнения о моём искусстве и позволю себе надеяться, что когда-либо и я получу возможность занять это красное бархатное кресло, в котором при жизни сидел достойный сожаления художник вашего Великодушия.
Ландграф обозрел картину и, найдя её прекрасной, произнёс:
– Ты будешь нашим живописцем, сядь в то кресло.
При этом он весело поцеловал его в обе щеки. Уленшпигель уселся.
– Ты отощал, – сказал граф, глядя на него.
– Да, ваше высочество, – ответил Уленшпигель, – Иеф (это мой осёл) пообедал колючками, а я вот уже три дня лицезрел только голод и питался исключительно дымом надежды.
– Сейчас получишь более питательную говядину, – ответил ландграф. – Но где твой осёл?
– Я оставил его на площади, – отвечал Уленшпигель, – пред дворцом вашей милости. Я буду счастлив, если и Иеф получит на ночь пристанище, подстилку и корм!
И ландграф тотчас приказал одному из пажей содержать осла Уленшпигеля так же, как его собственных ослов.
Подошло время ужина, который был роскошен, как торжественное пиршество. Дымящееся мясо и ароматное вино катилось вниз по глоткам.
Уленшпигель и ландграф были оба красны, как раскалённые жаровни. Уленшпигель был весел, граф задумчив.
– Послушай, художник, – вдруг сказал он, – мне нужен мой портрет: утешительно ведь для смертного государя оставить потомству воспоминание о своём образе.
– Ваше высочество, ваша воля – закон, но недостойному рабу вашему представляется, что вашей милости не так будет приятно быть представленным грядущим столетиям в одиночестве. Вам следует красоваться на картине в сопровождении госпожи ландграфини, вашей благородной супруги, с её дамами и кавалерами, с военачальниками и храбрейшими офицерами. И среди всего этого блеска – точно два солнца среди фонарей – ваша милость с супругой.
– Правильно, господин живописец, – сказал ландграф, – а что будет стоить эта великая работа?
– Сто флоринов вперёд или потом.
– Возьми вперёд, – ответил ландграф.
– Ваша милость! – воскликнул Уленшпигель. – Вы наливаете масло в мою лампу, и она будет гореть в вашу честь.
На другой день он попросил графа представить ему всех тех, кто удостоится изображения на картине.
Первым был герцог Люнебургский, командовавший графскими наемниками. Это был громадный мужчина, с трудом влачивший своё сытое брюхо. Приблизившись к Уленшпигелю, он шепнул ему на ухо:
– Если ты на своей картине не снимешь с меня половину жира, мои солдаты повесят тебя.
И герцог вышел.
Затем явилась высокая дама с горбом на спине и грудью плоской, как меч правосудия.
– Господин художник, – сказала она, – если ты на картине не уберёшь мне выпуклость со спины и не поместишь зато пару выпуклостей на груди, ты будешь четвертован как отравитель.
И дама вышла.
Следующая была молоденькая, хорошенькая, свеженькая, изящная фрейлина, у которой недоставало впереди трёх верхних зубов.
– Господин художник, – сказала она, – если ты не нарисуешь меня с улыбкой, открывающей все тридцать два зуба, то вот этот мой поклонник изрубит тебя на куски.
И она показала на капитана стрелков, того самого, который давеча играл в кости на ступенях подъезда, и вышла.
И так один за другим. Наконец Уленшпигель остался вдвоём с ландграфом.
– Если ты себе на горе вздумаешь лукавить, – сказал ландграф, – и нарисовать хоть чёрточку в чьём-нибудь лице не так, как есть, я прикажу отрубить тебе голову, как цыплёнку.
«Плаха или колесо, топор или по меньшей мере виселица, – подумал Уленшпигель, – тогда лучше никого не рисовать. Ну, посмотрим».
– Где зал, который я должен украсить всей этой живописью? – спросил он ландграфа.
– Пойдём, – ответил тот.
И он привёл его в огромную комнату с необъятными голыми стенами.
– Вот, – сказал он.
– Было бы хорошо, – сказал Уленшпигель, – чтобы все стены были завешены большими занавесами, дабы предохранить мою работу от мух и пыли.
– Хорошо, – сказал граф.
Занавесы были повешены. Уленшпигель потребовал трех помощников: растирать краски, сказал он.
В течение тридцати дней Уленшпигель и его помощники занимались жраньём и выпивкой. Сам ландграф заботился о том, чтоб им доставлялись лучшие яства и вина.
Но на тридцать первый день он просунул нос в дверную щёлку: Уленшпигель строго запретил кому бы то ни было входить в комнату.
– Ну, Тиль, как картина?
– Ещё далеко до конца.
– Можно посмотреть?
– Нет ещё.
На тридцать шестой день ландграф опять просунул нос в щёлку:
– Ну, Тиль?
– Кончаем, господин ландграф.
На шестидесятый день ландграф рассердился и влетел в зал с криком:
– Покажешь ты мне, наконец, картину, нахал?
– Сейчас, сейчас, господин грозный государь, благоволите только разрешить не поднимать завесу, пока не сойдутся все придворные дамы и кавалеры.
– Хорошо.
И по приказу государя все собрались в зале.
Уленшпигель стал перед опущенной завесой и сказал:
– Господин ландграф и вы, госпожа ландграфиня, и вы, господин герцог Люнебургский, и прочие прекрасные дамы и доблестные кавалеры: здесь, за занавесью, на картине я изобразил ваши прелестные или мужественные лица. Каждый из вас легко узнает своё изображение. Вам хочется скорее взглянуть на себя, и это нетерпение вполне понятно. Но благоволите потерпеть ещё немного и выслушать одно словечко или с полдюжины таковых. Прекрасные дамы, доблестные воители, вы все, у кого в жилах течёт благороднейшая дворянская кровь, увидите мою картину, но если бы кто-нибудь в вашей среде оказался низкого происхождения, он не увидит ничего, кроме белой стены. Благоволите раскрыть ваши благородные глаза.
Уленшпигель открыл завесу и продолжал:
– Лишь высокорождённые, лишь дамы и кавалеры благородной крови могут видеть картину. Отныне все будут говорить: он слеп к живописи, как мужик, или он понимает в картинах – вот подлинный дворянин.
Все смотрели в упор, все притворялись, что прекрасно видят, показывали друг другу на свои портреты, узнавали, обсуждали их. На самом деле они видели только голые стены и были очень удручены этим.
Вдруг шут, бывший при этом, подпрыгнул на три фута вверх, загремел бубенчиками и закричал:
– Пусть я буду самый низкий, униженный мужичонко, но я буду в трубы трубить и бараны бить, провозглашая одно: «Ничего здесь не вижу, кроме голых, белых, пустых, гладких стен! Так да поможет мне господь бог и все святые!»
– Там, где появляются дураки, умным людям надо уходить, – сказал Уленшпигель.
Он уже выходил из замка, когда его удержал сам ландграф.
– Дурачок, дурачок, – сказал он, – бродишь ты по свету, восхваляешь во всю глотку прекрасное, издеваешься над глупостью. Пред такими важными дамами и ещё более знатными вельможами ты, по народному обычаю, решился посмеяться над дворянским чванством и высокомерием: повесят тебя когда-нибудь за твой длинный язык.
– Если верёвка будет золотая, – ответил Уленшпигель, – то при одном моём взгляде она рассыплется в куски от страха.
– Вот тебе первый кусок, – ответил ландграф, протягивая ему пятнадцать флоринов.
– Благодарю от души вашу милость, – сказал Уленшпигель, – каждый трактир по дороге получит по ниточке, – по ниточке чистого золота, которая сделает всех этих каналий-трактирщиков крезами.
И, гордо заломив набекрень шляпчонку с торчащим пером, он весело вскочил на своего осла и умчался.
LVIII
Листья желтели на деревьях, и порою проносился осенний ветер. Случалось, что час-другой Катлина была совсем в добром разуме. И Клаас говорил тогда, что это дух божий, в благостном милосердии, навещает её. В такое время она чародейством слов и движений заставляла Неле видеть за сотни миль то, что происходило на площадях, на улицах и даже в домах.
И в этот день Катлина была в ясном уме и вместе с Классом, Сооткин и Неле ела оладьи, обильно политые пивом.
– Сегодня отрекается от престола его величество император Карл Пятый[83], – сказал Клаас. – Неле, милая, не могла ли бы ты увидеть, что делается теперь в Брюсселе?
– Увижу, если Катлина захочет, – отвечала Неле.
Катлина приказала ей сесть на скамью и, словами и движениями, действовавшими, как волшебство, заставила Неле тихо погрузиться в глубокий сон.
– Войди, – приказала ей Катлина, – в маленький домик в парке, здесь любит пребывать император Карл Пятый.
– Вот я в маленьком зелёном зале, – говорила Неле тихо и как бы задыхаясь; – здесь сидит человек, ему около пятидесяти четырёх лет, седой, лысый, с русой бородкой и сильно выдающимся подбородком. Взгляд его серых глаз исполнен хитрости, жестокости и притворного добродушия. Этого человека называют «его святейшим величеством». Он простужен и кашляет. Подле него стоит другой человек, молодой, большеголовый, уродливый, как обезьяна, я видела его в Антверпене, – это король Филипп. Его величество бранит его за то, что он последнюю ночь провёл вне дома. «И всё затем, – говорит он, – чтобы в каком-нибудь жалком вертепе найти грязную потаскуху». Он говорит сыну, что от волос его несёт кабаком, что его удовольствия недостойны короля, что к его услугам нежные тела, атласная кожа которых омыта в благоуханной ванне, и руки влюблённых знатных дам. А ему по вкусу какая-нибудь хавронья, которая, верно, ещё не отмылась от объятий пьяных наемников, только что покинутых ею. Нет девушки, нет мужней жены, нет вдовы, которая отказала бы ему: ни одной – даже самой прекрасной и знатной из тех, которые освещают свои любовные радости благоуханными светильниками, а не вонючими сальными свечами.
Король отвечает его величеству, что он будет повиноваться ему во всём.
Его величество кашляет и выпивает несколько глотков горячего вина.
«Теперь, – говорит он Филиппу, – ты увидишь генеральные штаты[84] – епископов, дворян и горожан: всегда молчаливого Вильгельма Оранского, тщеславного Эгмонта, мрачного Горна, отважного, как лев, Бредероде[85] и всех кавалеров Золотого руна[86], во главе которых я поставлю тебя. Ты увидишь сотни суетных людей, которые дадут себе отрезать нос, чтобы носить его на золотой цепи на груди – как знак высшей знатности».
Потом он меняет тон и жалобно говорит королю Филиппу:
«Ты знаешь, сын мой, я отрекаюсь в твою пользу, я дам миру величавое зрелище и буду говорить перед толпой, хотя я кашляю и икаю, – это потому, что я слишком много ел всю жизнь, сын мой. Железное у тебя сердце должно быть, если ты после моей речи не прольёшь нескольких слезинок».
«Я буду плакать, батюшка», – отвечает король Филипп.
Теперь его величество говорит своему слуге, по имени Дюбуа:
«Накапай мне мадеры на кусочек сахару, Дюбуа: у меня икота. Хоть бы она не напала на меня, когда надо будет говорить перед людьми. Этот вчерашний гусь[87], должно быть, никак не пройдёт. Уж не выпить ли мне стакан орлеанского? Или лучше не надо – оно такое терпкое. Или сардинку съесть? Нет, жирно. Дюбуа, дай бургонского».
Дюбуа подаёт королю вино, потом одевает его в пурпурный бархат, накидывает ему на плечи парчёвую мантию, опоясывает мечом, вкладывает ему в руки скипетр и державу и надевает на голову корону.
Его величество выходит из павильона, садится на маленького мула, за ним идут король Филипп и несколько придворных. Так направляются они к большому зданию – дворцу; здесь в одной из комнат они встречают высокого, стройного мужчину в богатой одежде; это – Оранский.
«Как ты меня находишь, кузен Вильгельм?» – спрашивает его величество.
Но тот не отвечает.
Его величество говорит не то сердито, не то в шутку:
«Что ты, онемел навеки, кузен? Даже тогда, когда надо сказать правду старым мощам? Царствовать мне или отречься? Скажи, Молчаливый».
«Ваше святейшее величество, – говорит высокий, – когда приходит зима, самый могучий дуб стряхивает с себя листья».
Бьёт три часа.
«Дай, Молчаливый, обопрусь на твоё плечо».
И с ним и со своей свитой его величество вступает в большой зал и садится на помосте под балдахином, где всё вокруг покрыто шёлком и пурпурными коврами. Три трона устроены здесь: средний для его величества; он убран роскошнее, и над ним водружена императорская корона. Король Филипп сидит на другом троне; третий предназначен для женщины – для королевы[88]. Слева и справа, на покрытых коврами скамьях, сидят господа в красном; у всех на шее висит золотой агнец. За ними стоит множество господ, всё, видно, князья и высокие особы. Напротив трона на скамьях, ничем не покрытых, сидят люди в суконных одеждах. Я слышу, в этой толпе говорят, что они так скромно одеты, потому что все расходы падают на их счёт. При появлении его величества все встают. Император садится и знаком приказывает всем сделать то же.
Медленно и долго говорит один старик[89], потом дама, судя по виду – королева, подаёт его величеству пергаментный свиток, на котором написано много чего-то, и император, кашляя, читает это глухим, тихим голосом и потом говорит:
«Много странствовал я по Испании, по Италии, по Нидерландам, Англии и Африке, и все странствия эти были ко славе господа бога, к мощи нашего оружия, ко благу моих народов».
Потом он долго говорит ещё и объявляет, что он немощен и устал и вознамерился вручить сыну корону Испании, равно как все принадлежащие ей герцогства, графства и баронства.
И он плачет, и все плачут вместе с ним.
Король Филипп поднимается с места, бросается на колени и говорит:
«Ваше величество, как могу я осмелиться принять эту корону из ваших рук, когда вы ещё в силах носить её!»
Потом император шепчет сыну на ухо, чтобы он обратился с благосклонной речью к господам, сидящим на покрытых коврами скамьях.
Филипп, не поднимаясь, обращается к ним и говорит кислым тоном:
«Я знаю французский язык настолько, чтобы понимать его, но не настолько, чтобы говорить на нём. Поэтому выслушайте, что вам скажет вместо меня епископ Аррасский, кардинал Гранвелла[90]».
«Плохая речь, сын мой», – говорит его величество.
И действительно, среди собравшихся поднимается ропот, они видят, как надменен и высокомерен молодой король.
Потом говорит королева, вознося государю хвалу, затем слово переходит к одному престарелому доктору, и, когда он кончил, его величество мановением руки благодарит его. После того как покончены все формальности и разглагольствования, его величество объявляет своих подданных свободными от присяги ему, подписывает утверждающие это документы, потом подымается с трона и уступает сыну своё место. И все в зале плачут. И император с приближёнными удаляется в домик в парке.
Здесь, оставшись одни, они запираются в зелёном зале, и император, захлебываясь от хохота, обращается к королю Филиппу, который не смеётся:
«Видишь ты, – говорит его величество, смеясь и икая, – как мало надо, чтобы растрогать этих людишек. Какой поток слёз. И этот толстый Маас, который в заключение своей длинной речи ревел, как телёнок. Да и ты как будто растроган, но недостаточно. Вот настоящее зрелище, каким надо потчевать народ. Сын мой, мы тем больше любим наших любовниц, чем дороже они нам стоят. С народами то же самое. Чем больше мы с них дерём, тем больше они нас любят. В Германии я терпел реформацию, в Нидерландах сурово преследовал её. Если бы немецкие государи остались католиками, я бы сам перешёл в лютеранство, чтобы конфисковать их владения, а они верят в мою преданность римско-католической вере и жалеют, что я покидаю их. Благодаря мне погибло в Нидерландах пятьдесят тысяч человек, – наиболее достойных мужчин и самых прекрасных женщин, всё за ересь. Теперь я покидаю престол, а они хнычут. Не считая конфискаций, я добыл оттуда больше денег, чем могли бы дать Индия или Перу, – а они огорчены, что теряют меня. Я нарушил Кадзанский мирный договор[91], я задушил Гент, я уничтожил всё, что могло мне помешать; вольности, права, привилегии – всё я подчинил власти моих чиновников, а эти простофили считают себя свободными, потому что им разрешено стрелять из луков и носить в процессиях их цеховые знамёна. Они чувствуют руку властелина: благодушествуют в клетке, воспевают и оплакивают меня. Сын мой, будь с ними, как я: милостлив на словах, суров на деле. Лижи, пока не пришло время укусить. Непрестанно клянись блюсти все их вольности, права и преимущества. Но, увидев, что они опасны, растопчи их. Не касайся их робкой рукой: тогда они – железные; но они оказываются из стекла, когда ты раздробил их тяжёлым кулаком. Не потому уничтожай еретиков, что они отвергли католическую веру, но потому, что они могут подорвать наше положение в Нидерландах. Те, которые нападают на папу с его тройной короной, легко справятся с государями, которые носят лишь одну корону. Сделай, как я, из свободы совести оскорбление величества, влекущее за собой конфискацию имущества, и всю жизнь, как я, будешь получать наследства. И когда настанет день, когда ты отречёшься или умрёшь, они скажут: «Ах, добрый был государь!» – и заплачут».
– Дальше ничего не слышу, – сказала Неле, – ибо его священное величество лежит на кровати и спит, а король Филипп, надменный и горделивый, смотрит на него без любви.
После этих слов Катлина разбудила её.
И Клаас в раздумьи смотрел в огонь, пылавший в глубине печи.
LIX
Покинув ландграфа Гессенского, Уленшпигель проехал через площадь перед замком; он видел сердитые лица придворных кавалеров и дам, но это мало тронуло его.
Во владениях герцога Люнебургского он встретил компанию Smaedelyke broeders, весёлых фламандцев из Слейса, которые каждую субботу откладывали понемножку денег, чтобы раз в год съездить в Германию.
С пением совершали они свой путь, сидя в открытой телеге, которую здоровенный амбахский конь шутя тащил по просёлкам и болотам герцогства Люнебургского[92]. Некоторые из них играли на скрипках, дудках, лютнях, волынках, производя страшный шум. Рядом с телегой иногда шёл пешком толстяк, игравший на rommel-pot, – видно, в надежде сбавить немного жиру.
У них уж приходил к концу последний флорин, когда они увидели Уленшпигеля с звонкой монетой в кармане. Затащив его в корчму, они угостили его там, чему Уленшпигель не противился. Но когда он заметил, что эти ребята перемигиваются и посмеиваются, подливая в его кружку, он догадался, что они замышляют что-то против него, вышел за дверь и стал подслушивать, что они там говорят. И вот он слышит:
– Это живописец ландграфа, – говорил толстяк – он получил там больше тысячи флоринов за картину. Угостим его хорошенько: получим вдвойне.
– Аминь, – ответили прочие.
Уленшпигель отвёл своего осёдланного осла в ближайший дом – шагов за тысячу; дал там девушке два патара, чтобы она за ним присмотрела, вернулся в трактир к своей компании и молча сел за стол. Они всё подливали и платили за него. Уленшпигель, позванивая графскими золотыми в кармане, сказал, что только что продал мужику своего осла за семнадцать серебряных талеров.
Так, обильно угощаясь, они двигались дальше под звуки дудок, волынок rommel-pot и забирая по дороге всех женщин, которые казались им подходящими. Они народили таким образом не мало детей; случайная подруга Уленшпигеля впоследствии тоже родила сына, которого назвала «Эйленшпигельчик»[93], – что по-немецки значит зеркало и сова, ибо, как немка, она не понимала прозвища своего случайного сожителя, а может быть, мальчик назван был в память часа, когда был сотворен. Он и есть тот Эйленшпигель, о котором ложно утверждают, будто он родился в Книттингене, в Саксонии.
Здоровенный конь мчал их телегу по дороге, навстречу деревням и трактирам. У одного из них с вывеской «In den Ketele» – «Корчма Котёл» – они остановились: уж очень вкусно пахло оттуда.
Приблизившись к хозяину, толстяк указал ему пальцем на Уленшпигеля и сказал:
– Это графский живописец: он платит за всё.
Трактирщик посмотрел на Уленшпигеля и был удовлетворён этим осмотром. Услышав звяканье флоринов и талеров, он уставил стол яствами и питиями. Уленшпигель ничего не пропустил. И всё звенели в его кармане монетки. Кроме того, он похлопывал себя по шапке, приговаривая, что там хранится самое большое сокровище. Так длилось пиршество два дня и ночь, пока, наконец, компания не обратилась к Уленшпигелю:
– Пора расплатиться и ехать дальше.
– Разве крыса, сидя в сыре, думает уйти? – ответил Уленшпигель.
– Нет.
– А когда человек отлично ест и пьёт, тянет его к уличной пыли и к воде из лужи, полной пиявок?
– Нет.
– Ну и будем здесь сидеть, пока мои флорины и талеры служат воронкой, через которую льётся в наши глотки душу веселящий напиток.
И он приказал трактирщику подать ещё вина и колбасы.
– Я плачу, ибо теперь я ландграф, – сказал Уленшпигель за едой, – но когда мои карманы опустеют, что вы будете делать, друзья? Примитесь за мою шапку, в которой везде, и в тулье и в полях, зашиты червонцы.
– Дай пощупать, – закричали они.
И, захлёбываясь от удовольствия, они нащупывали пальцами монеты величиной с червонец. Но один щупал так настойчиво, что Уленшпигель отобрал у него шапку со словами:
– Погоди, пламенный доильщик, ещё не настала пора для доения.
– Дай мне половину твоей шапки, – попросил тот.
– Нет, а то у тебя будет дурацкая голова: в одной половине свет, в другой потёмки.
И, передав трактирщику шапку, он сказал:
– Побереги её у себя, пока жарко. Я выйду на двор.
Трактирщик взял шапку, а Уленшпигель, очутившись на улице, перебежал туда, где был осёл, вскочил на него и доброй рысью помчался в Эмбден.
Увидев, что он не возвращается, его собутыльники подняли крик:
– Он удрал! Кто будет платить?
Трактирщик испугался и разрезал ножом оставленную ему шапку. Но между войлоком и подкладкой вместо червонцев оказались зашиты медяки.
Тогда вся ярость его обратилась на товарищей Уленшпигеля, и он кричал им:
– Мошенники, проходимцы, скидайте с себя платье, иначе не выпущу, – всё, кроме рубахи!
Вот они и расплатились своей одеждой и ехали в одних рубахах по горам и долинам: с конём и телегой они всё-таки не захотели расставаться.
И путники, встречая их в столь жалком виде, подавали им хлеб, пиво, иногда и мясо, ибо они говорили, что обобрали их грабители.
На всю компанию осталась у них одна пара штанов.
Так они и вернулись в Слейс в одних рубахах, но, несмотря на это, они плясали в своей телеге и играли на rommel-pot.
LX
А Уленшпигель в это время мотался на спине Иефа по низинам и болотам герцога Люнебургского. Фламандцы называют этого герцога Water Signorke (Водяной барин) – очень уж сыро в его стране.
Иеф слушался Уленшпигеля, как собака. Он пил пиво, танцовал под музыку лучше венгерского скомороха, прикидывался мёртвым и вытягивался на спине по малейшему знаку хозяина.