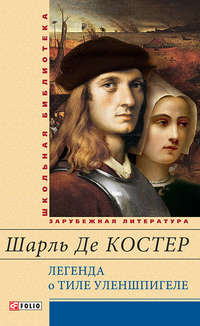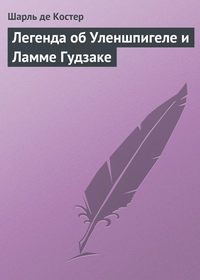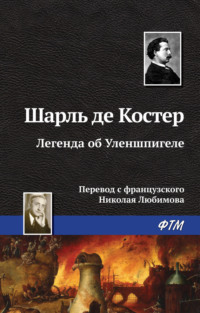полная версия
полная версияЛегенда об Уленшпигеле
– Ты покушался на его жизнь? – спросил судья Уленшпигеля.
Уленшпигель ответил:
– Я бросил в воду предателя, убийцу Клааса. Пепел отца стучал в моё сердце.
– Он сознался! – закричал рыбник. – Он тоже умрёт. Где виселица? Хочу взглянуть на неё. Где палач с мечом? И по тебе звонят колокола, мерзавец ты, убийца старика.
Уленшпигель сказал:
– Я бросил тебя в воду, чтобы убить тебя: пепел стучал в моё сердце.
Женщины из толпы говорили:
– Зачем ты сознаёшься, Уленшпигель? Никто не видел. Теперь ты умрёшь.
И рыбник хохотал, подпрыгивая от злорадства, и потрясал связанными руками, прикрытыми окровавленным бельём.
– Он умрёт, мерзавец, – говорил он, – он пойдёт с земли в ад с верёвкой на шее, как вор или бродяга. Он умрёт: бог правду видит.
– Нет, он не умрёт, – сказал судья. – По истечении десяти лет убийство во Фландрии не наказуемо. Уленшпигель совершил преступление, но по сыновней любви: Уленшпигель не подлежит за это наказанию.
– Да здравствует закон! – закричала толпа. – Lang leve de wet!
С колокольни собора Богоматери нёсся погребальный звон. И рыбник скрежетал зубами, опустил голову и уронил первую свою слезу.
У него была отсечена рука и язык прободён раскалённым железом. И он был сожжён на медленном огне перед ратушей.
Уже умирая, он закричал:
– Король не получит моего золота: я солгал. Я ещё вернусь к вам, тигры вы злые, и буду кусать вас!
И Тория кричала:
– Вот расплата! Корчатся его руки и ноги, спешившие к убийству. Дымится тело убийцы. Горит его белая шерсть, шерсть гиены горит на его зелёной морде. Он расплачивается.
И рыбник умер, воя по-волчьи.
И колокола собора Богоматери звонили по покойнике.
Ламме и Уленшпигель снова сели на своих ослов.
А Неле-страдалица осталась подле Катлины, которая, не умолкая, твердила:
– Уберите огонь! Голова горит! Вернись ко мне, Гансик, любовь моя.
КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ
I
В Гейсте Ламме и Уленшпигель смотрели с дюн на рыбачьи суда, которые шли из Остенде, Бланкенберге и Кнокке; эти суда, полные вооружённых людей, направлялись вслед за зеландскими гёзами, на шляпах которых был вышит серебряный полумесяц с надписью: «Лучше служить султану, чем папе».
Уленшпигель весел и свистит жаворонком. Со всех сторон отвечает ему воинственный крик петуха.
Суда плывут, ловят рыбу и продают её и друг за другом пристают в Эмдене. Здесь задержался Гильом де Блуа[166], снаряжая, по поручению принца Оранского, корабль.
Уленшпигель и Ламме явились в Эмден, в то время как корабли гёзов, по приказу Трелона, ушли в море.
Трелон, сидя одиннадцать недель в Эмдене, невыносимо тосковал. Он сходил с корабля на берег и возвращался с берега на корабль, точно медведь на цепи.
Уленшпигель и Ламме шатались по набережным, и здесь они встретили важного офицера с добродушным лицом, который старался расковырять камни мостовой своей палкой с железным наконечником. Его старания были мало успешны, но он всё-таки стремился довести до конца свой замысел, между тем как позади него собака грызла кость.
Уленшпигель приблизился к собаке и сделал вид, что хочет отнять у неё кость. Собака заворчала. Уленшпигель не отстал, собака подняла бешеный лай.
Обернувшись на шум, офицер спросил Уленшпигеля:
– Чего ты допекаешь собаку?
– А чего вы, ваша милость, допекаете мостовую?
– Это не то же самое, – говорит тот.
– Разница не велика, – отвечает Уленшпигель. – Если собака цепляется за кость и не хочет расстаться с нею, то и мостовая держится за набережную и хочет на ней остаться. Какая важность, что люди вроде нас возятся с собакой, если такой человек, как вы, возится с мостовой.
Ламме стоял за Уленшпигелем, не смея сказать ни слова.
– Кто ты такой? – спросил господин.
– Я Тиль Уленшпигель, сын Клааса, умершего на костре за веру.
И он засвистал жаворонком, а офицер запел петухом.
– Я адмирал Трелон, – сказал он. – Чего тебе от меня надо?
Уленшпигель рассказал ему о своих приключениях и передал ему пятьсот червонцев.
– Кто этот толстяк? – спросил Трелон, указывая пальцем на Ламме.
– Мой друг и товарищ, – ответил Уленшпигель, – он хочет, так же как и я, быть на твоём корабле и петь прекрасным ружейным голосом песню освобождения родины.
– Вы оба молодцы, – сказал Трелон, – я вас возьму на свой корабль.
На дворе стоял февраль: был пронзительный ветер и крепкий мороз. Наконец, после трёх недель тягостного ожидания, Трелон с неудовольствием покинул Эмден. В расчёте попасть на Тессель, он вышел из Фли, но, вынужденный пойти в Виринген[167], застрял во льдах.
Вокруг него быстро развернулась весёлая картина: катающиеся на санях; конькобежцы в бархатных одеждах; девушки на коньках, в отделанных парчей и бисером, сверкающих пурпуром и лазурью юбках и «баскинах»; юноши и девушки прибегали, убегали, хохотали, скользили, гуськом, парочками, напевая песни любви на льду или заходя выпить и закусить в балаганы, украшенные флагами, угоститься водочкой, апельсинами, фигами, peperkoek'ом, камбалой, яйцами, варёными овощами и ectekoek'ами, – это такие ушки с зеленью в уксусе. А вокруг них раздавался скрип льда под полозьями саней и салазок.
Ламме, разыскивая свою жену, бегал на коньках, как вся эта весёлая гурьба, но часто падал.
Уленшпигель заходил выпить и поесть в недорогой трактирчик на набережной; здесь он охотно болтал со старой хозяйкой.
Как-то в воскресенье около десяти часов он зашёл туда пообедать.
– Однако, – сказал он хорошенькой женщине, подошедшей, чтобы прислужить ему, – помолодевшая хозяюшка, куда делись твои морщины? В твоём рту все твои белые и юные зубки, и твои губы красны, как вишни. Это мне предназначается эта сладостная и шаловливая улыбка?
– Ни-ни, – ответила она, – а что тебе подать?
– Тебя, – сказал он.
– Слишком жирно для такой спички, как ты: не угодно ли другого мяса. – И так как Уленшпигель промолчал, она продолжала: – А куда ты дел этого красивого, видного и полного товарища, которого я часто видела с тобой?
– Ламме? – сказал он.
– Куда ты девал его? – повторила она.
– Он ест в лавчонках крутые яйца, копчёных угрей, солёную рыбу (zuertfes) и всё, что может положить себе на зубы; и всё это он делает для того, чтобы найти свою жену. Ах, зачем ты не моя жена, красотка! Хочешь пятьдесят флоринов? Хочешь золотое ожерелье?
Но она перекрестилась.
– Меня нельзя ни купить, ни взять, – сказала она.
– Ты никого не любишь? – спросил он.
– Я люблю тебя, как моего ближнего, но прежде всего я люблю господа нашего Иисуса Христа и пресвятую деву, которые повелели мне вести жизнь в чистоте. Тягостны и трудны обязанности этой жизни, но господь поддерживает нас, бедных женщин. Некоторые всё же грешат. Твой толстый друг весельчак?
– Он весел, когда ест, печален, когда постится, и всегда мечтает. А ты весела или грустна?
– Мы, женщины, – ответила она, – рабыни тех, кто паствует над нами.
– Луна? – сказал он.
– Да, – ответила она.
– Я скажу Ламме, чтобы он пришёл к тебе.
– Не надо, – сказала она, – он будет плакать, и я тоже.
– Видела ты когда-нибудь его жену? – спросил Уленшпигель.
– Она грешила с ним и потому присуждена к суровому покаянию, – отвечала она со вздохом. – Она знает, что он уходит в море ради торжества ереси. Тяжело помыслить об этом сердцу христианскому. Охраняй его, когда на него нападут, ухаживай за ним, если он будет ранен: его жена поручила мне просить тебя об этом.
– Ламме мой брат и друг, – сказал Уленшпигель.
– Ах, – сказала она, – почему бы вам не возвратиться в лоно нашей матери святой католической церкви?
– Она пожирает своих детей, – ответил Уленшпигель и вышел.
Как-то в мартовское утро, когда дул резкий ветер и лёд становился всё толще вокруг корабля Трелона, не позволяя ему выйти, его моряки и солдаты развлекались разгульным катаньем на санях и коньках.
Уленшпигель был в трактире, и хорошенькая прислужница, видимо удручённая и как бы не владея собой, вдруг проговорила:
– Бедный Ламме! Бедный Уленшпигель!
– Почему так жалостно? – спросил он.
– О горе, горе, – сказала она, – зачем вы не веруете в святость мессы? Вы бы, конечно, попали в рай, и в этой жизни я тоже могла бы спасти вас.
Видя, что она, насторожившись, слушает у дверей, Уленшпигель сказал ей:
– К чему ты прислушиваешься? Как падает снег?
– Нет.
– Ты слушаешь, как завывает ветер?
– Нет, – повторила она.
– Прислушиваешься к весёлому шуму наших смелых моряков в соседнем кабачке?
– Смерть приходит тихо, как вор, – сказала она.
– Смерть? – вскричал Уленшпигель. – Я не понимаю тебя: подойди и скажи.
– Они там! – сказала она.
– Кто они?
– Кто? – ответила она. – Солдаты Симонен-Боля, которые вот-вот бросятся на вас во имя герцога. За вами здесь ухаживают, как за быками, которых готовят на убой! Ах! – вскричала она, заливаясь слезами. – Зачем я не узнала об этом раньше?
– Не плачь и не кричи, – сказал Уленшпигель, – но оставайся здесь.
– Не выдай меня, – сказала она.
Уленшпигель быстро вышел, побежал по всем кабачкам и трактирам, оповещая на ухо моряков и солдат:
– Испанцы подходят.
Все бросились к кораблю и, наскоро изготовившись к бою, ждали врага. Уленшпигель сказал Ламме:
– Видишь, там на набережной стоит стройная бабёнка в чёрной юбке с красной оборкой, скрывшая своё лицо под белой накидкой?
– Это мне всё равно, – ответил Ламме, – мне холодно, и я хочу спать.
И, завернувшись с головой в плащ, он точно оглох.
Уленшпигель узнал женщину и крикнул ей с корабля:
– Хочешь с нами?
– С вами хоть в могилу, – ответила она, – но я не могу.
– А хорошо бы сделала, – сказал Уленшпигель, – но подумай: соловей в лесу счастлив и распевает свои песни там; но когда он покидает лес и летит навстречу опасностям открытого моря, навстречу урагану, он ломает свои маленькие крылышки и гибнет.
– Я пела дома и пела бы вне дома, если бы могла. – И, приблизившись к кораблю, она сказала: – Возьми это снадобье для тебя и твоего друга, который спит тогда, когда надо быть на ногах.
И она убежала, крича:
– Ламме, Ламме! Сохрани тебя бог от всего дурного, вернись цел и невредим!
И она открыла лицо.
– Моя жена, моя жена! – кричал Ламме и хотел спрыгнуть на лёд.
– Твоя верная жена, – отвечала она.
И побежала со всех ног.
Ламме чуть было уже не спрыгнул с палубы на лёд, но один солдат удержал его, схватив за плащ. Он кричал, плакал, умолял, чтобы ему позволили уйти. Но профос сказал ему:
– Если ты уйдёшь с корабля, тебя повесят.
Ламме всё-таки хотел броситься на лёд, но один старый гёз удержал его, говоря:
– Сходни мокры, ты промочишь себе ноги.
И Ламме упал на свой зад, безутешно плача и твердя:
– Моя жена, моя жена! Пустите меня к моей жене!
– Ещё увидишься с ней, – сказал Уленшпигель, – она любит тебя, но бога любит больше, чем тебя.
– Чертовка упрямая! – кричал Ламме. – Если она любит бога больше, чем мужа, зачем она является мне такой прелестной и вожделенной. А если она меня любит, то зачем покидает.
– Можешь ты видеть дно в глубоком колодце? – спросил Уленшпигель.
– Горе мне, – стонал Ламме, – я скоро умру.
И, бледный и возбуждённый, он остался на палубе.
Между тем приблизились люди Симонен-Боля с сильной артиллерией.
Они обстреливали корабль, который отвечал им. И ядра их разбили весь лёд кругом. Вечером пошёл тёплый дождь.
Ветер дул с запада, море бурлило подо льдом и поднимало здоровенные льдины, которые сталкивались, поднимались, падали, громоздились друг на друга: и это было небезопасно для корабля, который, едва заря разогнала ночные тучи, поднял свои полотняные крылья, как вольная птица, и поплыл навстречу открытому морю.
Здесь они присоединились к флоту господина де Люме де ла Марк[168], адмирала Голландии и Зеландии, в качестве главнокомандующего, несшего фонарь на мачте своего корабля.
– Посмотри на него хорошенько, сын мой, – сказал Уленшпигель, – этот тебя не пощадит, если ты вздумаешь, вопреки приказу, уйти с корабля. Слышишь, точно гром, гремит его голос. Смотри, какой он громадный, широкоплечий. Обрати внимание на его длинные руки с крючковатыми ногтями. Посмотри на его глаза, круглые, холодные орлиные глаза, посмотри на его длинную остроконечную бороду, которую он не будет стричь до тех пор, пока не перевешает всех попов и монахов, чтобы отомстить за обоих казнённых графов. Смотри, – он страшен и жесток; он без долгих слов повесит тебя, если ты будешь вечно ныть и визжать: «жена моя».
– Сын мой, – сказал Ламме, – бывает, что о верёвке для ближнего говорит тот, у кого шея уже обвита пеньковым воротником.
– Ты первый его наденешь: таково моё дружеское пожелание, – сказал Уленшпигель.
– Я увижу, как ты, вися на верёвке, высунешь на аршин из пасти твой ядовитый язык.
И им обоим казалось, что они шутят.
В этот день корабль Трелона захватил бискайское судно, нагружённое ртутью, золотым песком, винами и пряностями. И оно было вышелушено и очищено от экипажа и груза, как бычья кость под зубами льва.
В это же время герцог Альба наложил на Нидерланды гнусные и жестокие налоги[169], обязав всех обывателей, продающих своё движимое и недвижимое имущество, платить тысячу флоринов с десяти тысяч. И налог этот стал постоянным. Все продавцы и покупатели чего бы то ни было вынуждены были платить королю десятую долю продажной цены. И в народе говорили, что товар, перепроданный десять раз в течение недели, целиком достаётся королю.
Так шли к гибели и разрушению торговля и промышленность.
И гёзы взяли Бриль, морскую крепость, которая была названа рассадником свободы.
II
В первые дни мая под ясным небом гордо несся корабль по волнам. Уленшпигель пел:
Пепел Клааса стучит в моё сердце…В нашу страну ворвались палачи.Силу, меч и огонь против нас обратили.Подлых шпионов купили они.Там, где царили мир и любовь,Сеют доносы они, недоверье…Смерть живодёрам! Бей, барабан,Бей, барабан войны!Да здравствуют гёзы! Бей, барабан!Крепость Бриль – в наших руках!Взят и Флиссинген, к Шельде ключ!Милостив бог, – и Камп-Вере наш!Что ж молчали зеландские пушки?.. —Есть у нас порох и пули,Есть и ядра из чугуна…С нами господь! Кто ж устоит против нас?Бей, барабан – барабан войны и победы!Да здравствуют гёзы! Бей, барабан!Меч обнажён. Будь бесстрашным, сердце,Твёрдой, рука! Меч обнажён.Долой десятину – разоренье народа!Смерть палачу! Петлю ворам!Клятвопреступному королю – мятеж!Мы подняли меч за наши права.За очаг наш, за жён и детейМеч обнажён… Бей, барабан!Сердце бесстрашно, рука тверда.Долой десятину! Долой позорную милость!Бей, барабан войны! Бей, барабан, бей!– Да, друзья и братцы, – говорил Уленшпигель, – да, в Антверпене перед ратушей они соорудили великолепный помост, покрытый красным сукном; на нём, точно король, восседает герцог Альба на троне, окружённый своими солдатами и челядью. Когда он хочет благосклонно улыбнуться, он делает кислую рожу. Бей в барабан, зови на войну!
…Вот он дарует милость и прошение. Молчите и слушайте. Его золочёный панцырь сверкает на солнце, главный профос верхом на коне рядом с балдахином; вот глашатай со своими литаврщиками; он читает: прощение всем, за кем нет греха, прочие будут наказаны без пощады.
…Слушайте, братцы: он читает указ, коим предписывается, под страхом обвинения в мятеже, уплата десятины и двадцатины.
И Уленшпигель запел:
Герцог! Слышишь ли голос народа,Грозный ропот его? Он растёт, как прибойВ час, когда надвигается буря.Довольно денег, довольно крови!Довольно поборов!.. Бей, барабан!Меч обнажён. Бей, барабан погребальный!Ты вонзаешь свой коготь в кровоточащую рану.Грабишь убитых тобой… Иль чтоб кровь нашу питьНадо тебе растворить в ней все золото наше?!Шли мы правой стезёю: верность хранилиМы королю. Но – клятвопреступник король,Так свободны и мы от присяги!.. Бей, барабан войны!Герцог Альба, герцог кровавый!Посмотри: на замке все ларьки и лавчонки.Посмотри: пивовар, бакалейщик и пекарьТорговать перестали, платить не желая налогов.Ты идёшь – поклонился тебе по дорогеХоть один человек?.. Видишь сам, как дыханье чумы,Ненависть и презренье народа тебя окружают…Земли цветущие Фландрии,Полный веселья и жизни БрабантСтали унылыми, словно кладбище.Где недавно ещё, в дни свободы,Лютня звенела и свиристела свирель —Там теперь молчанье и смерть.Вместо весёлых гулякИ распевающих песни влюблённых.Видны повсюду бледные лица людей,Ждуших покорно, когда их сразитНеправосудия меч… Бей, барабан войны!Больше не слышно ужеНи звяканья кружек в трактирах,Ни звонкого голоса девушек,С песней бродящих по улицам.Брабант и Фландрия, радости страны,Стали страною печали и слёз…Бей, барабан погребальный!Край мой родной, страдалец любимый!Не склоняй головы перед подлым убийцей!Трудолюбивые пчёлы! Густыми роямиРиньтесь на трутней Испании!Трупы зарытых живыми жён и сестёр,Взывайте к Христу: «Отмщенье!»Ночью блуждайте в полях, о несчастные души,Взывайте к богу!.. Рука поднялась для удара,Меч обнажён. Герцог Альба! Мы вырвем кишки у тебяИ хлестать по морде будем тебя кишками!..Бей, барабан! Меч обнажён.Бей, барабан, да здравствуют гёзы!И все солдаты и моряки с корабля Уленшпигеля и прочих кораблей подхватили:
Меч обнажён! Да здравствуют гёзы!И голоса их гремели, как гром освобождения.
III
На дворе стоял январь, жестокий месяц; он может заморозить телёнка во чреве коровы. Шёл снег и тут же смерзался. Мальчишки ловили на клей воробьев, искавших под мёрзлой корой снега какой-нибудь жалкой поживы, и таскали эту дичь домой. На сером и ясном небосклоне чётко выделялись неподвижные костяки деревьев, ветки которых были покрыты снежными пуховиками. Снег лежал также на хижинах и на верхушках заборов, усеянных следами кошачьих лап, ибо и кошки тоже охотились по снегу на воробьев. Вдали луга также были покрыты этим чудным мехом, оберегающим теплоту земли от резкого холода зимней поры. Чёрным столбом поднимался к небу дым над домами и хижинами, и не было слышно ни малейшего шума.
И Катлина с Неле сидели в своём жилище, и Катлина, тряся головой, говорила:
– Ганс, моё сердце рвётся к тебе. Ты должен отдать семьсот червонцев Уленшпигелю, сыну Сооткин. Если ты в нужде, то всё-таки приди, чтоб я могла видеть твоё светлое лицо. Убери огонь, голова горит! О, где твои снежные поцелуи? Где твоё ледяное тело, Ганс, мой возлюбленный!
Она стояла у окна. Вдруг мимо быстрым шагом пробежал voet-looper, скороход с колокольчиками на поясе, крича:
– Едет господин комендант города Дамме!
И так он бежал к ратуше, чтобы собрать там бургомистров и старшин.
И тогда среди глубокой тишины Неле услыхала звук двух рожков. Обыватели Дамме бросились к дверям, полагая, что эти трубные звуки возвещают прибытие его королевского величества.
И Катлина тоже вышла на порог с Неле. Издали они увидели отряд блестящих кавалеров верхом на конях, а перед ними, также на коне, человека в плаще из чёрного бархата с куньей оторочкой, в бархатном камзоле с золотой вышивкой и в опойковых сапогах на куньем меху. И они узнали господина коменданта.
За ними гарцовали молодые всадники, бархатная одежда которых, несмотря на повеление его величества, покойного императора, была отделана вышивкой, кружевами, лентами, золотым, серебряным позументом и шёлковой тесьмой. И плащи, накинутые на их камзолы, так же, как у начальника, были оторочены мехом. Они ехали весело, и весело развевались по ветру длинные страусовые перья, украшавшие их шляпы с золотыми шнурками и пуговицами.
Все они казались друзьями и товарищами коменданта, особенно один, с брюзгливым лицом, в зелёном бархатном камзоле с золотой вышивкой, в чёрном бархатном плаще и чёрной шляпе с длинными перьями. У него был нос крючковатый, как клюв коршуна, тонкие губы, рыжие волосы, бледное лицо, гордая осанка.
Вдруг, в то время как толпа этих господ следовала мимо домика Катлины, она схватила за узду коня бледного кавалера и в безумном восторге закричала:
– Ганс, возлюбленный мой, я знала, что ты вернёшься. Какой ты красавец, весь в бархате и золоте, точно солнце на снегу. Ты принёс мне семьсот червонцев? Услышу я опять твой орлиный крик?
Комендант остановил свою свиту, и бледный господин сказал:
– Что от меня нужно этой нищенке?
Но Катлина крепко держала его коня за узду.
– Не уходи, не уходи! – твердила она. – Я так долго плакала по тебе! Сладкие ночи, дорогой мой, снежные поцелуи, ледяное тело… Вот и дитя!
И она показала ему на Неле, которая сердито смотрела на него, так как он поднял свой хлыст над Катлиной. Но Катлина всхлипывала:
– Ах, неужто ты забыл? Сжалься над твоей рабыней! Увези меня с собой, куда хочешь! Убери огонь, Ганс, сжалься!
– Прочь! – крикнул он.
И он пришпорил свою лошадь так сильно, что Катлина выпустила из рук узду и упала на землю; и лошадь наступила на неё, оставив на её лбу кровавую рану.
Тогда комендант обратился к бледному всаднику:
– Сударь, вам эта женщина известна?
– Первый раз в жизни вижу её, – ответил тот, – это, очевидно, сумасшедшая.
Но Неле, подняв с земли Катлину, выступила вперёд:
– Если она сумасшедшая, то не сумасшедшая я, ваша милость, и пусть я здесь умру от этого снега, который я ем, – она взяла с земли горсточку снега, – если этот человек не знал моей матери, если он не взял у неё всех её денег, если он не убил собаку Клааса, чтобы захватить спрятанные в стене колодца в нашем доме семьсот червонцев, принадлежащих покойному мученику.
– Ганс, голубчик мой, – плакала окровавленная Катлина, стоя на коленях, – поцелуй меня в знак примирения; посмотри, вот кровь течёт; душа сделала себе дырочку и хочет выйти наружу; я умру сейчас, не покидай меня. – И она прибавила потихоньку: – Помнишь, ты убил из ревности твоего товарища, там, на плотине. – И она показала пальцем в сторону Дюдзееле. – Ты крепко любил меня тогда.
И она обхватила колени всадника и прильнула с поцелуем к его сапогу.
– Кто этот убитый? – спросил комендант.
– Не знаю, – ответил тот, – не стоит обращать внимания на болтовню этой несчастной, едем.
Народ собрался вокруг. Горожане, именитые и простые, рабочие и крестьяне, заступаясь за Катлину, кричали:
– Правосудие, господин комендант, правосудие!
И комендант обратился к Неле:
– Что это за убитый? Говори, как указует господь и истина.
– Вот он, – ответила Неле, указывая на бледного всадника, – проходил каждую субботу в keet, чтобы видаться с моей матерью и отбирать у неё деньги. Он убил одного своего приятеля по имени Гильберт на поле Серваса ван дер Вихте, но не из любви к ней, как думает эта невинная безумная страдалица, а чтобы присвоить себе одному семьсот червонцев.
И Неле рассказала о любовных делах Катлины и о том, как её мать слышала в ту ночь, скрывшись за плотиной, пересекающей поле Серваса ван дер Вихте.
– Неле злая, – сказала Катлина, – она непочтительно разговаривает с Гансом, со своим отцом.
– Клянусь, – сказала Неле, – что он кричал орлом, чтобы известить её о своём приходе.
– Ты лжёшь! – сказал всадник.
– О нет, – ответила Неле, и господин комендант и все эти знатные господа видят хорошо, что ты бледен не от холода, но от страха. Почему это уже не светится твоё лицо? Ты, значит, потерял своё волшебное снадобье, которым мазался, чтобы оно казалось сверкающим, как волны летом, когда гремит гром. Но, проклятый колдун, ты будешь сожжён пред воротами ратуши! Это из-за тебя умерла Сооткин, ты поверг её осиротевшего сына в нищету; ты, знатный барин, приходил к нам простым обывателем, и один раз принёс денег моей матери, чтобы отобрать у неё всё, что у неё было.
– Ганс, – сказала Катлина, – ты опять возьмёшь меня на шабаш и опять смажешь своим снадобьем: не слушай Неле, она злая; видишь вот кровь, – душа пробила дыру, хочет наружу; я скоро умру и попаду на тот свет, где не жжёт.
– Молчи, сумасшедшая ведьма, – сказал всадник, – я тебя не знаю и не знаю, о чём ты говоришь.
– И однако, – сказала Неле, – это ты приходил к нам с товарищем и хотел дать мне его в мужья; ты знаешь, что я его не хотела. Что сталось с глазами твоего друга Гильберта, после того как я вцепилась в них ногтями?
– Неле злая, – сказала Катлина, – не верь ей Ганс, дорогой мой. Она сердится на Гильберта за то, что он хотел изнасиловать её; но Гильберта уже нет теперь, черви его съели; и Гильберт был противный; только ты красавец, Ганс, дорогой мой, а Неле злая.
После этого комендант сказал:
– Женщины, идите с миром.
Но Катлина не хотела уйти с места, где стоял её возлюбленный. Пришлось силой отвести её в жилище.