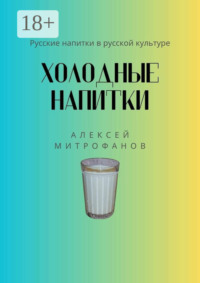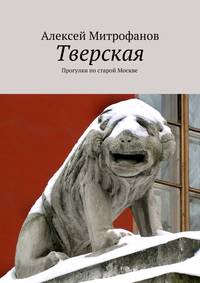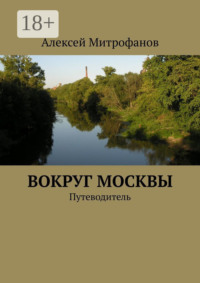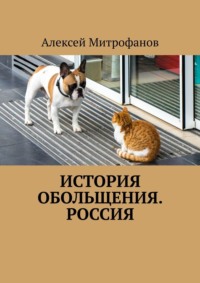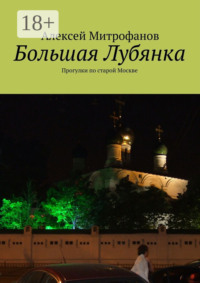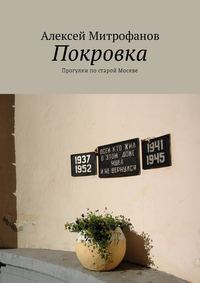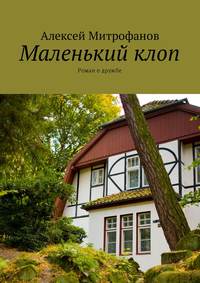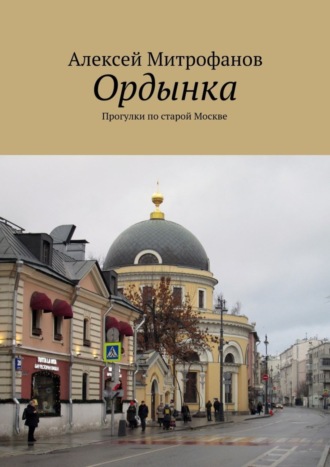
Полная версия
Ордынка. Прогулки по старой Москве
Уэллс в общих чертах знал историю этого дома.
Самым же колоритным постояльцем был Энвер-паша, опальный военный начальник из Турции. Один из современников писал: «Были времена, когда жители дома находили Энвер-пашу несколько беспокойным, но, правда, волнующим компаньоном за столом. Так однажды, за едой, он взял бумагу и карандаш и стал рисовать портрет мистера Вандерлипа. В то время, когда он с жаром затушевывал густые черные брови своей натуры, у него сломался карандаш. Тут его застольные собеседники со страхом увидели, как он, яростно вскрикнув, внезапно выхватил из ножен огромный и опасно выглядевший кинжал. Все подались назад от ужаса. Зять калифа аккуратно заточил карандаш и после этого, вложив смертельное оружие в ножны, возобновил свое занятие».
В особняке появлялась и Айседора Дункан. Да еще как появлялась! Устроила целый скандал, да какой! Ирма Дункан (приемная дочь Айседоры и участница всех тех событий) писала: «Флоринский зашел узнать, не захочет ли Айседора пойти с ним на вечер, где должны присутствовать лидеры коммунистической партии. У него была машина, которая ждала на улице, чтобы доставить на вечер танцовщицу. Мысль о том, что она встретится лицом к лицу с великими людьми, которые сражались за революцию и установили новый порядок, привела ее в трепет. Она представляла себе, как она объясняла потом, что увидит идеалистов с просветленными лицами, одетых так, как одевались многие толстовцы, в простых крестьянских одеждах, и любовь к людям будет сиять подобно нимбу вокруг них. Поэтому она поспешила переодеться в то, что считала наиболее соответствующим такому случаю. Она скоро появилась в своей лучшей красной тунике, поверх которой задрапировалась в алую кашемировую шаль – ту самую, в которой она всегда танцевала свои революционные танцы, в частности „Марсельезу“… Вокруг головы она закрутила красный тюлевый шарф в виде чалмы. Затем, накинув на плечи плащ, она отправилась с Флоринским на свою первую встречу с коммунистическими лидерами».
Но реальность оказалась несколько иной: «Вечер давался в особняке Карахана (в то время заместителя наркома иностранных дел. – А.М.), который Клер Шеридан так хорошо описала в книге, рассказывающей о ее жизни в России. Этот дом, который стоит на южной стороне Москвы-реки и фасадом выходит на Кремль, когда-то принадлежал сахарному королю России и демонстрировал плохой вкус в убранстве интерьера.
Айседора, сияющая и взволнованная, явилась со своим эскортом в большой зал, декорированный и даже сверхдекорированный в стиле Людовика XV. За большим столом в центре зала сидели все товарищи, важные, довольные и хорошо одетые. Они слушали, бросая взгляды, выражавшие разную степень интереса, на даму, которая стояла у большого рояля и щебетала какую-то французскую пастораль:
Айседора едва верила своим ушам и глазам. Она переводила взгляд с певицы в вечернем платье на потолок с фигурами, движущимися в менуэте, в стиле псевдо-Ватто. Затем ее глаза отметили аляповатую позолоту в дурном вкусе; затем она взглянула на товарищей, сидящих вокруг и слушающих вокальную бессмыслицу, как любая группа преуспевающих граждан среднего класса в любом месте цивилизованного мира. Выступавшая закончила свою «Пастораль» и совсем было уж собралась начать «Галантную песню», когда оскорбленная танцовщица выступила на середину зала.
– Да вы соображаете что-нибудь! – вскричала она. – Выбросить буржуазию только для того, чтобы забрать себе ее дворцы и наслаждаться теми же нелепыми древностями, что и они, и в том же самом зале. И вы все сидите здесь, в этом месте, переполненном плохим искусством и меблированном в дурном тоне, слушая ту же безвкусную музыку. Ничего не изменилось. Вы просто захватили их дворцы. Сколько ни меняй, все то же выйдет. Вы сделали революцию, и вы должны были первым делом уничтожить все это ужасное наследие буржуазии. Но вы более Ироды, чем сам Ирод. Вы не революционеры. Вы буржуа в маске. Узурпаторы!
В гробовом молчании Айседора, как огнедышащий Ангел мщения в пылающем одеянии, выплыла из зала со своим изумленным эскортом. Когда она вышла, в зале поднялся переполох. Он утих только тогда, когда некоторые из наиболее важных лидеров, сидящих за столом, взглянув на дело по-новому, решили, что товарищ, приехавшая из-за границы, была не так уж не права. Но инцидент вызвал столько толков, что даже Луначарский отметил его в статье, которую он позже написал о танцовщице».
* * *
А в 1929 году тут разместилось посольство Великобритании. Что, кстати, здорово разнообразило жизнь учеников вышеупоминавшейся школы. Посольство представляло из себя большой соблазн. Кто-то из старшеклассников прогуливался перед воротами в цилиндре на голове, кто-то проникал на территорию посольства, а в качестве удостоверения личности на полном серьезе предъявлял логарифмическую линейку. Удержаться от подобных каверз было невозможно.
* * *
Рядом же, в доме Майтовых (более известном среди краеведов по другому владельцу как Бахрушинское подворье) устраивались знаменитые сеансы спиритизма. Предприниматель Н. А. Варенцов описывал одно из этих сборищ: «После обеда хозяин, Решетников и я пошли в гостиную и начали продолжать заниматься спиритизмом, остальные гости остались в столовой. Майтов положил на стол овальной формы из красивого дерева лист белой бумаги, сели вокруг этого стола, составив из рук цепь. В руке Решетникова находился карандаш, и все молча углубились в ожидание. Карандаш скоро что-то начал писать, тогда Майтов обратился к мнимому духу с просьбой сообщить свое имя. Карандаш написал: «Мария». – «Как отчество?» – «Николаевна». – «Фамилия?» – «Самойленко». Последний вопрос повторялся три раза, так как фамилия Самойленко для нас всех троих была неизвестна, но ответ получался все тот же.
Тогда, после третьего переспроса, я вспомнил, что у меня была тетка Мария Николаевна Самойленко, которую я видел только в течение трех дней ее пребывания в Москве, когда она приехала из Варшавы, чтобы повидать своего отца, и остановилась у нас; она осталась у меня в памяти только из-за хорошего подарка, врученного мне при отъезде, я был тогда в возрасте шести-семи лет. Потом, когда мне исполнилось восемнадцать лет, мой дядя сказал мне: «Умерла моя сестра Мария Николаевна в Варшаве, в психиатрической больнице Св. Иисуса. Мне известно, – добавил он, – у ней остались средства, находящиеся в банке; наследниками этих денег являетесь вы и я, а потому не съездите ли вы в Варшаву и не узнаете ли все подробности?» Я поехал с одним из своих товарищей, поляком, едущим в то время по своим делам туда. Он мне рекомендовал какого-то адвоката, который навел справку и разузнал, что М. Н. Самойленко действительно была в больнице душевнобольных Св. Иисуса, скончалась, погребена на таком-то кладбище; скончалась она больше двух лет назад, и оставшиеся у ней деньги поступили в пользу города Варшавы в силу существующего закона. Подтвердил, что все ее деньги перешли на законном основании к городу и оспаривать это он не возьмется.
Вспомнив все это, я сказал моим компаньонам по сеансу: «Самойленко – это моя тетка, умершая двенадцать-тринадцать лет тому назад». После чего я задаю вопрос: «Как ты доводишься мне?» – «Твоя тетка!» – «Что тебе нужно?» – «Молитвы и милостыни!» – «Где умерла?» – «В Смоленске». Это сообщение ее уже было неверно: мне известно, что она скончалась в больнице Св. Иисуса и погребена в Варшаве. Переспросили несколько раз, и ответ получался: «В Смоленске». Зная ее отношения с братом Николаем Николаевичем, о которых часто мне рассказывала матушка, с которым, как говорила, она жила как кошка с собакой, с постоянными ссорами и неприятностями, я задал вопрос: «Что желаешь передать своему брату Николаю Николаевичу?» Карандаш с силой вырывается из рук Решетникова и ломается. Взяли другой. Опять задаем тот же вопрос. Карандаш опять вырывается из рук Решетникова и далеко падает от стола.
После чего встали из-за стола и протянули над ним руки. Стол быстро двинулся к двери и ударился в нее; его водворили на старое место, но только протянули руки, как он опять еще с большей силой подбежал к двери и ударился в нее. Гости из столовой, услыхав шум и наши удивления, вошли в гостиную, но стол больше уже не двигался».
А потом начался настоящий детектив. Предприниматель Варенцов, заинтригованный неточностью сеанса – тем, что его тетка заявила, будто умерла в Смоленске – отправился в Варшаву, где жила его сестра. Вместе с сестрой они пошли в больницу Иисуса, расспросить монашек. И выяснилось, что в один прекрасный день тетка Самойленко сбежала из больницы. Обнаружив это, сестры милосердия сразу же приступили к поискам. На железнодорожном вокзале поиски увенчались успехом. Обнаружились свидетели, которые случайно видели, как некая странного вида дама, и притом без багажа, села в московский поезд.
Мобилизован был усиленный наряд сестричек. Они выходили на перрон на каждой станции, где останавливался упомянутый московский поезд. И в Смоленске нашлись новые свидетели – они рассказали, как некая странная дама вышла из поезда, взяла извозчика и направилась в центр Смоленска.
В скором времени нашли и самого извозчика. Тот указал меблированные комнаты, в которые отвез странную пассажирку. И уже в этих меблирашках выяснилось страшное – туда и вправду прибыла дама без документов и без багажа, но через день скончалась. Тело забрали и перевезли опять в Варшаву, где оно и было предано земле.
Таким образом вышло, что дух тетки не врал. Правда, и денег по наследству Варенцов не получил, а только на поездку поистратился.
Дом же впоследствии был продан В. Бахрушину. Продан за бесценок – всего-навсего за 140 тысяч рублей. Хотя незадолго до этого за дом предлагали значительно больше, а именно 300 тысяч рублей. Предприниматель Варенцов советовал тогда владельцам:
– Продайте, по-моему цена хорошая! Тем боле, что в доме вашем не имеется канализации и спускаются все нечистоты в поглощающие колодцы, а по городским обязательным постановлениям делать этого нельзя. Вас заставят сделать бетонированные ямы, и нечистоты придется вывозить, а это обойдется чрезвычайно дорого.
Майтовы его, однако, не послушались. И в результате здесь расположился «Дом бесплатных квартир для вдов с детьми и учащихся девиц имени братьев Бахрушиных» – благотворительное учреждение со школами, прачечной, баней и даже качелями.
Прелестная девчушка Фиалки продавала,Те, что весенним утром Она сама сорвала.Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла,Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла!Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла,Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла!
Подворье господина Кокорева
Здание гостиницы «Кокоревское подворье» (Софийская набережная, 34) построено в 1860-е годы по проекту архитектора А. Васильева.
Род купцов Бахрушиных гораздо более известен, чем купцов же Кокоревых. Тем не менее, «Кокоревское подворье» на Софийской набережной несравненно известнее «Бахрушинского подворья» на Софийской набережной же.
Причина тому в обустройстве гостиницы Кокоревых. Отсюда – и престиж, и слава.
Нет, Василий Кокорев был не последний человек своей эпохи. Павел Бурышкин так писал о Кокореве в своем исследовании «Москва купеческая»: «Василий Александрович Кокорев был сын солигалического купца средней руки, торговавшего солью. Мать его была женщина редких качеств, и всю свою жизнь Кокорев внимательно слушал ее советы. Семья была старообрядческая, принадлежала к беспоповскому поморскому согласию, и Василий Александрович до конца дней своих остался верен верованию отцов. Получил он весьма малое образование, нигде не учился, кроме как у старообрядческих начетчиков, никакой школы не кончил. Рано начал он заниматься торговой деятельностью и на ней приобрел необходимую в жизни опытность. Отсутствие книжных знаний пополнил чтением и вошел в ряд людей глубокой культуры; был хорошим оратором, красочно и остроумно – со словечками – выражал свои мысли; обладал литературным талантом и оставил ряд трудов, из которых самый значительный носит название „Русская Правда“».
Деньги Кокорев тратил со вкусом. Среди его деяний – множество весьма разнообразных и вполне достойных. Тот же Бурышкин писал: «Ставши богатым человеком, Кокорев дал полный простор и своей энергии, и своей творческой инициативе. Он был одним из пионеров русской нефтяной промышленности, создав еще в 1857 году, в Сураханах, завод для извлечения из нефти осветительного масла, и Закавказское торговое товарищество, а впоследствии – Бакинское нефтяное общество. Он организует Волжско-Камский банк, сразу занявший видное место в русском финансовом мире; утверждает Северное страховое общество; строит в Москве знаменитое Кокоревское подворье, где имеется и гостиница, и торговые склады, – сооружение, которое стоило 21 миллиона, – цифра рекордная по тому времени; наконец, участвует в создании русского Общества пароходства и торговли.
Помимо своей деятельности в области народного хозяйства, Кокорев немало работал и в области общественной. Высшей точкой его общественной карьеры был год после Крымской войны. По совету Кокорева, во время Крымской войны откупа были сданы на новое четырехлетие без торгов, и это было временем наибольшего его значения. По окончании войны он обратил на себя внимание торжественной встречей, организованной черноморским морякам, приехавшим в Москву. Представители московского купечества в ноги кланялись защитникам Севастополя, а откуп разрешил героям три дня пить безданно и беспошлинно…
Общее оживление и пробуждение общественного мнения после Крымской войны встретили в нем горячего сторонника. Над его либерализмом подсмеивались и в шутку называли его «русским Лафитом».
Поэт Н. Ф. Щербина находил, что на Кокорева нет и рифмы на русском языке, чтобы достойно воспеть его деяния. Но когда в первые годы царствования Александра II началось движение в пользу освобождения крестьян, – как это ни странно теперь, эту реформу нужно было пропагандировать, – он занял в ряду защитников отмены крепостного права одно из первых мест. На обеде в Английском клубе (1857) он произнес речь, напугавшую московского генерал-губернатора. Кроме того, издал ряд брошюр, в частности «Миллиард в тумане». Эта кличка так и осталась за ним в Москве».
Кроме того, господин Кокорев был знаменитым коллекционером. Тем не менее, Кокоревы не выбились в «ведущую пятерку» купеческих родов Москвы.
* * *
Гостиница была, однако, хороша. Пусть не дешевая, однако же престижная. Просторная, солидная, украшенная множеством наличников и арок. Было в ней при этом что-то романтическое, более того, загадочное. Чехов, к примеру, говорил в письме к приятелю, писателю Леонтьеву-Щеглову: «Вы опять в мрачном „Кокоревском подворье“. Это Эскориал, и Вы кончите тем, что станете Альбой. Вы юморист, по натуре человек жизнерадостный, вольный, Вам бы нужно жить в светленьком домике, с хорошенькой голубоглазой актриской, которая весь день пела бы Вам тарарабумбию, а Вы, наоборот, выбираете все унылые места вроде Кокоревки».
Впрочем, это место вовсе не было таким уж сверхъестественно унылым. Больше того – Чехов сам при случае там останавливался. А также Верещагин, Крамской, Репин, А. М. Васнецов, Чайковский, Мельников-Печерский, Мамин-Сибиряк и множество других, не менее маститых современников.
И, конечно же, важную роль играло местоположение гостиницы. Художник Верещагин вспоминал: «Задумав написать Наполеона, я выбрал именно Москву, потому что здесь завязан был узел нашествия на Россию двунадесяти языков, здесь разыгралась самая страшная картина великой трагедии двенадцатого года. Я чувствовал необходимость бывать возможно чаще в стенах Кремля для того, чтобы восстановлять себе картину нашествия, чтобы проникнуться тем чувством, которое дало бы мне возможность сказать правду о данном событии, правду, не прикрашенную, но такую, которая действовала бы неотразимо на чувство русского человека».
Находилась бы гостиница В. Кокорева где-нибудь на Пресне – вряд ли бы Верещагин выбрал именно ее. А так – строго напротив Кремля, лучшего и пожелать невозможно.
Впрочем, близость Кремля привлекала и тех, кому он не был нужен «по делу». Чайковский признавался: «Как у меня хорошо в гостинице! Я отворяю балкон и беспрестанно выхожу любоваться видом на Кремль».
Вид там и вправду был, что называется, на уровне.
Разве что бытописатель Н. Скавронский жаловался: «Хорошо бы, пожалуй, у Кокорева в гостинице у Москворецкого моста, да уж слишком русским духом пахнет, чересчур!»
Но не для всех это было препятствием.
Правда, со временем дела у Кокорева пошли на спад, он продал гостиницу новым хозяевам, которые назвали ее скромненько – «Софийское подворье».
* * *
Рядом же возвышается пресимпатичнейшая колокольня церкви Софии Премудрости Божией, в честь которой, собственно, назвали набережную.
Но, несмотря на значимость этого храма, городские жулики его не обходили стороной. К примеру, газета «Московский листок» сообщала в 1889 году: «24 мая, из церкви св. Софии на Софийской набережной, во время совершения поздней литургии, неизвестно кем похищено серебряное кадило, висевшее на подсвечнике, стоящее 50 рублей».
Не состояние, конечно, но и не плохие, в общем, деньги.
Ягодный торг на Болоте
Болотная площадь известна с XV века.
А на противоположной стороне так называемого острова – площадь, некогда носившая имя художника И. Репина, а в 1993 году переименованная в Болотную – ей возвратили старое, дореволюционное название.
В 1727 году сюда – с центральной, Красной площади – перенесли место публичных казней. А в 1775 году на этом месте был казнен главный бунтарь Е. Пугачев.
А. Т. Болотов писал об этом достопамятном событии: «Москва съезжалась тогда смотреть сего злодея, как некоего чудовища, и говорила об нем… Эшафот воздвигнут был четырехсторонний, вышиною аршин четырех и обитый снаружи со всех сторон тесом и с довольно просторным наверху помостом, окруженным балюстрадой. Посреди моста воздвигнут был столб с воздетым на нем колесом, а на конце утвержденною на него железною острою спицею. Вокруг эшафота сего в расстоянии сажен на двадцать поставлено было кругом несколько виселиц, не выше также аршин четырех, с висящими на них петлями и приставленными лесенками. Мы увидели подле каждой из них палачей и самых узников, назначенных для казни, держимых тут стражами.
Не успела колесница подъехать с злодеем к эшафоту, как схватили его и, взведя по лестнице наверх, поставили на краю восточного его бока. В один миг наполнился тогда весь помост множеством палачей, узников и к ним приставов, ибо все наилучшие его наперсники и друзья долженствовали жизнь свою кончить вместе с ним на эшафоте, почему и приготовлены были на всех углах оного плахи с топорами. Подле самого ж Емельки Пугачева явился тотчас секретарь, с сенатским определением в руках, а пред ним, на лошади верхом, бывший тогда обер-полицеймейстером г-н Архаров.
Как скоро все установилось, то и началось чтение сентенции приговора. Но нас занимало не столько слышание читаемого, как самое зрелище на осужденного злодея. Он стоял в длинном нагольном овчинном тулупе почти в онемении и сам вне себя и только что крестился и молился. Вид и образ его показался мне совсем не соответствующим таким деяниям, какие производил сей изверг. Он походил не столько на зверообразного какого-нибудь лютого разбойника, как на какого-либо маркитантишка или харчевника плюгавого. Бородка небольшая, волосы всклокоченные, и весь вид ничего не значащий и столь мало похожий на покойного императора Петра Третьего».
А после началось самое страшное: «Как скоро окончили чтение, то тотчас сдернули с осужденного на смерть злодея его тулуп и все с него платье и стали класть на плаху для обрубания, в силу сентенции, наперед у него рук и ног, а потом и головы. Были многие в народе, которые думали, что не воспоследствует ли милостивого указа и ему прощения, и бездельники того желали, а все добрые того опасались. Но опасение сие было напрасно: преступление его было не так мало, чтоб достоин он был помилования. Со всем тем произошло при казни его нечто странное и неожиданное, и вместо того, чтоб, в силу сентенции, наперед его четвертовать и отрубить ему руки и ноги, палач вдруг отрубил ему прежде всего голову, и Богу уже известно, каким образом это сделалось: не то палач был к тому от злодеев подкуплен, чтоб он не дал ему долго мучиться, не то произошло от действительной ошибки и смятения палача.
В тот момент пошла стукотня и на прочих плахах, и вмиг после того очутилась голова Пугачева взоткнутая на железную спицу на верху столба, а отрубленные его члены и кровавый труп лежащими на колесе. А в самую ту ж минуту столкнуты были с лестниц и все висельники, так что мы, оглянувшись, увидели их всех висящими и лестницы отнятые прочь. Превеликий гул от аханья и восклицания раздался тогда по всему множеству народа.
Надлежало потом все части трупа сего изверга развозить по разным частям города и там сжигать их на местах назначенных, а потом прах рассеивать по воздуху».
Князь А. А. Вяземский (генерал-прокурор Сената) рапортовал Григорию Потемкину: «Вчерашнего числа в одиннадцать часов утра действие исполнено… Пугачев был в великом раскаянии, а Перфильев и Шигаев толиким суеверием и злобою заражены, что и после увещания от священника не согласились приобщиться. Перфильев же и во время экзекуции глубоким молчанием доказывал злость свою, однако, увидя казнь Пугачева, смутился и оторопел.
Таким образом, совершилось наказание злодеям, и завтрашнего дня как тела, так и сани, на которых везен был Пугачев, и эшафот – все будет сожжено».
Впрочем, власти сразу поняли, что с «действием» явно переборщили. Публичные казни в Москве были отменены, всякие упоминания о Пугачеве запрещены, а Екатерина Вторая советовала князю Вяземскому «Прошу быть весьма осторожными, дабы не ускорить и без того довольно грозящую беду… Ибо если мы не согласимся на уменьшение жестокостей и умерение человеческому роду нестерпимого положения, то против нашей воли крестьяне сами свободу возьмут рано или поздно».
Возможно, если бы не это указание, то революция в нашей стране случилась бы гораздо раньше 1917 года.
* * *
Впрочем, еще в средние века Болото использовалось для публичных казней. В частности, во времена царевны Софьи здесь казнили некую Анфису, обвиняемую в умерщвлении своего супруга. Да не просто казнили, а страшной, мучительной казнью. Ее закопали.
На Болото бедную Анфису доставили, можно сказать, почетным образом – на розвальнях и с барабанным боем. Затем Анфису высадили – тоже, можно сказать, не без почестей. По крайней мере, в VIP-зоне – участок, на котором совершалась казнь, был огорожен. Правда, забор сделали невысоким – чтобы народ не мог вмешаться в дикий ритуал, однако мог его спокойненько разглядывать. Яма-могила была уже вырыта, достаточно глубокая, однако неширокая – закапывали стоя.
Анфису выгрузили из саней, связали руки за спиной. Приказный прочел приговор: «По статье четыренадесятой главы двудесятой первой „Соборного Уложения“, в коей написано: а буде жена учинит мужу своему убийство или окормит его отравою, а сыщется про то допряма: и за то ее казнити – живую окопати в землю и казнити ее такою смертью безо всякия пощады, хотя будет убитого дети или иные кто ближние роду его того не похотят, что ее казнити; а ей отнюдь не дати милости и держати ее в земле до тех мест, покамест она умрет – великие государи цари и великие князья Иван и Петр Алексеевичи и царевна великая княжна София Алексеевна указали: казнити таковою смертною казнью женку Анфису Семенову за убийство мужа ее, торгового человека Андрея Викулова, по прозванию Тябота, дабы другим женкам, глядя на ту ее казнь, неповадно было так делати».
А им, пожалуй что, и вправду было неповадно. Этнограф Е. Карнович так описывал собственно казнь: «Палачи подтащили молодую женщину к самой яме и опустили ее почти до подмышек, как в мешок. Они взялись за заступы и живо закидали пустое пространство землею, которую потом плотно утоптали ногами. Над утоптанным местом виднелось бледное, искаженное ужасом лицо Анфисы, которая отчаянно мотала головою и двигала плечами, как будто силясь раздвинуть охватившую ее могилу и вырваться оттуда. Заметно было, что она хотела закричать или сказать что-то, но не могла, и губы ее только судорожно шевелились. Длинные и густые ее русые волосы от сильного движения головы разметались во все стороны и попризакрыли ей лицо.
Стоявшая около забора толпа, поглазевши некоторое время на молодую окопанную женщину, начала мало-помалу расходиться, а подле Анфисы стал на стражу с пищалью на плече стрелец, обязанный смотреть, чтобы мученице, обреченной на медленную смерть, никто не дал напиться или поесть. В некотором расстоянии от Анфисы, прямо перед ее лицом, поставили подсвечник с зажженною восковою свечою».
Сколько мучилась несчастная Анфиса – неизвестно. Но, как правило, казненные подобным образом жили в земле примерно пару дней. И умирали, будучи вконец безумными.