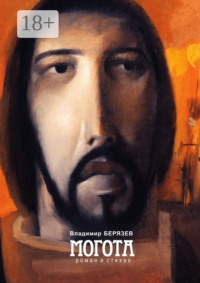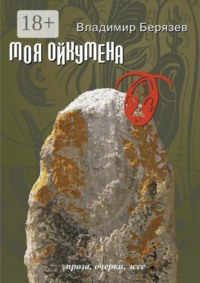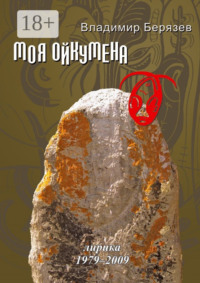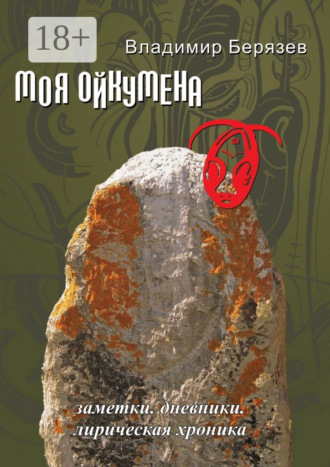
Полная версия
Моя ойкумена. Заметки. Дневники. Лирическая хроника
Что ж, вполне! Тут и Сибирь, и Россия, и история, и вот тебе молодой, талантливый, 24-летний автор Артур Рустэмович Яхин из Казани (сейчас проживает в Красноярском крае) со своими необычными, этно-модерновыми, поэтичными вещицами, почти верлибрами. Подрастающее, так сказать, поколение, смена литературная, надежда российской словесности. Ага!
Но тут-то мы и споткнулись. На этой надежде.
Сначала в своём блоге молодой и перспективный автор выдал страницу ругани в адрес журнала. А после направил нам цикл писем. Вот образчики:
«1. На каком основании вы без согласования со мной дали тексту быдловатый и невнятный заголовок «Корневой побег»? (хорошее название, журнал всегда даёт названия подборкам самостоятельно – В.Б.)
2. Я же вам повторно (в ходе декабрьской переписки) прислал откорректированный вариант произведения, почему вы отдали в печать тот, что я посылал в апреле? В частности, в откорректированном варианте эпиграфа к тексту «Кощеева смерть» строчка «где ларец – я не знаю» была заменена на просто «ларец».
3. Почему эпиграфы набраны тем же шрифтом, что и текст, и расположены неподобающим образом (слева)? (известно, что в онлайн версии форматирование не сохраняется)
4. Почему без согласования со мной вы корректировали непосредственно само произведение? В частности, в последнем предложении текста «Герр» у меня стоит «не вполнО целым». Именно через «О». Если вы посчитали, что это опечатка, то вы обязаны были сначала спросить у автора. Ибо это не опечатка. «Не вполно целым» отводит читателя к прилагательному «неполноценный». Из-за вашего вмешательства сия догадка изуродована.
Далее, в конце текста «Фолк» у меня нет никакого многоточия, почему вы его поставили? Я что, сопливая мечтательная девочка, чтобы текст многоточиями заканчивать?
И какого чёрта вы посмели поставить в конце предложения «Или же на каждого представителя имеется племя, ещё не начавшее своё существование.» вопросительный знак? Вы что, слепой и не видите, что там точка?! Это не эссе, это художественный текст, в нём нет и не может быть никаких вопросов в никуда. Хули вы испоганили всё произведение?
…Если вы не можете уловить разницы, то спрашивайте, прежде чем редактировать чужой текст без согласования с автором. В итоге своими подобными действиями вы всё равно что истыкали жирными пальцами только-только написанную картину. Люди будут читать и у них возникнут вопросы и недоумение.
Всех примеров вашего вмешательства в полотно текста я перечислять не буду, так как нет времени.
Вы лично меня крайне огорчили. А так как вы — представитель всего журнала, то и о журнале «Сиб. Огни» я отныне весьма низкого мнения.
Величайше благодарю за уродование моего произведения. Бью челом.
Без уважения, из c. Астафьевка Канского р-на Красноярского края.
P.S. Будь вы прокляты слепотой и руки ваши пусть отсохнут за ваше бытовое отношение к ЛИТЕРАтуре. Литература – это не только сюжеты вшивые, но и искусство игры с буквами».
Дальше, увы, ненормативная лексика, которая в нашем издании не приветствуется.
В следующем письме он угрожает судом.
В последующем переходит на прямые оскорбления редактора отдела прозы Попова Владимира Николаевича, который – а я знаю это доподлинно – является одним из лучших мастеров своего дела. Редактор – это произведение штучное, антикварное, такого в наше время уже не производят на свет ни ВУЗы, ни издательства. Беречь надо редактора, а не хулить.
Неожиданно эта история получила продолжение от другого нашего автора, тоже молодого прозаика, новосибирца, Серафима, получившего приз зрительских симпатий и пятое место в прошлогоднем подведении итогов премии НОС:
«Случайно попалось на глаза «открытое письмо» какого-то из ваших авторов (из села в Канском р-на Красноярского края) с недовольствами по поводу не того редактирования его текстов и ещё там с чем-то важным, по его мнению («а» на «о» исправили вопреки его воле, негодяи в редакции, ату их).
Тяжка ваша доля, как вижу.
Уж лучше и безопаснее для нервов быть плохим автором, чем хорошим редактором (главредом) – плохой автор всё равно может утешаться, что он непОнятый гений, а вот редактор всегда будет виноват, – нафик-нафик.
Я его письмо позже перечитал – как-то… гипертрофированно жестковато, показалось, выражается. Я, конечно, не поэт, у поэтов, может быть, в силу особых отношений со словом, всё не так и нерв другой, но метать такие молнии не просто в левого отказавшего редактора, а напечатавшего тебя – может, открывшего тебя даже в твоём Тараданово (это у нас деревенька неподалёку была, синоним захолустности) – а ты наотмашь человека хлещешь. Я почему-то батю вспомнил – до сих пор не могу на него голос повысить или матом ему что-то сказать, даже если повод есть, – это же батя, как можно. И тут тоже – тебе помогают, ты спорь, доказывай, но вот так возноситься – это либо жизнь не била, чему возраст способствует, либо и вправду гениальный гений и не видит под собой тварей копошащихся, всё под собой мерит. Из меня, правда, поучатель ещё тот…»
Мой ответ Серафиму:
Не вполне согласен! Яхин, очень талантливый парень, но вот беда, ему только 25 лет, а в этом возрасте кажется, что каждая изошедшая из тебя поэтическая буква является мировым достоянием, сокровищем, охранять которое должны все институты не только гражданского общества, но и близлежащие ОПГ и тоталитарные секты, больше того – всё чловевечество в едином порыве. Если он не поймёт, что литература не есть игра в буквы и смыслы (он так считает), а нечто связанное с Духом и с его стяжанием, с сопряжением Бога и Красоты, значит срок его, увы, очень недолог. А жаль, мальчик одарённый. Что касается Шахназарова (хорошая русская фамилия), перешли мне его тексты, посмотрю. М.б. и чего выгорит. Но не обещаю. Привет!
В.Б.Яна Гарина:
– Да Вы святой! После всего, что молодой талантливый автор понаписал, еще его и оправдываете. Знаете, прочитав эти его письма, совсем не хочется читать его художественные тексты. Поверю Вам на слово, что талантливый. Пусть будет так.
– Нет, Яна, просто я помню себя 25 лет назад. Это ж такая хрупкая штука, чувствуешь, что в тебе сокровище, но никому ненужное, как скрипка в алтайском аиле, – уронишь… и всё вдребезги. Таким помогать надо. Погубят – и талант, и себя.
Андрей Василевский, «Новый мир»:
– Молодой автор груб, но ЮРИДИЧЕСКИ ПРАВ.
– Однако так, коллега. Но сие справедливо в отношении коммерческих литературных проектов. Но там с автором издатели разговаривают куда жёстче. В толстом журнале мы ведём речь о литературе, поэзии, высоком искусстве. По крайней мере, целеполагание таково. Если автор изначально стоит на позициях юридической неприкосновенности, не считаясь с опытом и мнением коллегиального Маэстро, прячется за частокол Закона, то ему лучше заняться сетевым маркетингом колготок или презервативов. Флаг в руки!
Андрей Василевский, «Новый мир»:
– Надеюсь, вам никогда не придется убеждать судью, что что «высокое искусство» выводит вас (=журнал) из зоны действия 4 части ГК РФ (смайл).
– Надеюсь, не придётся. Именно с этой целью мы сформулировали на обороте титула: «Редакция в праве». Там не так много условий: возможный журнальный вариант; правка, в соответствии с нормами русского языка и ещё что-то, какие-то мелочи. Разумеется, в сложных случаях желательна работа непосредственно с автором. Но, если вы считаете, что приведённое письмо есть основа иска, то, думаю, все толстые журналы должны закрыться по судебным решениям. И ваш в том числе.
Андрей Василевский, «Новый мир»:
– Кстати, делать из предлагаемой автором рукописи «журнальный вариант» БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С АВТОРОМ прямо противоречит 4 части ГК РФ. А «работа с автором» не «желательна», это юридическая необходимость. Ещё – этот молодой автор есть ваша проблема, а не моя, что ж мне-то о нем беспокоится.
– Есть проблема, есть! приходится констатировать. Но при потоке журнальной работы не всегда удаётся согласовать PDF, особенно если амбиции автора хлещут через край и предыдущий вариант уже отправлен в печать. Для этого и придуманы оговорки «Редакция вправе…» Чаще всего телефон помогает снять все вопросы. Но сложные случаи встречаются. Делаем выводы. Хотим жить в условиях правового государства – будем мало помалу, да-да, приспосабливаться. Вот и Ивантер подсевает, но у него, вроде, нет претензий к «Сибогням». И 98 процентов авторов – тож. Но племя младое… Я ведь не об юридической стороне писал, скорее, об этической. М-мда…
Ивантер:
– В юности я очень болезненно относился к любой правке. Сегодня – то ли мои тексты уже сложно испортить, то ли мне стало на них несколько начхать – сказать сложно. Любовь автора к своему тексту это нечто вроде религиозного чувства. Чувство это совершенно бессмысленное, но надо относиться к нему с уважением, а то будет ещё более бессмысленная война и ненависть.
Тыцких:
– Володя, посмотрел. Насчёт «Моя запятая – не трожь!» – такое, все-таки, детское самомнение… Но из мозолистой этой проблемы нет универсального выхода. В общем, да, надо согласовывать с авторами. А в частности… У книги хозяин – автор, там его слово первое и последнее. В журнале бугор – редактор. Тут последнее слово за ним. Иначе на фиг он нужен? Набрали с ошибками текст, вывалили верстаку, тиснули пять экземпляров – счастливые обладатели памятника нерукотворного, облизывайте свои запятые… Правда, редактор должен быть редактором. Пока, слава Богу, такие есть, но как-то идут на убыль. Ежели они кому не нр-р-равятся – гуляйте по-свободному, кто держит? Законы к творчеству не приспособены, в них можно тупо упираться без шанса двигать дело. Кто будет судить-оценивать? Тяма подходящая нужна, где ж ее взять каждому желающему, даже и из тех, кто запятые ставить умеет? Хотя всякий, как правило, думает, что уж он-то… А завести дело, в принципе, несложно. Но мы о чем болеем? О кодексах? Или о литературе? С этого бы вопроса и начать всем законникам и гениям неприкасаемым. Но тут опять же нужна та самая – тяма… Так что тащи свой крест дальше, а пришлют повестку – зови, буду свидетелем защиты.
– Ну, утешил, атаман! Дальний Восток голосует за примирение редакторского произвола и авторского права в рамках Школы и Традиции. Как видишь, Володя, редактор Нового мира стоит на букве Гражданского кодекса и в этом есть своя правота, видимо, выстраданная. За поддержку – поклон низкий, но будем стараться, чтобы до судов не дошло. Работать будем с молодёжью, работать. А куды деваться…
Аноним-Яхин:
– Здравствуйте. Во-первых, что за мода такая – всё малопонятное называть «постмодернистским»? Постмодерн – фикция, нет его. Во-вторых, тут одна дамочка высказалась в том духе, что-де «фи, он такой хам, даже читать не буду». Не читайте, идите перечитывайте всякую хрень своих лицемерно-вежливых товарищей, более того, не советую читать «корневой побег», так как этот текст обгажен велико-гениальными господами из «согнутого» журнала. мой текст никогда не назывался «корневым побегом» и существенно отличается во множестве деталей, лучше перечитайте написанные девкой «повестушки» – это же (далее несколько эпитетов абсценной лексики) новое слово в литературе! Василий макарович в гробу перевернулся бы, глядя на вашу псевдоинтеллигентскую свору.
– Аминь! Вы всё сказали. Вам неведомы сомнения, поэтому я очень сомневаюсь в вашем будущем. Шукшина вы зря помянули, к вам он не имеет никакого отношения, он человек традиции. Вы больны. Дай Бог, чтобы я ошибался, прощайте.
Колонка главного редактора-2
Подробный анонс февральского номера «Сибирских огней» будет ниже. А в начале коротко прокомментирую парижское интервью Юрия Кублановского «Серое утро» или ТАЙНОЕ ПОПРИЩЕ ПОЭТА», любезно переданное нам из Франции Виталием Амурским. Ещё раз убедился, что в кромешном (царском – по Пушкину) одиночестве и сокрыт залог свободы и независимости настоящего поэта. Вот характерный фрагмент: «В 90-е я чувствовал кромешное одиночество; большинство литераторов словно не замечали, что происходит, увлечённые соблазном на халяву ездить на Запад, получать премии и всякие «бонусы». А один поэт (кстати, из круга Бродского) так, примерно, мне и сказал: зря, мол, вернулся, тебе у нас ничего не светит. Я, разумеется, возвращался вовсе не затем, чтобы мне тут «светило», но, честно сказать, всё-таки удивился. И тогда он пояснил: «Ты ходишь в церковь и дружишь с Солженицыным»». Надо сказать, цинизм и подлость современной литературной тусовки мало чем отличается от начала описываемых 90-х. Но именно с той поры наметился главный водораздел в нашей культуре: виртуозов, демонстрирующих весь набор средств мастерства стало хоть отбавляй, но резкое разделение проходит именно по Вере и по отношению к России.
Символично, что Кублановский как последний, на мой взгляд, белогвардейский поэт соседствует в номере СО с полковником Камбалиным Александром Иннокентьевичем, стоявшим во главе знаменитого Ледового Сибирского похода из Барнаула в Читу в 1920 году.
Ну и любопытно сообщение Юрия Михайловича о записях, связанных с уходом Солженицына, для которых он сделал исключение, не сдав в архив, но предложил для публикации в «Новом мире». Почитаем с интересом.
Анонс февральского номера «Сибирских огней»:
В разделе прозы публикуется роман автора из Санкт-Петербурга Виталия ЩИГЕЛЬСКОГО «Время воды» – о «лихих девяностых», а также под рубрикой «Литература Новосибирска» – рассказ с восточноевропейским колоритом новосибирца Тимофея НИКОЛАЙЦЕВА «Живота своего…».
Поэтический раздел открывают стихотворения Лады ПУЗЫРЕВСКОЙ, подборка «…Vita всё dolce и dolce…»:
* * *
Прорастая Сибирью, сбиваясь с разменных «увы»,постояльцы кедровых закатов, привычные к кляпунарицательных истин – вы поздно снимаете шляпуперед звонким безмолвием, раз не сносить головы,раз пошли – по этапу.На какой – посошок?.. Наугад бы разбавить вино —не живой ключевой, а обычной водой из-под крана,вряд ли это побег – из себя, по-московскому – рано,по-сибирскому – самое то… Слышишь, вызови, но —не такси, а охрану.Что бы там ни версталось впотьмах, а не спят сторожа,стерегут, опрометчивых, нас – и от взмахов напрасных,и от звона кандального – видишь колонну на Красном?..До последнего за руки держат, а руки дрожат —здравствуй, город мой, здравствуй.Также среди поэтов – Павел ШАРОВ из Саратова с подборкой «Отшельник-остров» и Анатолий ДОМАШЁВ, подборка «На мир сквозь прошлое взглянуть».
В «Очерках и публицистике» читайте беседу Юрия КУБЛАНОВСКОГО с Виталием АМУРСКИМ. Среди прочего, мэтр замечает:
В последнее десятилетие прошлого века, то есть в Великую Криминальную Революцию – из Бродского «культурные силы» этого тяжелейшего для России общественного процесса попытались сделать нового «Маяковского», то есть поэта, чья, в данном случае отчасти релятивистская идеология – как раз пришлась ко двору. Возвысить трезвый голос, серьёзно говорить о достоинствах, но и дефектах творческого мира Бродского – за это сразу тащили в «либеральный участок». А оттуда, как известно, живым на свободу не отпускают. Но я всегда относился к Бродскому светло и независимо, и в этой мутной экзальтации участия никакого не принимал. Не исключаю, что останься он жить, нас бы с ним развели, но моей вины в этом не было б никакой.
Здесь же – впервые полностью переопубликованные (после первой публикации в Сан-Франциско в 1938 – 1940 гг.) воспоминания полковника Белой армии Александра КАМБАЛИНА «3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк в Сибирском Ледяном походе», а также исчерпывающая статья барнаульского писателя и краеведа Александра РОДИОНОВА, посвященная вышеозначенным воспоминаниям.
В разделе критики публикуется малоизвестная статья Александра КУРИЛОВИЧА «О поэте Павле Васильеве», впервые напечатанная в Чикаго в 1935 году, а также: работы Галины УЛЬЯНОВОЙ и Дмитрия МАРЬИНА, посвященные Шукшину, статья Аллы БОЛЬШАКОВОЙ о С. Трахименке и статья Юрия ФОМЕНКО о русской нецензурной лексике.
Радашкевич. Париж:
– Володя, я был свидетелем того, что к Юре и в эмиграции, до его возвращения, относились по тому же разделу – «по Вере и по отношению к России».
И его почитание Солженицына терпели точно так же, как и самого Солженицына: не по дружбе, а «по службе».
– То и тягостно. Литература, объявляющая себя приверженной Православию и клянущаяся в любви к России, по большей части является не художеством, а самодеятельностью. Модные же тексты изощренцев пронизаны ненавистью и пороком, где лишь любовь к себе, эгофилия. В поэзии русскую традицию сегодня, помимо Кублахана, ещё дёржат Кёкова с Бахытом да, по мере сил, мы с тобой грешные плюс ещё десятка полтора имён. Многия и многия ушли.
Замены нет, дичее дикости одичание…
Кто диктует? Об источнике вдохновения…
В самом начале моего знакомства с социальными сетями мне весьма и весьма пришёлся по душе попавшийся на глаза комментарий некой видной столичной издательши:
«Имея большой опыт редакторской работы в крупном столичном литературном издательстве, давно подметила: пока рукопись находится в редакторском отделе, для автора редактор – царь и бог. Но, как только книга вышла, редактор – враг автора. И даже если он не поправил ни одного слова, автор заявляет: «Было лучше, но редактор испортил».
И еще. Очень известный в советские времена поэт Евгений Евтушенко, помнится, принес в издательство рукопись книги стихов. Редактор подчеркнула неудачные строки и ждала скандала. Поэт забрал рукопись, вернулся через какое-то время и принес на каждую неудачную строку по нескольку вариантов замены. Хотя, заяви он: «Мне Бог надиктовал! Как вы смеете трогать?» – напечатали бы первый вариант».
Вспомнился в связи с этим эпизод нашего общения с Евгением Александровичем в 2003-м, по-моему, году. Тогда мне довелось выступать вместе с ним во время фестиваля поэзии на Байкале. После посещения музея Вампилова в Кутулике мы оказались в местной школе. И в силу необходимости посетили нужник. Он оказался, как и везде в провинции дощатым, разгромленным, утонувшим в грязи и нечистотах. Возмущению Евгения Александровича не было предела. Я робко поинтересовался: а, может, русским людям не хочется заниматься благоустройством дерьма, мобыть им в этом дерьме лучше мечтается о высоком… В ответ на полном серьёзе прозвучало: «Как вы можете такое говорить, вот в Европе!..»
Хотя его выступления со своими стихами (по часу) вызывали полную аналогию воспарения в вышние поэтические сферы из тёмного, обременённого бренным прахом российского быта-бытия. Всё рифмовалось и синонимировалось в итоге с этим же самым кутуликским школьным туалетом.
Кто, что и каким макаром ему диктовал – большой вопрос…
Клюев в Колпашево и Томске
В последней «ЛГ» наткнулся на высказывание Петра Палиевского на конференции по творчеству Юрия Кузнецова. Пётр Васильевич проговаривает парадоксальную мысль, которая однако после её произнесения-публикации выглядит вполне очевидной. Строки Кузнецова
Молчите Тряпкин и Рубцов —Поэты русской резервациипо сути относят этих поэтов к глашатаям и духовным выразителям народа побеждённого, народа, обречённого на угасание. Зная многих из старшего поколения современных русских писателей, готов подтвердить, что идея поражения и неминуемой гибели России почти восторжествовала в этой среде. Палиевский прав: Юрий Поликарпович Кузнецов куда шире этой нечернозёмной психологии выжженной алкоголем земли. Вселенский характер его поэзии соотносим с континентальным распространением русского человека. Кузнецов есть сын Победы, поэтому для него не существует границ ни пространственных, ни хронологических. Недаром в последние свои годы он повернулся спиной к современности, в сторону вечности Библии. В этом смысле единственным его собратом по веку двадцатому остаётся Николай Клюев.
И, видно, недаром совсем недавно случились Клюевские чтения в Томске, на которых явственно обозначилось и пророческое, и художественное, отзывчиво-всемирное значение Клюева.
«…мы посетили Колпашево, где поэт провёл почти пять месяцев в суровейших условиях нищеты и неприкаянности, оставив потомкам высочайшие образцы эпистол, в которых слились и житийные мотивы, и сказ, и плач и документальная точность.
Долгая в почти четыреста вёрст, засыпанная первым снегом дорога среди плавных северных пейзажей, которые, по свидетельству профессора С. И. Субботина, весьма напоминают вытегорско-онежские места родины Клюева».
От этой поездки осталось стихотворение.
* * *
Вдоль Нарымского края я ехал осеннею мглой, Обь свои берега вышивала морозной иглой.Над стальною водою кружили снежинок рои, И вели за ледовую власть затяжные бои.По Могильному мысу на волю – из плена болот, По мобильному зову к любимой летит Ланцелот.Ах, куда мне до этого рыцаря, скоро зима, На Кудыкину гору пора, где тюрьма да сума.Там олонецкий старец грустит на проклятом яру, Там пытаются продемонстрировать смерть на мируДобровольцы седые призыва советских времён, А бойцы молодые слагают обрывки знамёнУ подножия века, где накрепко погребены И невинные души, и мощи великой страны.И уже на стремнине то место, где в лютой ночи Пели ангелы жертвам и черпали смерть палачи.Обезьяний профессор
Из Крыма Саша Грановский, однокашник по Литинституту прислал ссылку на интервью в «РР» некоего Савельева Сергея Вячеславовича (моего ровесника, тоже 1959). Он заведует лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАМН. Надо сказать, при всей омерзительности этого текста, уверяю, его стоит прочесть1. Уж больно многое открывается в высказываниях этого сверхумного примата, настоящего царя обезьян. Тут вам и евгеника, и новый расизм, и целый Монблан надменной интеллектуальности. Основной посыл: человек живёт ради жратвы, секса и власти. Сразу всплывает образ чеховского фон Корена из повести «Дуэль» (написанной задолго до европейского фашизма). Кому интересно, прочтёт по сноске интервью обезьяньего профессора, а вот что говорил фон Корен у Антона Павловича:
– Любовь должна заключаться в устранении всего того, что так или иначе вредит людям и угрожает им опасностью в настоящем и будущем. Наши знания и очевидность говорят вам, что человечеству грозит опасность со стороны нравственно и физически ненормальных. Если так, то боритесь с ненормальными. Если вы не в силах возвысить их до нормы, то у вас хватит силы и уменья обезвредить их, то есть уничтожить. – Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого? – Несомненно. – Но ведь сильные распяли господа нашего Иисуса Христа! – сказал горячо дьякон. – В том-то и дело, что распяли его не сильные, а – слабые. Человеческая культура ослабила и стремится свести к нулю борьбу за – существование и подбор; отсюда быстрое размножение слабых и преобладание их над сильными… (и т. д. «Дуэль).
Если сатана есть обезьяна Бога, то д-р Савельев самая яркая иллюстрация этого популярного высказывания.
Получил по поводу своих предыдущих слов ряд откликов про то, что я мракобес и ретроград. Куда деваться, с точки зрения атеистов и позитивистов я и есть мракобес. Ибо я полагаю, что мир сотворён Творцом, причём, именно за шесть дней, что я являюсь прямым потомком Адама, а не обезьяны, что Христос таки воскрес (и далее по Символу веры) … А спорить с лукавым, приводить аргументы это не тот случай, здесь бы возможно помог обряд экзорцизма. Господь сказал, что Потопа больше не будет. После Голгофы выбор индивидуален. Гуманисты и либерасты отвечают за себя сами. Они думают, что если им в башку вшили четырёхядерный процессор, то вся тварь дрожащая должна им в рот заглядывать. На счёт интеллекта у нас с вами некоторые разночтения. Я полагаю, что интеллект он же ум это весьма усовершенствованный арифмометр, а вот если к нему присовокупить совесть, то и возникает то, что называется разумом: разумная человеческая сущность. То, что сегодня в большом дефиците.
В 1923 году Якоб Петерс – председатель коллегии ГПУ Туркестана и общественный обвинитель на процессе над епископом Лукой (хирургом Валентином Феликсовичем Войно-Ясенецким) спросил его: