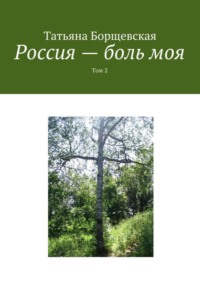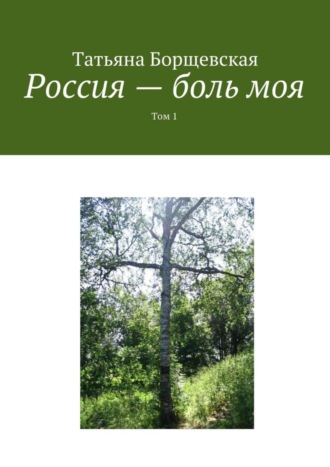
Полная версия
Россия – боль моя. Том 1
Еще у нас в саду была удивительная личность – наш повар Мария Андреевна. Дома я ничего не ела, давясь, глотала что-то «за дедушку, за бабушку, за папу, за маму», за всю мою родню (и никого нельзя было обидеть), но когда в нашу детсадовскую столовую приходила Мария Андреевна, в белом халате, в белом высоком колпаке, румяная, с ведром подмышкой, с большим половником и разливала нам по тарелкам ненавистную манную кашу, я помню, с каким аппетитом мы все ели, описывая вокруг каши сужающиеся круги: каша всегда была с пылу-с жару.
Однажды под Новый год наши воспитатели сказали нам, что нас ждет сюрприз. После полдника нас повели в «Комнату сказок». Мы вошли в нее с закрытыми глазами. Когда нам разрешили открыть глаза, раздался шумный вздох восторга. На полу комнаты лежал ковер. Стены были завешены полностью «полотнами» картин на сюжеты русских сказок (их рисовала наша Тамара Тимофеевна). С потолка свисали на ниточках гирлянды снежинок из ваты. Их было много-много, и все, казалось, было в мареве снега. Комната освещалась разноцветными фонариками. Впечатление осталось в памяти на всю жизнь.
Сейчас, вглядываясь в глубину тех лет, я думаю об этих людях, об этих бессеребренниках, которые самозабвенно в такие страшные годы, в нашей нищете и бедствиях окружали детей теплом, радостью и красотой.
Начала войны я не помню. У меня не было погожего июньского воскресенья, взорванного страшным событием, расколовшим жизнь всего народа на «до» и «после». У меня не было крутой перемены в жизни: мой отец не ушел на фронт – он был расстрелян раньше. Просто в жизнь стали входить какие-то новые люди и события. Постепенно из этого складывалось детское понимание: война. Полное же понимание происходившего пришло десятилетия спустя
Осенью 1941-го какое-то недолгое время у нас на постое было 30 казаков: они спали покатом в зале. Их голодные лошади стояли во дворе. Они съели под корень старый большой дедушкин сад, деревянное крыльцо и ворота. (После войны у нас был молодой сад – он вырос от старых корней). Голодали лошади, голодали люди, голодали мы. Голод наступил, в сущности, летом 1941-го, и для нас (на Украине, в Донбассе) он продолжался до осени 1947-го. Какое-то заметное облегчение пришло после отмены карточек в декабре 1948-го.
Стояли у нас на квартире двое очень молодых и симпатичных ребят – Шура (радист) и Вася (шофер). Если они ели дома, они всегда приглашали нас: мне запомнилась большая сковорода, вокруг которой все собирались.
Голод гнал горожан в деревни менять вещи на продукты. Вряд ли деревня была богата в те времена. Но, в отличие от времен голодомора, ситуация была обратной: деревня что-то имела, город – практически ничего. Поэтому деревенские были переборчивы и не щедры. За хорошую шубу можно было получить полтора пуда пшеницы. У нас не было шуб. Иногда мамочка моя приходила в слезах: пройдя за день 30—50, а иногда и более километров, она приносила мисочку зерна или пшена, иногда четвертушку подсолнечного масла, а нас было трое: мама, дедушка и я. При этом ноги у нее были отечные, как столбы. До сих пор не знаю, от голода или от усталости: в старости таких отеков у нее не было.
Осенью 1941-го немцы подошли к самому Лисичанску. Несколько раз их отгоняли «катюши». Я помню, как мы: мама, ее подруга, которая жила в это время у нас, и я – бегали по дому от окна к окну, чтобы видеть огненные облака, которые летели по небу. Дом дрожал, казалось, качались стены и земля. На всякий случай, на нас было надето несколько слоев одежды: если снаряд попадет в дом, а мы выживем, чтобы мы не остались без одежды. Моя мама во время войны вела себя очень смело, и я до сих пор не знаю, был ли причиной тому ее сангвинический характер, было ли это легкомыслие, фатализм или, действительно, смелость, но поступки ее очень часто выходили за рамки спокойного благоразумия. А, может быть, мудрость… Она никогда не пряталась в погребе от бомбежек и артобстрелов (погреб у нас был глубокий, большой, сухой и всегда в опасные моменты полон соседей). Этой смелостью (или легкомыслием) она заражала свое окружение.
Всю зиму 1941—1942 годов немцы простояли на подступах к нашему городу. Иногда к нам забегал комиссар дядя Володя – прямо с передовой, которая была в нескольких километрах от нашего дома. Он рассказывал, что между боями и наши, и немецкие солдаты бежали из окопов греться в ближайшие дома и, не глядя друг на друга, грели руки, стоя рядом у печей. А потом разбегались по окопам, чтобы убивать друг друга… (Зимы 1941—42, 1942-43-го годов были лютые).
Уехать в эвакуацию было практически невозможно. А у мамы на руках был больной отец, который был нетранспортабелен, и полуеврейская дочь, жизнью которой она рисковала. Может быть, если бы мама была практичней, расчетливей, настойчивей, холодней, она бы нашла какой-либо выход, но все же, надо полагать, это было в той ситуации за пределами возможного. И мы остались дома, уповая на судьбу, на Армию нашу, на «авось» – в условиях полной дезинформации это было не очень трудно.
До самого прихода немцев в городе шла какая-то жизнь: я ходила в детсад, мама – на работу: она была экономистом и работала в промбанке. Раза два я была в госпитале, читала стихи раненым. Наверное, я там была не одна, но помню только большую палату, много перевязанных раненых и то, что меня ставили на стул.
Во время артобстрелов мы в детском саду спускались в погреб. Там нам стелили ковры, зажигали свечи, и наши воспитательницы рассказывали нам сказки. Иногда туда же нам приносили еду. Артобстрелы учащались. Однажды мы два дня почти целиком провели в подвале, а на третий день (это было 2-е июля 1942 года) я снова пошла в сад. Из дома мы с мамой вышли вместе: она шла на работу, я – в сад.
Во дворе детсада было пусто. Помню, что меня поразила не пустота, а какое-то зловещее предчувствие. Навстречу мне вышла наша повар Мария Андреевна и сказала: «Танечка, а детсад сегодня не работает». Я выскочила на улицу, окликнула маму (она не успела еще уйти далеко) и попросила ее взять меня с собой.
Мы не прошли и двухсот метров, как услышали заунывно-устрашающий рев немецких бомбардировщиков: два самолета кружились, казалось, над самыми головами. Из дома напротив выскочили две мамины приятельницы с криком: «Скорей, скорей в бомбоубежище: сейчас будет бомбежка!» Мы были как раз рядом со знаменитой большой лисичанской баней. Оказалось, что под ней было огромное, почти во всю ее длину, бомбоубежище. Когда мы в него вбежали, оно было полно народа: целые семьи, с домашним скарбом, сидели на своих узлах. Нам с мамой с трудом нашли местечко в углу на скамейке. Едва мы пробрались в угол, началась бомбежка. Грохот, взрывы следовали один за другим. Иногда открывалась дверь в убежище (мы сидели от нее далеко) – входили солдаты, вносили раненых. Многие люди плакали. Мамочка шепнула мне: «А ты не плачь: умрем – так вместе». Чем сильнее были разрывы, тем крепче мамочка прижимала меня к себе. Это была моя первая встреча с реальной военной опасностью, и мама в этот момент испытания детской души сумела передать мне часть своей твердости и спокойствия, и с этим я прошла всю войну, хотя встречаться с опасностью, бороться со страхом мне пришлось еще не однажды.
Когда бомбежка прекратилась и стало как-то особенно тихо, в убежище вошел директор бани и сказал: «Товарищи, освободите помещение – мы будем взрывать котлы». (Баня – объект стратегический. Такие объекты старались немцам не оставлять).
Мы выбрались из убежища, вышли на улицу. Город был неузнаваем: всюду валялись осколки стекла и черепицы, упавшие столбы электролиний, спутанные провода. Разбитых домов я не помню. Бомбили какие-то другие объекты, не мелкие жилые дома. Но взрывные волны снесли крыши, выбили стекла, и город, только что зеленый и чистый, почти мирный, казался разрушенным и поруганным. Мы с мамой по осколкам и обломкам, перепрыгивая через провода, побежали дальше: мамочка моя не повернула домой – она бежала на работу, в банк. До банка было еще метров 300. Когда мы до него добежали, два новых мессершмидта, еще более гадко и надрывно завывая, совсем низко кружили над нашими головами. У ворот банка в подводу, в которую была впряжена одна лошаденка, грузили мешки с банковскими документами. (Их настигла бомба на мосту через Донец: и люди, и лошаденка, и документы утонули в реке.)
Через несколько минут после того, как мы добежали до банка, началась вторая бомбежка. Здесь не было бомбоубежища. Мы укрылись в комнатке (она была вровень с землей), в которой Госбанк хранил деньги. (Промбанк и Госбанк были в одном здании). В комнатке были несгораемые шкафы, какие-то койки, две железные двери и мощные запоры.
Комнатка тоже полна была народа. Почему-то было много маленьких детей. Мы с мамочкой снова оказались в углу, и она так же крепко прижимала меня к себе. Вторая бомбежка была намного продолжительнее и намного страшнее первой. Люди молились. Самым страшным был момент, когда большая бомба упала во двор банка. Взрывной волной вырвало и унесло обе железные двери нашего убежища. Волна огня ворвалась в помещение. К счастью, не было ни убитых, ни раненых. Наверное, были контуженные. Моя мама после этого довольно долго плохо слышала. Я осталась цела и невредима: наверное, мамочка надежно прикрывала меня своим телом. Для меня самым страшным впечатлением от этого эпизода остался плач детей: они кричали долго, громко, безутешно, страшно (их было трое – крошек до полутора – двух лет). После этого я, наверное, лет 15 не выносила детского надрывного плача: я не находила себе места, мне становилось необъяснимо плохо…
Потом стало тихо, страшно тихо… Мы выбрались из убежища. Воронка от бомбы начиналась от самого его порога и занимала почти весь двор банка. Здание было старинной каменной кладки: так строили крепостные башни и стены. Оно устояло. Но длинного ряда огромных красивых окон почти не было: стекол не было вообще, не было и части рам. Все было завалено внутри и снаружи каким-то мусором: штукатуркой, черепицей, стеклами, обломками мебели.
Двор банка был отделен от улицы большими зелеными (наверное, дубовыми) воротами. Они тоже устояли, только были изрешечены осколками. Все оставались во дворе, боясь выйти за ворота. Не знаю, когда кончилась бомбежка, но хорошо помню, что было 4 часа дня (так говорили взрослые), когда раздался грохот мотоциклов. Немецкая моторизованная пехота шла по улице. Мы смотрели на нее через осколочные отверстия в воротах. На противоположной стороне улицы стояли двое, мужчина и женщина, в белых одеждах и белых туфлях – они приветствовали немцев.
Когда сумерки стали сгущаться, мы с мамой окольными путями пошли домой. К счастью, мы никого не встретили. Дома оставался дедушка. Дом наш тоже пострадал. В палисадник упала бомба, но небольшая, поэтому стена осталась стоять (наверное, ее защитили большие деревья, которые росли перед домом), но осыпалась вся штукатурка внутри и снаружи, стена и осыпавшийся потолок в зале были как решето, большое трюмо упало и разбилось. Дедушка в тот момент, когда упала бомба, был на веранде, но остался невредим, только щека была поцарапана осколком.
На следующий день у нас на постое уже было двое немецких солдат. Но до этого, конечно, было проверено, нет ли в доме советских солдат и коммунистов (надо сказать, двое солдат, которые их искали, делали это не очень тщательно). А потом явился мародер, немолодой немец, который стал рыться в нашем шкафу и комоде, переворачивая вещи штыком. Но наши жалкие пожитки не привлекли его внимания. Ему приглянулся небольшой кожаный черный портфель, не новый, но в очень хорошем состоянии, с большим количеством самых разных отделений. Он его прихватил, а мама не удержалась и сказала: «И вам не стыдно? Пошлете своей фрау в Германию?» – «Но-но», – сказал немец, пригрозил маме пальцем и ушел. Вечером, когда мама закрывала ставни, он проезжал мимо на телеге, полной награбленного добра. Увидев маму, он крикнул ей: «Метхен, лови», – и бросил ей портфель. Наверное, он потерял свою ценность на фоне награбленного. А я проходила с ним в школу с 1-го по 9-й класс, пока он совсем не вытерся добела.
На этом мое пребывание в Лисичанске, который еще долгое время оставался на линии фронта, несколько раз переходил из рук в руки, прерывается. Через несколько дней после того, как в Лисичанск вошли немцы, из Сталино (ныне Донецк), который был оккупирован раньше, пришла моя тетя, чтобы спасти полуеврейское дитя своей младшей сестры, увезти меня туда, где никто не знал, кто я. Тетя прошла пешком, проехала на перекладных, на военных немецких машинах 150 километров и, без долгих сборов, увезла меня в Сталино.
Дорога в Сталино – тяжелое воспоминание. Мы ехали также «на перекладных» – на военных машинах. Большую часть пути проехали на небольшом итальянском фургоне со скошенным носом и крытым брезентом верхом. Российские дороги – это испокон веков «притча во языцех», но военные дороги, разбитые военной техникой, бомбежками и артобстрелами, трудно описуемы. В закрытом фургоне мы каждые несколько минут валились (летели, падали) с одного борта на другой. Мне, маленькой девочке, никогда не попадавшей в подобную передрягу, казалось каждый раз, что машина падает и мы погибаем. Между падениями мы не успевали прийти в себя. Это очень изматывало. Так мы провели день, и уже под вечер очередная машина высадила нас на окраине Сталино, точно так и не знаю, в 11-ти или 18-ти километрах от дома. Дорога домой казалась бесконечной. Но самым тяжелым оказалось последнее испытание: нужно было подняться на 4-й этаж. Не знаю, сколько мы шли, но через каждые 3 – 4 ступени мы садились отдыхать. Но мы все же дошли.
Тетя жила в трехкомнатной коммуналке. В одной комнате жила некая Шура, которую мы почти никогда не видели, и две комнаты занимала тетя с дочерью, но в тот момент в одной из них было на постое 5 немецких солдат, молодых парней: младшему было 19, старшему 32 – все его звали «стариком». Они вышли в переднюю, когда мы пришли. Наверное, у нас был весьма красноречивый вид, особенно у меня. Я была маленькая и очень худая. (Я вообще ростом не вышла, может быть, в определенной степени потому, что в детстве 7 лет очень голодала). К тому же я всегда плохо ела и не была упитанной даже до войны. Но сейчас за спиной был уже целый год голода: голод начался фактически с первых дней войны. А сейчас еще такой тяжелый день: военные дороги, военные машины, пеший марш-бросок – без еды и питья. Во всяком случае, через несколько минут 5 рюкзаков с солдатскими пайками были в тетиной комнате (что совсем не характерно для немцев). Я запомнила 5 банок сливочного масла. Думаю, что я его не видела с первого дня войны, а возможно, и мирное время не баловало нас этим продуктом. (Я знаю, что до войны дедушка становился в очередь за хлебом (это на Украине) в 3 часа ночи…) Наверное, на столе были и хлеб, и шоколад, и что-то еще, но я ела только масло, пальцем, из всех пяти банок.
Первые пять дней солдаты приносили свои обеды из столовой домой и кормили меня. Потом им это надоело, я, наверное, как-то пришла в себя, и все успокоились. Все, кроме одного, – Гюнтера. Гюнтер – это особый эпизод в моих военных воспоминаниях. Он был очкарик, красивый кудрявый блондин, очень высокий (он разбил голову о притолоку двери и долго ходил с крестом из пластыря на макушке, как с бантиком.) Ему было 25 лет. Он был единственный сын у матери. Был ли он студент или рабочий – не знаю. Может быть, знала тетя, но я давно уже ни о чем ее спросить не могу…
Гюнтер продолжал приносить обеды домой и делить их со мной. Через некоторое время солдат, которые у нас стояли, перевели на другие квартиры, и я никого из них больше не встречала. Но Гюнтер оказался в нашем же доме, в нашем подъезде, этажом ниже (теперь я думаю, он попросил об этом). И по-прежнему он прибегал в обед: «Тайня, эссен-эссен, ком-ком. Шнель-шнель!» – И я бежала к нему вниз. Однажды я разлила на скатерть – не на клеенку – полный стакан кофе с молоком. (Так питались немцы!). Я была в ужасе. Но он не ругал меня, а утешал. Иногда он брал меня вечером, и мы шли с ним гулять в сквер. У нас довольно долго сохранялся обрезок фотографии, на которой я стояла с максимально высоко поднятой рукой: Гюнтер держал меня за руку, но его на фотографии не было – тетя его отрезала. Он даже пытался иногда укладывать меня спать и рассказывать мне сказки, но для сказок нашего с ним русско-немецкого тарабарского наречия, на котором мы с ним легко общались, было недостаточно.
Рождество 1942 года немцы отмечали бурно, шумно (у нас в это время на постое никого не было), выскакивали на балконы, выкрикивали что-то, палили в воздух. Это было еще до разгрома под Сталинградом, они еще чувствовали себя победителями. А Гюнтер пришел к нам, принес рождественский ларчик с печеньем и свою художественную фотографию с дарственной надписью. Мы втроем: тетя, Гюнтер и я – сидели на железной койке в кухне, и тетя с Гюнтером о чем-то тихо разговаривали. Много времени спустя я узнала от тети, что Гюнтер ненавидел войну, Сталина и Гитлера. Поэтому он избегал солдатских компаний, нередко приходил поболтать с моей тетей (он называл ее мамой), и дружба с маленькой девочкой, наверное, тоже была какой-то отдушиной.
В какой-то момент почти все солдаты, жившие в нашем доме, исчезли – ушли на фронт. Бои шли, по-видимому, недалеко от Сталино, и через некоторое время значительная часть солдат вернулась на старые квартиры. Гюнтера среди них не было. Был он ранен или убит – неизвестно: спросить было не у кого. Светлую память об этом немецком юноше я сохранила на всю жизнь. Когда изменились времена, я, пожалуй, попыталась бы его найти, но имени его я не знала. Его фотографии тетя уничтожила: за них мы непременно отправились бы в ГУЛАГ. Вспоминая о нем, мне хочется отметить еще одну деталь: летом в жару немецкие солдаты ходили в трусах – сатиновых черных; теперь такие трусы называют «семейными». Гюнтер никогда не ходил в трусах: думаю, он считал, что это демонстрация неуважения к населению.
До войны и, следовательно, во время оккупации тетя моя жила в самом центре Сталино. Наш дом пятиэтажный в центре и четырехэтажный по краям стоял внутри огромного прямоугольника, образованного сомкнутыми пятиэтажными домами. Сторона прямоугольника – большой квартал. Внутрь двора вели две арки и вход со стороны небольшого сквера. Один угол двора образовывало Г-образное 5-этажное здание, сожженное нашими при отступлении. Одно время там под сгоревшими стенами за колючей проволокой прямо на снегу лежали и сидели наши военнопленные. Я не знаю, как долго они там находились: была зима, и я почти не выходила из дому – не в чем было. Я ничего не понимала. Взрослые с детьми, как и между собой, не обсуждали опасных тем: сталинский террор научил людей молчать. Это сейчас, спустя десятилетия, я, как в телескоп, рассматриваю события, которые сохранила моя детская цепкая память, и пытаюсь их осмыслить. Несколько лет назад моя сестра, с которой мы жили в те страшные годы (ей тогда было 18), дочь моей спасительницы тети Веры, рассказала мне, что однажды, когда она шла недалеко от колючей проволоки, за которой были наши бойцы, молодой конвоир, который ходил вдоль этой изгороди, поравнявшись с ней, тихо сказал: «Дай им хлеба – я отвернусь». Но хлеба не было… Голод – это было постоянное ощущение в течение всех лет войны и первых лет после войны. Когда, куда и как ушли военнопленные, я не знаю.
В противоположном конце нашего двора было такое же Г-образное пятиэтажное здание. В нем было общежитие СС. Однажды мы шумно играли у того края нашего дома, который был ближе всего к этому зданию. Солдаты, которые были у нас на постое, загребли нас всех в охапку, увели подальше оттуда и тихо сказали: «Никогда не играйте в той стороне дома и не шумите – это опасно». Почему, мы не поняли, но запомнили.
Однажды мне, полуеврейской девчонке, тем не менее удалось даже побывать внутри этого здания. Я была дистрофиком. От голода у меня колени, локти и углы губ были покрыты язвами с мокнущими корками. Не помню, кто, как и почему привел меня в медсанчасть этого дома. Я запомнила медсестру, блондинку, в чистом накрахмаленном светло-зеленом халате-сарафане, белой кофточке и белой косынке. Запомнилось ее недоброе брезгливое лицо. Но язвы мои она мне чем-то смазала. Меня водили туда дважды, и язвы мои исчезли.
Я ничего не понимала в сути происходящего, я просто фиксировала его в своей памяти. Я не понимала, почему тетя увезла меня из Лисичанска от мамы. Когда тетя привезла меня в Сталино, она 4 дня не выпускала меня из дома. Выходить я могла только на балкон. – Смешно, глупо, опасно, но – факт: вот что страх делает с человеком. На пятый день я убежала. Когда я вернулась, тетя больно выдрала меня за шкафом резинками от кружки Эсмарха. (Надо сказать, что бить детей у нас в семье принято не было – это тоже был продукт страха.) Плакать не разрешалось. На следующий день я снова сбежала, и снова была порка. Тетя била, неистово, нервно, со слезами. Странно, меня, в сущности, никогда не били, и такая экзекуция была для меня внове. Но я не обижалась на тетю. Хоть я была еще маленькой, я понимала, что тетя меня любит, что она чего-то боится. Я сдерживала слезы, но упорствовала и продолжала убегать. В конце концов, я заявила: «Вера, сколько бы ты ни била меня, я буду убегать». И тетя отступилась. (И где только ни носило нас, стайку чумазых, голодных воробьишек: по каким-то минным полям, по разбитым паровозам и вагонам, но Бог нас хранил, а взрослые ничего об этом не знали.) Но то, чего тетя так боялась, все-таки стряслось. Поскольку я не знала, чего надо бояться, в какой-то болтовне с дворовыми ребятишками я сказала: «А мой папа еврей». В тот же день к моей тете пришли и спросили: «Так Ваша племянница еврейка?!» – Назавтра я была уже далеко на окраине города у весьма пожилых друзей моей тети – тети Тани и дяди Саши, в их отдельном домике и отдельном дворике. Не знаю, сколько времени я провела у них – месяц, два? Когда стало ясно, что все обошлось, что никто никуда ничего не донес, я вернулась домой.
Я была так глупа, что уже будучи ученицей старших классов, студенткой первых курсов института, никогда не попыталась встретиться с этими людьми, посмотреть им в глаза, поклониться им в пояс. Правда, мы жили в разных городах, но все же я, хоть и не часто, бывала в Сталино – потом Донецке. Когда стало приходить осознание происходившего, ни тети Тани, ни дяди Саши не было в живых.
Голод – не тетка. Он проходит красной нитью через все мое детство, с 1941 по 1948-й год. Но степень недоедания бывает разная, и самый тяжелый голод был во время оккупации.
Единственным источником продуктов была деревня, но она сама была бедна, капризна и не щедра. И моя тетя дважды отправлялась в Лисичанск поискать в бабушкином сундуке что-либо, что примет деревня. Но на это надежды было мало. Более надежд она возлагала на соду: в Лисичанске был еще в царские времена основанный содовый завод – он и в советские времена был союзного значения. Мыло во время войны – продукт бесценный. Но это продукт стратегический и потому опасный: гражданское население немцы карали за покупку, продажу, распространение мыла. Но… голод – не тетка. И тетечка моя рискует привезти оттуда в Сталино немного соды: на рынке ее из-под полы продавали рюмочками. Что такое жить без мыла, знают те, кто это испытал: это вши, чесотка, болезни, тяжелый дискомфорт. (Моя бедная тетечка и после войны долгие годы экономила мыло: стирала руки в кровь, чтобы отстирать белье с малым количеством мыла.) На вырученные от продажи соды деньги можно было купить хлеб.
И тетя моя ушла. В назначенный день она не вернулась. На следующий день тоже. Мы заволновались. Моя сестра обнаружила, что в кармане ее жакета треснуло маленькое зеркальце: с мамой что-то случилось – решила она. И бросилась на поиски. (И тетя моя, и сестра хорошо говорили по-немецки. Тетя еще с гимназических времен, а сестра, как ни странно, в советской школе, которую она не успела окончить до оккупации, научилась неплохо говорить. Потом языки стали ее профессией. Зная язык, можно было надеяться что-то выяснить. Немцы ценили знание их языка. Я не помню, как долго она искала тетю, но нашла она ее в каменоломнях. Сколько времени провела тетя на этих каторжных работах: 10 дней – 14 – не знаю, но домой она вернулась измученная, поникшая.
Это был тяжелый урок. Но настали холода, и нужда снова погнала мою тетечку в Лисичанск. Теперь она пошла в основном за моими теплыми вещами. Мы ушли с ней из Лисичанска в июле налегке: никто не знал в то время, как долго продлится оккупация, будем ли мы живы, как мы будем добираться. Но до холодов дожили, а одежды не было.
Когда она ехала обратно, в поезде (или на вокзале) был досмотр. Соду она уже не везла. Она везла мои теплые вещи, какие-то скатерти и белье для деревни. Мои вещицы понравились переводчице: у нее была дочь моего возраста (тетя эту даму знала). А вещи у меня действительно были хорошие, из Германии. Папин дядя проходил стажировку (или учился) в Германии – он жил там с семьей лет 5 в начале 30-х годов (он был конструктор, позднее профессор, дважды Лауреат Сталинской премии). От его дочери (моей тети – сестры – друга – доброго гения всей моей жизни) я тогда получила это наследство. Вещи были уже не новые, но аккуратно штопаные, яркие, красивые (на фоне нашей большевистской нищеты) и переводчица стала кричать, что моя тетя первая спекулянтка (дас ист ерстед спекулянтен – я запомнила тетин рассказ). У тети моей отобрали абсолютно все, отправили в Гестапо и там избили.