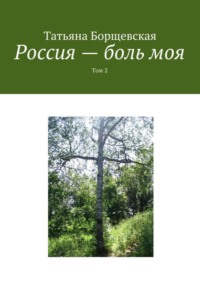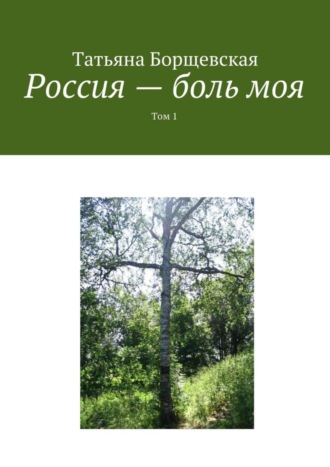
Полная версия
Россия – боль моя. Том 1

Россия – боль моя
Том 1
Татьяна Александровна Борщевская
Хочу поблагодарить своих друзей: Марию Юрьевну Честных, Александра Михайловича Дьячкова, Викторию Борисовну Вольпину за моральную, физическую, материальную, организационную поддержку в трудный для меня период, когда писалась эта книга.
Моим дорогим родителям посвящаю.
«Настоящее часто бывает следствием прошедшего».
КарамзинНа обложке береза в виде креста, которая выросла на месте концентрационного лагеря СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения).
© Татьяна Александровна Борщевская, 2018
ISBN 978-5-4490-7650-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Введение
Двадцатый век в России – это век трех эпох и двух исторических (тектонических) разломов. Этот трудный век не обошел меня стороной.
Я родилась в 1935 году в Донбассе, на Украине. В детстве среди своих родных, воспитателей, учителей я застала людей, которые несли в себе еще остатки старой России, христианских заповедей, даже при внешнем атеизме, не утраченного до конца духа Серебряного века.
Прекрасный детский сад. Хорошая школа.
В 1937-ом арестовали, а в 1938-ом расстреляли моего отца. Мы с мамой уцелели чудом: нас просто потеряли.
1941 – 1945 гг. – Великая Отечественная Война (ВОВ). Линия фронта, полтора года оккупации, голод, холод, руины, потери. Голод практически до конца 1948 года.
Пионерское, комсомольское детство. В десятом классе (в мае 1953 года!) писала на выпускном экзамене сочинение о Сталине, о его бессмертии, о бессмертии его дел (накликала беду: он, действительно, бессмертен, и дела его – тоже).
Потом Москва, учеба и вопросы, вопросы, вопросы: что происходит с моей страной?
На старших курсах института появилось желание что-то записывать. Мой друг (очень большой авторитет для меня) посмеялся надо мной, и к этой мысли я вернулась лишь через 30 лет. Уже прошла давно «оттепель», кончалась душная брежневщина, страна рушилась, мы «плыли на тонущем корабле». Душили тоска, безнадежность, предчувствие какого-то конца. Делиться мыслями было легче всего с бумагой. Я стала кое-что записывать. Писала на бегу: работа, дом, дефициты, очереди не оставляли времени на размышления. Мысли приходили в транспорте, в очередях, ночью. Не все мысли доносила до письменного стола.
Писала на случайных бумажках, в блокнотах, в рабочих тетрадях. Это стало привычкой. Когда этих бумажек и записей накопилось довольно много (хотя очень многое терялось), я решила, что разумнее писать на библиографических карточках: у меня был опыт работы с ними. Я стала записывать впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного, делать выписки – тоже на бегу или по ночам.
Перо учит думать. Постепенно вырисовывалась трагическая картина российской истории 20-го века. Записи постепенно накапливались. Появилось неопределенное еще желание обобщить это в чем-то подобном «Гернике» или картине И. Глазунова «Мистерия – 20-й век»: такой бреющий полет над Россией 20-го века, некая схема ее взлетов, но гораздо более ее крушений и бедствий.
Определенности добавила «перестройка»: валом обрушившийся поток ранее недоступной информации; перемены, которых мы ждали, и кошмар, которым они обернулись.
И, может быть, самым мощным толчком для меня были не крах, не разруха, какой Россия не знала даже после революции 1917-го, а тот поток грязи, унижений, который обрушился на Россию и изнутри, и извне. Может быть, то презрение к России, ко всему российскому, которое высказывали наши либералы, журналистская ретивая «зелень», заставили меня задуматься, так ли уж действительно плохо все российское и ее народ.
Россию выбросили в «четвертый» мир, на задворки истории – «навсегда». «Русский народ», «русский менталитет», «совки», «советский патриотизм» – стали ругательными, замаранными, затасканными понятиями.
Записи мои копились, их были уже тысячи. Уже хотелось во что-то это оформить. И в 2008 году, на восьмом десятке своей жизни я принялась их разбирать: «мотор» мой отказывался работать – варить супы, мыть полы, копать грядки. Да и внучки уже выросли, а родные, близкие, любимые косяком ушли из жизни. (Думать позволила только старость. До этого был постоянный бег, более всего на месте, отупляющий, изнуряющий).
Теперь можно было сесть и за письменный стол. Только на разбор и идентификацию карточек у меня ушел год. Сразу пришлось отбросить всё, где были пометки «найти», «прочесть», «додумать». Примерно до четверти записей руки просто не дошли: нехватило времени и сил. Значительная часть записей была потеряна. На вожделенную библиотеку уже не было сил. (Интернет у меня появился, когда книга была уже практически написана). И все-таки, старость – время прекрасное: она снимает вериги и дает какие-то права. Можно сесть, взять голову в руки и подумать… Что ж! Я решила писать книгу. Неслыханная дерзость! Но унести с собой весь мой жизненный непростой опыт, не оставив никому и толики его, казалось тоже неверным. Будет книга или нет, я не знала, но название ее я знала с самого начала: «Россия – боль моя». Да, именно БОЛЬ. Но боль, страдание – это производное от любви. Без любви нет боли, нет страдания. А в России всё – через страдание… Любить меня научила моя мамочка – любить красоту, природу, искусство, знание, людей, Родину, жизнь. А сколько прекрасных людей я встретила в жизни! Мне везло на хороших людей, святых земли русской; с какими судьбами пришлось столкнуться, может быть, потому, что я это запоминала. И, пожалуй, больше всего хороших людей я встречала в самые трудные времена, во время войны, – даже немцев.
Слово «боль» вынесено в название этой книги. И пусть не упрекают меня читатели, если таковые когда-либо будут, за излишнюю эмоциональность. Я ее не скрываю. Боль – это чувство, и оно лежит в основе всего написанного.
Но встает вопрос, зачем, для кого писать. Кому это будет интересно? И нужно ли это вообще? – Не могу на это ответить. Но в Писании сказано: «От преизбытка сердца уста глаголят…». А Лев Толстой говорил: «Писать надо только тогда, когда не писать не можешь». Ну, вот, наверное, поэтому и пишу.
У этой книги могло бы быть и другое название: «Анти-Сталин». Думаю, что в российской катастрофе 20-го века он сыграл страшную роль, наверное, самую страшную. У этой катастрофы было много причин, неслучайных и случайных, много героев и анти-героев, но Сталин сыграл в ней роковую роль.
После 4-х лет Первой Мировой войны, 5-ти лет братоубийственной разрушительной Гражданской войны, уничтожения и бегства за рубеж почти всех верхних слоев российского дореволюционного общества страна была еще жива – это показал НЭП. Но после 30-летнего террора Сталина она не может оправиться многие десятилетия.
Все основные беды нашего сегодняшнего времени уходят корнями более всего в сталинщину: геноцид, наш нравственный распад, уголовщина, корыстное высшее чиновничество, апатия, «Зона» – Сибирь, безлюдье, демографическая катастрофа и всё, отсюда вытекающее… И все же это – подзаголовок. В заголовок я выношу главное – БОЛЬ.
По мере того, как росли горы карточек – страничек моего необычного дневника, углублялось мое понимание той исторической катастрофы, которая стряслась с Россией в 20-ом веке. И в то же время я все более и более понимала: круг тех людей, которые имеют представление о масштабах этой трагедии и ее последствиях, чрезвычайно узок. Три поколения сформировались в условиях Лжи, Тайны и Страха. Знать, думать, понимать было смертельно опасно. Понимающих, думающих, а тем более знающих прицельно истребляли.
Инстинкт самосохранения выработал в людях, даже потенциально способных думать, привычку, не задумываясь, знать лишь дозволенное. Она глубоко укоренилась, возможно, структурировалась в особых советских генах. Этому всему способствовала загнанность: проблемами производства, быта, дефицитами, неустроенностью жизни.
Меня всю жизнь окружали хорошие люди: образованные, честные труженики, неглупые и добрые. Все они знали, что был культ личности, репрессии, разоблачение культа и реабилитации, но почти никто из них не задумывался о масштабах и исторических последствиях происходившего. В том числе и те, кто прочел «Архипелаг ГУЛАГ» и даже те, кого не обошел террор. И в очень узком диссидентском кругу по-настоящему это понимают далеко не все. Наверное, понимание требует специальной аналитической работы.
У нас достаточно много хороших книг о революции, эмиграции, пятилетках, о коллективизации, ГУЛАГе, ВОВ, о строительстве социализма. Каждая из них впечатляет, но не дает общей картины. Нет общей картины происшедшего. А кому она нужна? Историкам? Об историках писать не могу. Я их практически не знаю. Знаю только, что та история, которую преподают в школах и даже университетах, это свалка из обрывков правды и нагромождений лжи, это продолжение сталинщины, лжи, недоумства и страха.
Постепенно уходят ровесники века, живые свидетели страшных его событий. Архивы приоткрываются «со скрипом», а за плотно закрытыми дверями их в течение десятилетий тихо уничтожают. Возможно, что-то ценное историкам все же достанется для анализа, но это тоже все будет для узкого круга.
А память человеческая удивительно коротка. В начале прошлого века Александр Блок писал:
Мы, дети страшных лет России,Забыть не можем ничего.Но это было только начало. Страшное, столь страшное, что никакое воображение не могло его предвидеть, было еще впереди. Но мы все забываем. Не просто забываем – знать не хотим. Так безопаснее, спокойнее. Привыкли прятаться в «серость».
Разбирая собственные карточки, я нередко удивлялась написанному. Мне казалось, что у меня неплохая память, однако я тоже уже почти забыла, как страшны были поздние 80-е и все 90-е годы в России. Как я благодарна себе, что многое записала по «горячим следам». Это было почти как у Ю. Олеши: «Ни дня без строчки». Но поскольку все писалось на бегу, самые страшные моменты записаны несколькими словами: впечатления были так сильны, что казалось, этого забыть нельзя. Но… забылось. Может быть, многое очень ценное. Но люди, которые не помнят, как было вчера, не радуются тому, что сегодня лучше, чем вчера, и не верят, не ждут хорошего от завтра, не работают на него. Так человек живет вне истории (и страна, и человечество): нет прошлого, нет настоящего – нет будущего…
Отметим удивительное и очень значимое явление: ПРОШЛОЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТ НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ (И БУДУЩЕЕ!), НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЗАБЫВАЕТСЯ, ЧАСТО ПОЧТИ НАЧИСТО, КАК НЕ СУЩЕСТВОВАВШЕЕ.
Поэтому, чтобы понимать свое настоящее, чтобы знать, какое и как строить будущее, необходимо знать, т. е. изучать наше – прошлое.
И более всего это необходимо нашей молодежи: тем, кто вступает в жизнь сегодня, кто вступит в нее завтра. Сегодня молодежь ничего не знает о России, кроме того, что это страна отсталая, может быть, даже гиблая, окруженная благополучными цветущими странами. Чувство патриотизма, высмеянное, испачканное «перестройкой», им чуждо, и они легко, при первой же возможности покидают неуютную страну, в которой они случайно, по ошибке рока, родились.
Россия – трудная страна. Но это страна великая: огромная, богатая, со сложной историей и великой культурой.
В 20-ом веке с ней стряслась историческая беда: стряслась по роковому стечению случайных и неслучайных обстоятельств. Россия в этой беде реализовала все худшее, темное, разбойное, и все лучшее, великое, святое, что было в национальном характере ее народа. Это надо знать!
Сейчас Россия очень тяжело больна, но она медленно, трудно встает (ей не впервой!). Ей необходима помощь. Никто, кроме ее собственного народа, ей не поможет. Но чтобы лечить тяжело больного и желать ему выздоровления, а не скорейшей погибели, его надо ЛЮБИТЬ. А любить, не зная, невозможно.
Молодежь должна полюбить свою страну – ей ее поднимать. Для этого она должна знать великую культуру своей страны, ее историю, трагедию ее 20-го века – историю ее болезни, знать ее сильные и слабые стороны. Тогда она сможет гордиться своей страной, беречь ее, а главное – она сможет предотвратить и уберечь ее от исторических срывов, от которых в реальной напряженной ситуации не защищена такая сложная страна, как Росси.
Эта книга – отнюдь не историческое исследование. Это вид из окна или «с бреющего полета», воспринятый глазами неинформированного, загнанного, но не равнодушного «совка»: имеющий глаза, да видит; имеющий уши, да слышит; имеющий мозговую извилину, да шевелит ею; имеющий сердце, да откликается. И ничего более… Это своего рода «Герника»: уродливое, разметанное, разрушенное.
Но это не полотно – это лоскутное одеяло, мозаика. Большие мастерицы и мастера и то, и другое могут создавать, как произведения искусства. Автору сих строк далеко до такого мастерства: здесь много шероховатостей, повторов, прорех. Многие повторы можно объяснить требованиями контекста, но чаще, возможно, особенностями создания этих записок. Книга создавалась не по единому задуманному плану, а писалась много лет, как своего рода дневник, заметки, впечатления. К одному и тому же вопросу жизнь, обстоятельства, новые сведения заставляли иногда возвращаться не однажды, рассматривая явление с новой стороны, в новом контексте, и убирать при этом повторы значило бы обеднять мысль. (Говорят, нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Я в течение многих лет входила в одну реку, но каждый раз немного в другую…). И еще: каждая гдава в некотором роде отдельная тема, но все главы объединяют единые причинно-следственные связи, у них общие, единые корни. Поэтому утешает одно: наша память любит повторы. Местами – это картина в стиле пуантилизма. Иногда эта дневниковая структура многолетних записей похожа на поток сознания. Переделывать было поздно: не было ни времени, ни сил. Да простят мне это читатели, ежели таковые когда-либо будут. (Я попыталась оправдаться…).
Думается мне, что, проливая слезы над судьбой России, я пропела ей гимн!
Немного из биографии
Я родилась в июле 1935-го года в г. Лисичанске в Донбассе, на Украине. Там был родительский дом моей мамы. Туда все бабушкины дочери, где бы они ни жили, приезжали рожать своих детей. Моя мама приехала из Харькова.
Вот одно из первых детских воспоминаний. Двор нашего дома в Лисичанске. Во дворе много вынесенных стульев, на них сидят наши мамы, бабушка, дедушка, гости. Мы, три двоюродных сестры: Лилюша 14-ти лет, Галочка 8 лет и я, самая младшая, мне 3 года, – ставим «Демьянову уху» Крылова. Демьян – старшая, я – его жена в длинном до пят сестрином сарафане и платочке, Галочка – Фока. Моя роль – кланяться, когда Демьян скажет: «Да кланяйся ж, жена» – я кланяюсь. Это 1938 год.
Не знаю, как определить сословие, к которому относились мои прародители по маминой линии: рабоче-крестьянскому или мещанскому. Не знаю, были ли их предки крепостными (ведь нас воспитывала советская власть «иванами – родства не помнящими»). И у бабушки, и у дедушки братья были инженерами, их жены – учителями, акушерками; все сестры – с церковно-приходским образованием: девчонок в обеих семьях не учили. Мой дед был шалопай, образования он тоже не получил, был «вольный художник» – кузнец, известный в округе. Во дворе стояла кузня с горном и мехами, в мою бытность уже не работавшими. Его рабочий сарай был завален различными фигурками, выточенными из мела. На полу кухни и веранды, на твердом грунте двора (Донбасс – место сухое) он писал свои «стихи», сочинял частушки и иногда по вечерам распевал их на «парадном» крыльце, играя на гитаре и собирая зевак.
Бабушка была человеком удивительным. Человек несомненно одаренный, она очень страдала оттого, что не получила образования, и дала себе слово непременно дать образование всем своим детям, вопреки воле деда, от которого она в связи с этим имела много неприятностей, вплоть до колотушек (пока не подросли сыновья). И все ее дети получили высшее образование. Но это стоило ей таких трудов, которые не укладываются в моем воображении, хотя я, может быть, более других, кроме ее старшей дочери, унаследовала некую толику ее трудоспособности. У нее было 11 детей, выжило 6, двое сыновей и четыре дочери. Оба сына воевали в царской армии. Старший, первенец, любимец, красавец погиб в возрасте 21 года в чине ефрейтора. Второй сын отсидел за это свои 5 лет (всего 5, спасло, вероятно, социальное происхождение и то, что он был в армии очень недолго и совсем мальчишкой.)
Как бабушка успевала держать дом, печь хлеб, работать в поле (обрабатывать, десятину земли), содержать домашний скот (в разное время бывали и лошадь, и корова, и свиньи, и овцы, и птица). И еще она держала на полном пансионе студентов: нужны были деньги, чтобы учить детей. Помощников у нее практически не было. Правда, старшие дети с 13 – 14 лет сами давали уроки. Когда старшая дочь окончила гимназию, в актовом зале к ней подошла заведующая, обняла ее и сказала: «Посмотри, Верочка, в зал: кто из них не побывал в твоих учениках?» – Тетя преподавала все: и математику, и языки, и литературу. Она была очень способной.
(Семья жила нелегко, трудились все, и больше всех – бабушка. Однако во времена раскулачивания они были внесены в «черные» списки. В то время в доме жили одни старики: дети все разъехались. Никакого скота, никакой земли не было. Во дворе стояла полуразрушенная кузня, в которой дед изредка по чьей-либо просьбе делал мелкие поделки.
Моя мама в это время училась в Харькове, была активной пионеркой. Узнав об этой угрозе, она не побоялась пойти к самому Григорию Ивановичу Петровскому – председателю ВУЦИКа (Всеукраинского Центрального исполнительного Комитета). Родители, а возможно, и все дети, были спасены.
В доме всегда звучала музыка, все имели хорошие голоса и пели: соло, дуэтом, хором. Пели по нотам, хотя специального музыкального образования не имели. Старшие сестры до революции пели в любительской опере, правда, в хоре. (За всю свою жизнь я услышала очень мало романсов и песен, которых бы не слышала дома, прежде всего от мамы: русские романсы, украинские и русские песни, песни Вертинского, Лещенко, Изабеллы Юрьевой, революционные песни, пионерские и комсомольские песни 20-х годов. Позже я брала их уже и самостоятельно из внешнего мира.). Братья играли практически на всех инструментах: на всех народных и на фортепиано. В доме всегда было весело, шумно, ставились спектакли, танцевали. Как бабушке удавалось создать и поддерживать такой стиль жизни, не знаю.
Дети любили ее до обожания и любили друг друга. Когда она умирала (ей был 71 год) от воспаления легких, у ее постели в больнице собрались все дети, приехавшие из разных городов страны, ее последние слова были: «Мое вам завещание: будьте после моей смерти такими же дружными, как при моей жизни». – Потом сказала: «Я устала» – Закрыла глаза, тихо уснула и не проснулась. Это было 5-го июня 1941-го года, за 17 дней до начала войны.
Дети потом много раз благодарили судьбу за то, что она не дожила до кошмара, который на нас вскоре обрушился.
Дети остались дружны до конца своих дней. Они жили в разных городах, далеко друг от друга, но постоянно друг друга поддерживали и каждый год отпуск проводили вместе. Сейчас остались только их дети, двоюродные. Мы уже старики, но мы продолжаем любить друг друга, любить и помнить наших мам и с благодарностью вспоминать наше родовое гнездо, из которого мы вынесли чувства любви и верности, которые грели нас всю жизнь и позволяли выживать, держаться, не терять мужества и веры в невероятно тяжелые времена, которые всем нам выпали на долю.
К отцу дети относились прохладно. Он умер зимой 1942 года во время оккупации.
Папа мой был единственным ребенком своих еврейских родителей. Но и дедушка, и бабушка происходили из многодетных семей. Отец деда моего до революции держал постоялый двор, отец бабушки – аптеку. Все дети в обеих семьях получили высшее образование. Среди них были юристы, врачи (эти профессии еще до революции стали доступны евреям), дедушкины дядья были довольно известными земскими врачами; в советские времена среди моей еврейской родни были ученые, конструкторы, писатели, актеры, юристы, врачи. Дедушка мой был довольно известным юристом. (в конце 20-х годов он был в Харькове председателем областного суда; Харьков в то время был столицей Украины). Бабушка долгие годы вела театральную студию на одном очень крупном московском заводе.
Обе семьи были очень дружные. Всех, кого мне довелось из них знать, я любила, и они дарили мне тепло и ласку. Мои родители встретились в Харькове в профшколе. Мама приехала туда учиться после окончания лисичанской семилетки. Папа в Харькове жил. Потом они оба поступили в Харьковский институт народного хозяйства: мама на финансово-экономический факультет, папа – на факультет внешних сношений.
Детская любовь, возникшая почти с первого взгляда еще в профшколе, переросла в любовь взрослую, и я – единственный ее плод.
Тогда, в 1938-ом, с которого я начала главу, наверное, основной радостью нашей жизни было тепло наших семейных отношений, тем более, что это было время, когда людей разобщали, озлобливали, разлагали страхом и тотальной ложью.
Не помню, когда, но довольно рано, мне кажется, еще до войны (война началась, когда мне не было еще шести), мама мне сказала: «Твой папа осужден как враг народа, но никакой он не враг». – Я не задала вопросов, но запомнила это на всю жизнь: наверное, у детей, как у зверушек, нет понимания, но есть очень мощная интуиция.
Моего папу очень любила вся семья, и по его линии, и по маминой. Он был добр, умен, красив, прекрасно пел. Жизнь его была сломана, когда ему было 19. После бурной политической дискуссии 1927 года, в которой он принимал активное участие, он был исключен из института (он кончал 3-й курс) и арестован, но тогда он пробыл в тюрьме всего 3 месяца. Вернуться в институт ему не дали. В 1937 году он был снова арестован (10 лет спустя, за «грехи» студенческих лет), а в 1938 – расстрелян. О расстреле мы узнали уже в хрущевские времена. Но об этом – дальше. Сейчас я хочу лишь сказать, что на меня излилась вся любовь не только, как на сиротку (папу арестовали, когда мне было полтора года), но и как на единственное, что от него осталось. (Моя мама – красивая, веселая, певунья – тоже была любимицей обеих ветвей моей семьи: маминой – русско-украинской и папиной – еврейской). В этой любви я выросла. Времена были нелегкие (легких времен в России, наверное, никогда не было, а в 20-ом веке – тем более). Но к каждому празднику из разных городов я получала посылки с игрушками, книжками, вещами. Я тоже горячо любила всех. Как человек благодарный по природе, я не только в детстве, но и много позже всегда хотела делать подарки, дарить радость. Но удавалось очень мало: бодливой корове Бог рог не дает… А, может быть, и не в корове дело… Любовь, которая меня окружала, – это был тот жизненный элексир, который был моим главным жизненным богатством, он наполнял меня силой, и эта сила позволяла мне справляться с трудностями и бедами.
В 1937 – 1938 гг. после ареста папы моя мама, поскитавшись в поисках работы более полугода и не получив ее, как жена репрессированного, с ребенком на руках вернулась к родителям. Наверное, эти скитания: Урал, Харьков, Лисичанск – нас спасли. Жена и дочь расстрелянного должны были, по крайней мере, быть отправлены в ссылку. Нас просто потеряли… (Наверное, Сталин, если бы на том свете прочел бы мою книгу, на полях написал бы: «Не добил!» И матерную брань. Не зря добивал…). Так или иначе, мы с мамой снова оказались в Лисичанске, на этот раз – надолго.
Примерно метрах в двухстах от нашего лисичанского дома был детский сад, во дворе которого почти целый день играли дети, и я стала убегать к ним. Когда оттуда пришли воспитатели и сказали: «Или отдайте девочку в сад или не пускайте ее к нам: она играет с нами, а когда мы уходим есть или спать, мы оставляем ее одну», – меня отдали в сад. Детский сад – это светлая полоса моей жизни. Одна из наших воспитательниц прекрасно рисовала. Другая была балериной; из-за травмы ноги она оставила балет. Они устраивали изумительные утренники, с прекрасными танцами и костюмами. Костюмы делались из накрахмаленной крашеной марли, из цветной бумаги. Танцы оттачивались. Танцевали вдохновенно. Однажды самый крупный и красивый наш мальчик, всеобщий любимец, в танце потерял сапог (наверное, сапог был великоват, а танцор горяч), но продолжал танцевать. Об этом потом долго с восторгом и смехом вспоминали.
Я не была сильна в танце. Я хорошо читала стихи.
Заведующая наша была маленькая толстенькая женщина. Когда она входила в зал, мы, оставив свои занятия, бросались к ней, и она превращалась в виноградную гроздь – каждая ягода висела там, где смогла уцепиться: на шее, на руке, на ноге… (Во время оккупации она организовала приют для осиротевших детей и выбивала у немцев для них питание. После освобождения ее должны были судить «за сотрудничество с немцами». Но людям удалось ее отстоять: ведь она спасала детей тех, кто погиб во время войны на фронте и в тылу).