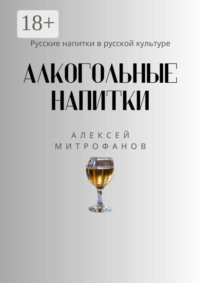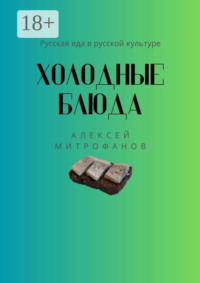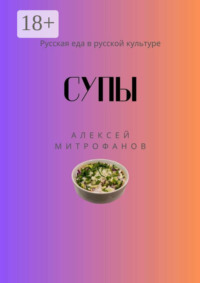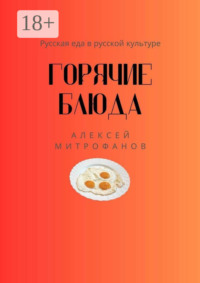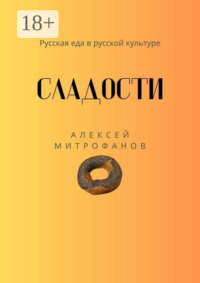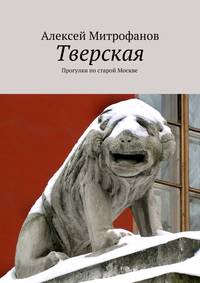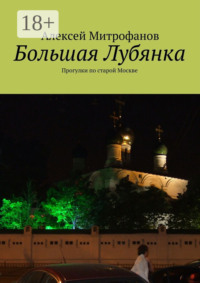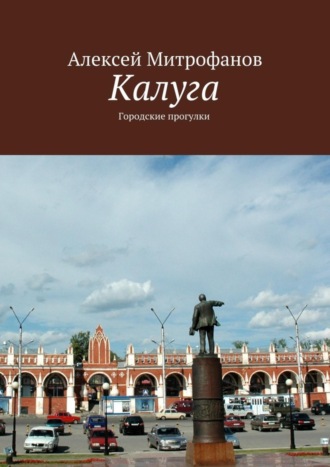
Полная версия
Калуга. Городские прогулки
Естественно, жители города госпожу Кадмину обожали.
* * *
А напротив подстанции высится церковь Жен Мироносиц, весьма изящный храм, и вместе с тем – калужский долгострой. Строили ее, все время что-то переделывая, поправляя, на протяжении больше чем полувека – с 1798 по 1851 год. Кстати, при постройке храма мастера использовали семь сотен деревянных свай – поскольку в прошлом до этого места доходил глубочайший Березуйский овраг, и почва тут не отличается особой крепостью.
Здесь же располагался и так называемый Новый торг, специализировавшийся в основном на продуктах – овощи, фрукты и хлеб. Однако продавались тут и всяческие несъедобные товары – лапти, конская сбруя, миски, а также новые и старые велосипеды. Вообще, в Калуге существует нечто вроде культа этого недорогого и практичного средства передвижения. До сих пор в любое время года, при любой погоде можно встретить и младенца, и студента, и даже пожилую женщину, с усердием вращающих педали на калужских крутых улочках.
В наши дни Калуга – город тихий и достаточно свободный от нашествия иногородних продавцов и покупателей. Во всяком случае, крупным торговым пунктом (таким, к примеру, как Москва, Калининград или же Астрахань) его не назовешь. А ведь столетия назад Калуга славилась как раз своей торговой деятельностью.
Голландец Исаак Масса писал в самом начале семнадцатого столетия: «Это… город многолюдный, и в нем всегда шла торговля солью с землей Северской, Комарицкой волостью и другими соседними местами, откуда привозили мед, воск, лен, кожи и другие подобные товары, так что она хорошо была снабжена».
Другой иноземец сообщал европейцам уже в середине того же столетия: «В этой Калуге стоит множество судов, на коих перевозят продукты в Москву; все они покрыты широкою древесною корой, которая лучше деревянных досок».
Краевед Д. И. Малинин при описании здешнего рынка замечал: «За границу калужские купцы ездили в Данциг, Берлин, Лейпциг и др. города, торгуя там мерлушками, юфтью, воском, а оттуда привозили шерстяные, шелковые, бумажные и нитяные товары, галантерейные вещи, фарфоровую посуду и жемчуг – на сумму более 200 тыс. руб., каковые товары они и продавали по городам и ярмаркам Великороссии и Малороссии, в Москве и в самой Калуге. Некоторые купцы из калужан торговали в Польше по городам и местечкам китайкой, чаем, сахаром, перцем, бадьяном, серым имбирем, московским крепом, поясами, сандалом, квасцами, писчей бумагой, холстом, пушными товарами, московскими шелковыми платками, кушаками и шелком на сумму от 30 до 50 тыс. руб. Мещане калужские занимались трепаньем и вязаньем пеньки, чесанием пакли, выделкою веревок; они же работали в каменщиках и штукатурах; нанимались в сидельцы и приказчики. Некоторые же делали с особливым искусством грешневое тесто („калужское“), которого продавали на 6 тыс. руб.».
* * *
Калужское тесто на этом торгу занимало особое место. Этот продукт – весьма своеобразный, один из символов старой Калуги – столетие назад был столь знаменитым, что ему даже посвятили целый журнал. Он так и назывался – «Калужское тесто».
Рецепт теста, в общем-то, достаточно простой: «Сухари из чистого ржаного или пшеничного хлеба размалывались в порошок. Полученную сухарную муку всыпали в распущенный на огне сахар, смешивали с патокой и пряностями. Готовое тесто должно быть плотным, тяжелым, хорошо резаться ножом, но не представлять из себя клейкой, тягучей массы и рассыпаться во рту».
Но это, разумеется, основа. Дальше каждый мастер фантазировал как мог.
Тесту посвящались поэтические строки:
Тесто было не зазорно подарить своей возлюбленной:
Журнал же «Калужское тесто» вообще не стеснялся в панегириках этому необычайному лакомству:
А житель Ростова Великого, купец А. Титов обвинял это тесто в затворничестве своего приятеля Н. В. Султанова:
Прудково, или же Прудки – село в Калужской области. И, по свидетельству купца-поэта, именно тесто калужское заставило господина Султанова обосноваться в глубинке, презрев светскую жизнь.
Тесто стояло в одном ряду с местными дивами: «В Калуге женщины красавицы писаные, с рязанскими не чета. А к чаю подают здесь хлеб ржаной, патокой с сахаром помазанный, такой нигде не едал, даже в Казани».
В готовом виде тесто представляло собой обычный черный хлеб, но с добавлением разных сиропов. Товар, как говорится, на любителя. Гастрономические вкусы жителей Калуги вообще отличались оригинальностью. Это видно даже по обычным магазинным прейскурантам. Бутылка простой водки, например, стоила около рубля, а вот «Рижский бальзам» – всего 20 копеек. Горожане покупали «этот деготь», только если не хватало денег на «простое хлебное вино» или какую-нибудь там «листовку».
История появления этого теста – одна из калужских загадок. В статистическом описании Калужской губернии (1864 год) значится: «Печение медовых пряников, наподобие вяземских, принадлежит исключительно Перемышльскому мещанину Беляеву, прозывающемуся также Курилиным. Он приобрел известность эту деланием медового и сахарного теста из сухарей черного хлеба. Тесто это называется Калужским и имеет некоторый сбыт на месте».
* * *
Эта же рыночная площадь изобиловала всякими бесхитростными развлечениями (карусель, «говорящая голова», возможность сфотографироваться, просунув голову в фанерку, с самолетом, на ней нарисованным). Кроме традиционных, общероссийских забав, проходили тут игры сугубо калужские. К примеру, «метание пряников». Правда, метали не пряники, а острый топор. Если игрок перерубал топором пряник, то съедал его в качестве выигрыша. Если же не перерубал, лишался собственного пряника, перед тем выставленного на кон.
Одним из популярнейших аттракционов прошлого была так называемая «медвежья комедия». Она практиковалась в Калуге вплоть до тридцатых годов двадцатого века. Самых известных калужских медведей звали Зоя Ивановна и Мартын Иванович. Не брат с сестрой – просто на более сложные отчества у «комедиантов» не хватило фантазии.
Собственно же «комедия», по большому счету, сводилась к тому, что медведи передразнивали всяческие человеческие действия («как барышни, идя на гуляние, пудрятся», «как барышня стесняется кавалера», «как московские кухарки идут за водой», «как в праздничный день пьяные на базаре шатаются», «как старушка под кустиком отдыхает» и пр.). А заканчивалось выступление борьбой вожака с медведем – зрелищем небезопасным, а потому и особо востребованным завсегдатаями торговых площадей.
* * *
Кроме того, Новый торг являлся главной точкой распространения калужских слухов. А до слухов, а также до всяческих замысловатых примет и обычаев жители города были большими охотниками. Вот, например, отнюдь не полный перечень калужских суеверий, составленный еще в девятнадцатом веке:
«Верили, что духи, или так называемые домовые, откармливали лошадей: приносили им из других домов овес и сено, и лошадей те же духи по капризам мучили, уносили у них корм, по сему суевернейшие в Великой Четверток тихонько ставили для тех духов в слуховых окнах кисель…
Накануне 24 июня женщины и девки сходились на игрища, из мужчин проворнейшие отправлялись искать кладов, над коими, по рассказам других еще суевернейших, являлись будто бы горящие огни…
Посещая малые ярмарки, наприм. в Петров день, кидали в колодезь деньги, зеленый лук, яйца и проч.».
* * *
Здесь же подвизались и калужские юродивые. Ими издавна славилась здешняя земля. Некоторые из них, случалось, делали на сем поприще головокружительнейшие карьеры. В частности, Митя Коляба. О нем писал Морис Палеолог, посол Франции в Санкт-Петербурге: «Митя Коляба такой же слабоумный, „блаженный“, „юродивый“, как тот, который произносит роковые слова в „Борисе Годунове“. Он родился около 1865 г. в окрестностях Калуги, он глухой, немой, полуслепой, кривоногий, с кривым позвоночником, с двумя обрубками вместо рук. Его мозг, атрофированный, как и его члены, вмещает лишь небольшое число рудиментных идей, которые он выражает гортанными звуками, заиканием, ворчанием, мычанием, визжанием и беспорядочной жестикуляцией своих обрубков. В течение нескольких лет его призревали из милости в монастыре, в Оптиной Пустыни, близ Козельска. Однажды в нем заметили странные приступы волнения с промежутками оцепенения, похожими на экстаз. В 1901 г. его повезли в Петроград, где царь и царица высоко оценили его пророческое ясновидение, хотя они были в то время в полном подчинении у мага Филиппа. Во время несчастной японской войны Митя Коляба, казалось, призван был сыграть крупную роль. Но неловкие друзья впутали его в эпическую ссору Распутина с епископом Гермогеном. Он вынужден был на время исчезнуть, чтобы избежать мести своего страшного соперника. В настоящее время он живет среди небольшой тайной секты и ждет своего часа».
Вот такие царедворцы из Калуги были при императоре Николае II.
* * *
И, конечно, на торговой площади располагались многочисленные кабачки, трактиры и иные общепитовские заведения. «Калужские губернские ведомости» сообщали в 1860 году: «В наших трактирах кушанья готовятся вообще довольно изрядно, надо сказать правду; каждодневный обед там обойдется недешево. Вот цены некоторым порциям, названия которых буквально выписывались из прейскуранта одного из лучших трактиров: щи рублиные алярус 20 к., консоме с пулярдай 20 к., перашки печерские 3 к., говядина бефиштекс по англински 23 к., маришал ряпчик с шуфлером 35 к., котлет отбифные скартофелью 23 к., антрюме пудинг изсухарей 40 к., рябчик 40 к. и пр.».
Надо полагать, что заведения на этой площади были все же значительно дешевле (цены здесь приводятся по тому времени и впрямь какие-то невероятные). Однако же стилистика меню, скорее всего, оставалась неизменной.
* * *
Несколько далее располагалась одна из главных, пусть и не особенно изящных, достопримечательностей города – громадная даже по нынешним калужским меркам (высота 25 метров) водонапорная башня. Поначалу ее собирались выстроить в калужском Городском саду. Однако подумали и пришли к выводу, что будет более рационально поставить ее несколько повыше. Таким образом, гигантское сооружение украсило не сад, а главную улицу города. И, как ни странно, удачно вписалось между колокольнями церквей Жен Мироносиц и Иоанна Предтечи.
Башню построили в 1887 году, и поначалу ее металлический бак вмещал 14 тысяч ведер, но вскоре его заменили на два новых бака – один на 4 тысячи, а другой на 21 тысячу тех же мер. Венчала башню маленькая будочка пожарного дозорного – в случае, если где-нибудь он замечал огонь или хотя бы дым, то поднимал на башенный громоотвод особый вымпел – сигнал для городской пожарной части.
Увы, башню постигла печальная участь. В 1941 году ее взорвали отступавшие из города советские солдаты – чтобы немцам жизнь в Калуге сахаром не показалась.
Сегодня здесь находится областной Драматический театр имени А. Луначарского. А напротив театра от улицы Кирова отходит вниз Театральная (бывшая Облупская) улица. Она – одна из самых живописных в городе. Здесь сохранилось множество старых домов своеобразнейшей архитектуры. Правда, постепенно улица меняется, метр за метром уступая свою самобытность в пользу этакой стандартизованности. Однако до полной потери лица этой улице еще далеко.
Главная же ее достопримечательность – пожалуй, книжный рынок. Он тянется на целый квартал, все время запружен народом, и здесь можно купить литературу на любой вкус. Мало какой из русских городов может похвастаться столь явным признаком начитанности своих жителей.
В доме №48 на углу улицы Кирова и Театральной в первые десятилетия советской власти располагалась весьма характерная для города организация – Воздухоплавательный кружок. Сам Константин Циолковский выступал здесь перед юными кружковцами. А многие из них впоследствии сделали яркую карьеру (маршал авиации, к примеру, или авиаконструктор).
Далее, вниз по улице, двумя рядами идут бывшие калужские магниты веселой и праздничной жизни. В доме №6 располагались сразу три отеля – «Москва», «Звездочка» и «Лондон». В доме №11 – «Столичная», «Крым» и «Кавказ». В доме №13 – «Лихвинское подворье». В доме №14 – постоялый двор Борисова.
Здесь же располагался и универсальный магазин Г. Ф. Софронова, завлекавший калужан такой рекламой: «Выбор – как нигде, цены – ниже, чем везде».
И далее – перечисление товаров:
Шляпы, шапки, фуражки, дамские шляпы, шапки, муфты, горжетки.
Обувь кожаная, черная и цветная, модных фасонов.
Обувь брезентовая, скороходы, сандалии.
Непромокаемая одежда, брезентовая, резиновая, виксатиновая, дамские и детские цветной материи непромокаемые накидки.
Каракулевые и меховые шкурки и воротники.
Перчатки мужские, дамские и детские, летние фельдекосовые, лайковые, замшевые, зимние вязаные, лайковые, замшевые на байке и на меху.
Рукавички, перчатки кучерские, кушаки, шарфы.
Сорочки, галстухи, кашне, запонки, помочи, пояса, гребенки, бумажбелье.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.