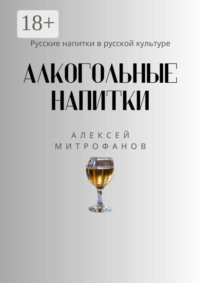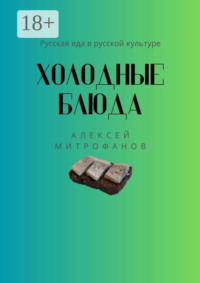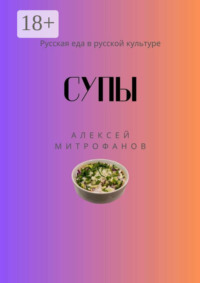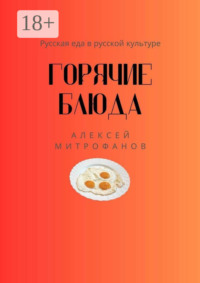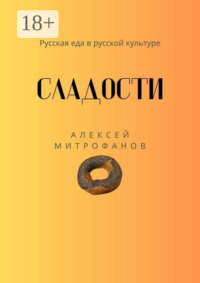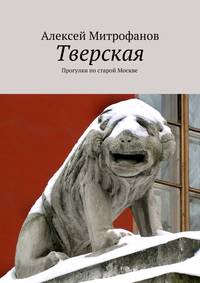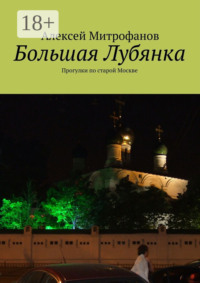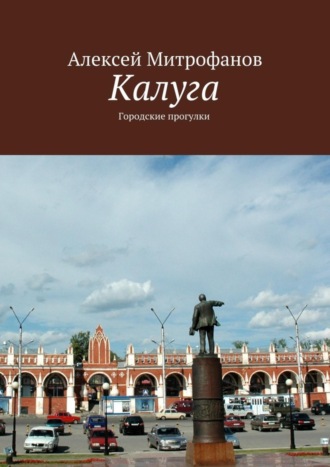
Полная версия
Калуга. Городские прогулки
Директор калужской гимназии писал полицмейстеру: «Имею честь довести до вашего сведения, для зависящих с вашей стороны распоряжений, что учащимся г. Калуги закрыт доступ на 12 и 13 апреля в городской театр на лекции футуристов К. Большакова и В. Маяковского».
То ли дело – фокусы со львами.
* * *
Вскоре власть «переменилась», и вместе с нею изменилась жизнь театра. Спектакли стали ставиться другие, события же начались ранее немыслимые. Например, однажды подошел к директору вооруженный человек и протянул ему бумагу. В той бумаге значилось: «Дирекции Гор. театра. Президиум Совета Раб. С. и К. Депутатов поручает предъявителю сего тов. Ассен-Аймеру в гор. театре вечером 30 дек. с. г. организовать спектакль или бал-маскарад со сбором в пользу невинно расстрелянного отв. Гордиенко за политические убеждения. Президиум предлагает Вам принять меры к тому, чтобы в этот вечер гор. театр был предоставлен в распоряжение названного товарища для указанной цели. Президиум предлагает товарищам артистам помочь своим выступлением в этот вечер за вознаграждение по согласованию с устроителем вечера тов. Ассен-Аймером».
Несмотря на дикость «предложения», отказаться было невозможно. Естественно, артистам ничего не заплатили, ограничились лишь благодарностью от имени Реввоенсовета.
Увы, в 1941 году сгорел и этот театр (он был, кстати, деревянный). Новое здание, уже из кирпича, выстроили на новом месте, а на площади установили памятник Циолковскому, на постаменте – знаменитое высказывание: «Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет все околосолнечное пространство».
* * *
Слева – самая крупная в городе гостиница, справа еще совсем недавно возвышался кинотеатр с типично калужским названием «Космос». Кстати, культурные традиции площади (точнее, сквера) Мира имеют весьма завидный стаж. На месте «Космоса» раньше стоял дом некоего Мартынова, в котором с 1909 года действовал Литературно-художественный кружок. В нем участвовали далеко не последние люди страны, в частно-сти детский писатель Смирнов, автор некогда культовой повести «Джек Восьмеркин – американец».
А комплекс зданий под номером 9 – бывшие Первая полицейская и Первая пожарная части (впрочем, пожарные автомобили базируются тут и по сей день). Вопреки логике и ожиданиям, содержался тот комплекс весьма безобразно. Полицмейстер Е. И. Трояновский жаловался городскому голове: «Имею честь покорнейше просить распоряжения Вашего о командировании господина городского архитектора для тщательного осмотра крыши на здании 1 части и определения причины постоянной ее течи при бесконечных, но бесполезных починках. Помимо особого одолжения, которое Вы окажете лично мне, приказав устранить эту неисправность, переделка крыши нужна настоятельно для сбережения городского здания. Это единственный дом в городе (из тех, которые я знаю), где крыша течет 14 лет постоянно и приходится во время всякого сильного дождя выносить всю мебель в коридор, спасать рояль, подставляя все ведра и тазы, а так как при этом две горничные не успевают собирать в ведра воду с окон при боковом дожде с ветром, то приходится всем членам моей семьи принимать участие в спасении имущества и хорошего пола в приемных комнатах. Надо полагать, что очень скоро провалится и весь потолок, который не мог не сгнить.
Кроме того, прошу попутно приказать осмотреть и переделать единственную кладовую в моей квартире, которую я освободил от имущества еще зимою, так как г. архитектор вполне справедливо предупредил меня о возможности ее падения вследствие образовавшихся сквозных трещин, постепенно увеличивающихся».
Личная кладовая не должна никого удивлять. Ведь служебная квартира полицмейстера располагалась здесь же, в помещениях Первой части.
* * *
Обязанности здешних полицейских описать трудно, чего только в них не входило! И «за неисправное содержание тротуаров неупустительно составлять протоколы для привлечения виновных к ответственности». И «усилить наблюдения за чисткой дымовых труб». И активно пресекать «всякого рода восхваление преступного деяния, равно как распространение или публичное выставление сочинений либо изображений, восхваляющих такое деяние».
На все сил не хватало. Как-то раз, к примеру, губернатор города Калуги князь Николай Дмитриевич Голицын, проезжая по одной из улиц, увидел полицейского, который тщетно пытался выудить из лужи пьяного согражданина. А рядом с ним вовсю шумела драка.
Ясное дело, что Голицын выскочил из экипажа и устроил полицейскому приличествующую моменту выволочку. На что тот спокойно ответил:
– Ваше сиятельство, так я же этим, в луже, раньше занялся, чем те начали. Ну не разорваться же мне. Отволок бы в сторонку, а уж затем… Сами знаете, ваш сиятельство, у нас не забалуют-с!
Голицын плюнул и поехал дальше. А добравшись до резиденции, направил городскому голове Цыпулину письмо: «Полиция не соответствует требованиям города Калуги, чему служат доказательством безобразия на улицах, совершенные в последнее время смелые кражи со взломом, оставшиеся, несмотря на мои личные настояния, без обнаружения виновных. Преподав полицмейстеру некоторые общие руководства и указания по исполнению чинами городской полиции своих обязанностей, я тем не менее не могу отнести всецело к вине состава этой полиции такое неудовлетворительное положение служебной деятельности их, а усматриваю, главным образом, недостаточность комплекта городовых и несоответствие современным требованиям штатов чинов гор. полиции».
Писатель Борис Зайцев вспоминал совсем уж отвратительное зрелище: «Мне было одиннадцать лет, я носил ранец и длинное гимназическое пальто с серебряными пуговицами. Однажды, в сентябре, нагруженный латинскими глаголами, я сумрачно брел под ослепительным солнцем домой, по Никольской. На углу Спасо-Жировки мне встретился городовой. На веревке он тащил собачонку. Петля давила ей шею. Она билась и упиралась…
– Куда Вы ее тащите?
Городовой посмотрел равнодушно и скорей недружелюбно.
– Известно куда. Топить.
– Отпустите ее, за что так мучить…
Городовой сплюнул и мрачно сказал:
– Пошел-ка ты, барин, в…
Я хорошо помню тот осенний день, пену на мордочке собаки, пыль, спину городового и ту клумбу цветов у нас в саду на Спасо-Жировке, вокруг которой я все бегал, задыхаясь от рыданий.
Так встретил я впервые казнь. Так в первый раз я возненавидел власть и государство».
Знаменитый баснописец Иван Андреевич Крылов, в отличие от той собачки, чудом избежал расправы со стороны здешней полиции. Он сидел в каком-то кабачке и играл в карты. Поначалу выигрывал, потом перестал. Спустил весь выигрыш, затем все, что при нем было. Деньги небольшие, «карманные», но все равно обидно.
Иван Андреевич не являлся заядлым игроком, потому патологического желания во что бы то ни стало отыграться не испытывал. Вылез спокойненько из-за стола, да и вышел во двор. И тут увидел, как подъехала кибитка с несколькими людьми в длинных плащах. По звучащим переговорам стало ясно: это полицейские, нагрянувшие в кабачок с облавой на картежников.
Крылов тихонечко, дворами-переулочками улизнул и, выйдя на другую улицу, уже в открытую направился к себе домой.
А не отвернись от него вовремя фортуна, нажил бы куда больше неприятностей, чем проигранная мелочь.
* * *
Калужская полиция еще задолго до правления Голицына была довольно далека от идеала. Один из его многочисленных предшественников, А. Г. Казначеев писал: «Полиция по своим способностям, направлению и образу действий обнаруживала во всем непризнание действий жизни и пригнетала ее формами. Оплачиваемая недостаточно сравнительно с новыми учреждениями, заваленная делами, отпиской, а более всего соблюдением ничего не гарантирующих формальностей, она преимущественно заботилась о них как о лучшем средстве обеспечить себе безответственность… Во всех делах первым вопросом представлялся, как бы отстранить дело или ходатайство под предлогом отсутствия какой-либо требуемой законом формальности?.. Во всем старание угодить начальству, влиятельным и нужным лицам. В пользу последних допускались отступления от формальностей, для всех других непреодолимых. Не говоря уже о распространенном повсюду взяточничестве, казнокрадстве и карьеризме… Об обязанностях, долге и общественной пользе никто не заботился».
Казначеев лично выступал перед полицией:
– Прежде всего, конечно, требуется честность, полная, безграничная честность. Затем нужно постоянно помнить, что полиция существует для обывателей, а не обыватели для полиции… Касательно исполнения дел вообще, я не допускаю так называемых отписок… Нужно дело, нужно действительное исполнение. Сказанное мной – не одни только слова. Опыт скоро докажет вам, что я настойчиво требую исполнения выраженных мною условий.
А полицейские, похоже, стояли перед ним, вытянувшись во фунт, и думали что-нибудь вроде «мели, Емеля, твоя неделя».
* * *
Пожалуй, что действительно серьезной и ответственной была лишь работа у сыскного отделения. Для него даже издали соответствующую директиву: «Надзиратели сыскного отделения и городовые обязаны: 1) ознакомиться с планом города и местно-стью; 2) установить квартиры лиц, занимающихся преступными делами; 3) установить их знакомства и родственные связи; 4) установить лиц, занимающихся покупкой краденого, их местожительство и методы сбыта принятого; 5) должны знать все тайные дома терпимости и лиц, занимающихся тайной проституцией; 6) иметь строгое наблюдение за лицами, освобожденными из разных заключений; 7) по обнаружению лиц, проживающих без паспорта, разыскиваемых судебными властями и занимающихся преступным деянием, задерживать немедленно лишь тогда, когда имеются против него улики; 8) пользоваться всякими слухами и в пределах города таковые негласно поверять; 9) все добытые сведения два раза в день (во время утреннего и вечернего рапорта) представлять начальнику сыскного отделения письменно; 10) в случае получения сведений о нахождении где-либо тайной типографии, бомбы, склада оружия – об этом немедленно и лично докладывать начальнику отделения; 11) отправляясь для розыска (обыска) в дом, надзиратели сыскного отделения должны от местной части брать околоточного надзирателя или городового, смотря по важности обыска, но допускается эта акция и без сообщения – в экстренном случае; 12) составленные протоколы предъявлять начальнику сыска; 13) каждый надзиратель должен иметь записную книжку с отрывным листом (если ему понадобится доставить в сыскное отделение кого-либо, писать в листке имя и адрес и передавать ближайшему городовому для исполнения); 14) надзирателям и городовым в удостоверение своей личности иметь при себе билет за подписью полицмейстера и начальника сыскного отделения».
Разумеется, все эти правила в первую очередь касались именно сотрудников сыскного.
* * *
Главной же бедой калужских полицейских было, похоже, финансирование. В частности, в 1910 году до них не дошли деньги, выделенные госбюджетом. В связи с чем исполняющий обязанности помощника полицмейстера Готвальда писал г-ну Разумовскому, городскому голове: «По закону 31 января 1906 года штаты городовых Калужской городской полиции изменены с увеличением содержания в размере 13 100 рублей в год. В настоящем году от казны города пособие на полицию отпущено только 6550 рублей, но и те, согласно требованию МВД, подлежат удержанию в уплату городского долга казне за содержание полиции. Между тем, ввиду того, что еще ниоткуда не поступало дополнительного содержания городовым, израсходованы на этот предмет другие ассигнования, как то: содержание личного состава, канцелярские, сыскные. Так что не имеется сумм не только на выдачу 20 октября жалования личному составу, но даже нечем рассчитывать увольняемых теперь городовых. Ввиду изложенного, покорнейше прошу Ваше высокоблагородие сделать распоряжение о взносе в казначейство в мое распоряжение на содержание городовых по закону 1906 года 13 100 рублей с получением настоящего отношения».
Удивительно, но пропавшие деньги сумели найти.
Да что там деньги, когда проблемы были буквально со всем. Губернатор Офросимов писал полицмейстеру: «Что касается полицейских будок, то 13 лет назад я застал их еще достаточное количество, стоящих, по большей части, по концам улиц; те будки были старинного восьмиугольного типа с печью посредине, последняя была так велика, что оставляла по сторонам пространство по аршину ширины, занятое нарами, куда ложились спать, жить могли только двое, ночуя по очереди. Все упомянутые будки за старостью и негодностью были уже оставлены, а служили лишь ночными притонами для бездомных гуляк, которые могли быть легко задавлены, почему я потребовал уборки их и замены новыми. Управа предпочла временное назначение квартирных денег по 2 руб. в месяц, оставив только выстроенные новые будки: у Смоленской заставы, у Каменного моста и у дома Губернатора. Желая придти на помощь городу и городовым, я построил на засыпанных мною рву у Мясных рядов и пруда у церкви Жен Мироносиц две новые будки хозяйственным способом без всяких ассигнований со стороны Управы, употребив на это все годное от разобранных старых и все старые телеграфные столбы, отстоявшие к тому времени установленный пятилетний срок. Третья большая будка-казарма на две половины для 8-и городовых построена мною же арестантским трудом на углу Нижней Садовой улицы на месте, которое в данное время Дума постановила продать».
Вот такие «будни» полицейских будок.
* * *
Приходилось следить и за нравственностью личного состава. На этот счет 22 декабря 1910 года вышел специальный приказ калужского полицмейстера. В нем для начала велено было выдать к Рождеству старшим городовым по 15 рублей, а младшим по 10. А дальше строго-настрого указывалось, что если кто из городовых повадится ходить по домам с поздравлениями, уволен будет без права вторичного поступления в калужскую полицию.
Действительно – сегодня кланяешься, поздравляешь, лебезишь, пьешь вынесенную тебе рюмку смородиновки, закусываешь сушкой, прячешь застенчиво в карман подаренный тебе в честь праздника целковый, – а на следующий день идешь утихомиривать расхулиганившегося по пьяни благодетеля.
Нехорошо.
Спустя несколько лет другой калужский полицейский высказался еще более определенно: «25 сего декабря в день праздника Рождества Христова я буду принимать поздравления чинов полиции с праздником в полицейском управлении до начала литургии. С поздравлениями на квартиру ко мне прошу чиновников полиции не беспокоиться являться. Точно так же и взаимные поздравления с праздником чины имеют принести в полицейском управлении, чтобы не ездить друг к другу по квартирам. Этот обычай уже отжил свое время, и теперь наблюдается стремление в обществе не соблюдать его».
Действительно: семья – семьей, а служба – службой.
* * *
Огромное внимание в городе уделяли внешнему виду полицейских. В частности, в 1884 году калужский губернатор направил в полицейское управление весьма серьезный документ: «во-первых, что срок введения новой формы обмундирования чинов полиции не указан, а потому форма эта может быть вводима постепенно, по мере изношения старой;
во-вторых, что по форме обмундирования 10 марта 1867 г. классным чинам полиции были присвоены сюртуки при брюках навыпуск. Ввиду того, что об отмене ношения этих сюртуков в Высочайшем повелении 15 марта 1884 г. не упомянуто, представлялось бы возможным разрешить чинам полиции носить означенные сюртуки при брюках навыпуск, но не во время исполнения служ. обязанностей, равным образом может быть разрешаемо городовым ношение в летнее время кителей и белых брюк, если со стороны гор. общественных управлений не последует возражения относительно принятия на свои средства расходов по заготовлению означ. предметов обмундирования;
в-третьих, что по закону… классные полицейские должности не могут быть замещаемы лицами, не имеющими чинов, почему по новой форме и не установлено для последних особых отличий в плечевых знаках, но если бы представилось необходимым допустить к временному исправлению означ. должностей канц. служителей, то такие лица должны носить… кафтан без плечевых знаков;
в-четвертых, что полицейские приставы, их помощники и полицейские надзиратели должны иметь прибор серебряный, а не золотой, т.к. они хотя и подчиняются уездному полицейскому управлению, но тем не менее по роду своей службы относятся к числу чинов городской, а не уездной полиции;
в-пятых, что снабжение чинов городских полицейских команд амуницею, а в том числе и вооружением… лежит на обязанности городов;
в-шестых, что в отношении определения сроков службы одежных вещей следует руководствоваться действующими в настоящее время по сему предмету правилами».
Возможно, полицейские не на шутку расстроились, когда их заставили сменить загадочный «прибор» – с золотого на серебряный.
А впрочем, не в коня, как говорится, корм. И в 1906 году калужский губернатор ставил полицмейстеру на вид: «Мною замечено, что классные чины калужской городской полиции появляются на улицах небрежно одетыми. Так, например, вчера, 10 апреля, помощник пристава 3 части Данишевский, проходя по городу вместе с приставом 3 части Денисовым, позволил себе надеть фуражку на затылок, и пристав не счел своим долгом заметить это Данишевскому. Ввиду чего предписываю Вашему Высокородию сделать замечание Данишевскому и Денисову, разъяснив им, что высшие чины полиции как в отношении форменной одежды, так и во всем прочем должны служить примером для низших чинов полиции».
А ведь Данишевский всего-навсего хотел придать себе более бравый вид.
Впрочем, губернаторы меняли гнев на милость, как только полицейские и вправду отличались в настоящем деле: «Задержание 16 сего января грабителей казенной винной лавки и обнаружение 17 сего же января тайной типографии в г. Калуге показывают на умелое и постоянное руководство чинами Калужской городской полиции Вашим Высокородием общее, со стороны приставов в районах, им подведомственных. Причем особого внимания заслуживает стойкость и неустрашимость чинов полиции при преследовании грабителей.
Вследствие сего считаю себя обязанным по долгу службы изъявить вам свою признательность, а приставам губ. скр. Мещерскому, кол. регист. Данишевскому и коллеж. асессору Денисову поручаю Вам объявить мою благодарность.
Надеюсь, что в дальнейшем служба чинов Калужской городской полиции будет продолжаться с той же энергией и успехом, которой отличались до сего времени».
Так что Данишевский мог не только на затылок надвигать фуражку, но и реально обеспечивать порядок в городе.
* * *
И все же с имиджем у здешних полицейских были серьезные проблемы. Полицмейстер Е. И. Трояновский не без досады докладывал своим подчиненным: «В №114 «Губернских ведомостей» появились две статьи о ночных грабежах, траве прохожих собаками, зловонии на Успенской плотине, неисправности Чертова Мостика и вообще несоответствии всей полиции своему назначению. Из докладов Приставов и Помощников и из личных наблюдений я вижу, что появление таких сведений произвело на все население города такое впечатление, какого никто не мог ожидать: началось поголовное глумление над городовыми, их начинают вновь бить, чего не было уже очень давно. Считаю долгом внушить всем чинам полиции, что оценка деятельности нашей принадлежит только нашему начальству, что нельзя падать духом от того только, что в печати появились статьи корреспондентов, которые только и живут тем, что зарабатывают пером. Не следует никому оскорбляться тем, что в статьях таких бывает все раздуто и большей частью голословный набор фраз, рассчитанный на то только, чтобы занять читающую публику. Так и в данных случаях, описанных в корреспонденциях, нельзя же обижаться, что пишущему не хочется ходить по плотине и потому он нашел там трясину; всем моим сослуживцам известно, сколько трудов и собственных средств положено за восемь лет мною для уничтожения бывшей на месте мясных рядов клоаки, которую действительно надо было объезжать по Садовой; теперь плотина втрое расширена, обсажена, ограждена (и даже ограда успела сгнить частью), ров засыпан, засеян травою, засажен деревьями, поставлена будка для городовых (образцовая), упорядочена свалка только уличного сора, ежедневно все лето дезинфицируемая целыми бочками газовой смолы. Ну зачем же обижаться на корреспондента, ведь всякий, кто прочтет, оценит правду!
…Число краж растет, хотя все-таки их не так много, чтобы запутаться в розысках, и на это следует обратить все внимание, напрячь все силы, чтобы искоренить воровство! Я прошу всех чинов полиции верить, что заслуги их всегда будут известны Его Сиятельству, нравственный долг мой – заботиться о всех подчиненных. Никто не пострадает безвинно, я всегда готов защитить каждого, не следует падать духом от массы жалоб, поступающих только с целью причинить неприятность. Правое дело всегда выплывет наружу! Христианский долг обязывает терпеливо нести всякую тяготу, а на службе нельзя не иметь неприятностей».
Видимо, есть нечто мистическое в том, что в России отношения между народом и правоохранительными органами никогда не складывались идеально.
* * *
А вообще, если представить себе нравы калужан, то станет ясно – полицейским в этом городе приходилось ой как тяжело. Вот, к примеру, один мемуарчик, написанный Иваном Павловичем Николаевым, лаборантом физического кабинета калужской казенной гимназии: «Мне не раз доводилось видеть, как два человека пожилого возраста – один в крылатке и котелке, а другой в форме ведомства народного просвещения – горячо и громко о чем-то спорят, стоя на проезжей части дороги, чертя доказательства зонтиком на песке. Однажды спор привлек внимание не только прохожих, им заинтересовался городовой и поспешил в участок за указаниями. А те двое долго чертили что-то на земле, потом пожали друг другу руки и собрались уже разойтись, но в это время появился запыхавшийся городовой. Он приложил руку к козырьку фуражки и, когда спорщики ушли, сообщил собравшимся, что это были „ученый Циолковский и его превосходительство господин директор гимназии Щербаков“, постовой рассказал нам, что в участке получил приказание „не беспокоить их“».
Остается только посочувствовать бедным городовым – с таким-то городским бомондом.
* * *
На месте дома №20 располагался хитроумный дом, построенный после войны с Наполеоном для местного вице-губернатора Загряжского. Хитрость заключалась в том, что дом был деревянным, но с помощью искусно наложенной штукатурки ему придали вид каменного.
Впоследствии в том здании располагалась частная женская гимназия демократически настроенной Марии Ивановны Шалаевой. Эта гимназия была весьма необычной для царской России. К примеру, когда свергли династию Романовых и большинство отечественных педагогов пребывали, мягко говоря, в растерянности, Мария Ивановна действовала на редкость уверенно. Она собрала всех учащихся девочек в актовом зале, выставила перед ними красный флаг и собственноручно исполнила «Интернационал» на рояле.
Увы, дом не сохранился, он был разрушен во время войны.
* * *
Зато несколько далее, по той же стороне находится дом №40 – усадьба Кожевниковых, во дворе которой чудесным образом дожил до наших дней редкостный комплекс деревянных дворовых служб. Сейчас здесь расположена станция неотложной помощи, и угрюмые люди в поношенных белых халатах с тоскою взирают на то, как с годами приходит все в больший упадок этот архитектурно-исторический шедевр. Так что стоит спешить познакомиться с ним.
* * *
А рядом, в доме №42 располагался Художественный кружок – один из культурных центров дореволюционной Калуги. Здесь же проживала Евлалия Павловна Кадмина. Для нее писал романсы сам Петр Ильич Чайковский. Притом не ограничивался музыкой – сам сочинял стихи:
Луначарский называл Е. Кадмину «Кометой дивной красоты», а Иван Сергеевич Тургенев посвятил ей повесть «После смерти», или «Клара Милич». Прототипом главной героини была, разумеется, сама Кадмина: «Наконец, после довольно долгого промежутка, красное сукно на двери за эстрадой зашевелилось, распахнулось широко – и появилась Клара Милич. Зала огласилась рукоплесканиями. Нерешительными шагами подошла она к передней части эстрады, остановилась и осталась неподвижной, сложив перед собою большие, красивые руки без перчаток, не приседая, не наклоняя головы и не улыбаясь.
Это была девушка лет девятнадцати, высокая, несколько широкоплечая, но хорошо сложенная. Лицо смуглое, не то еврейского, не то цыганского типа, глаза небольшие, черные, под густыми, почти сросшимися бровями, нос прямой, слегка вздернутый, тонкие губы с красивым, но резким выгибом, громадная черная коса, тяжелая даже на вид, низкий, неподвижный, точно каменный, лоб, крошечные уши… все лицо задумчивое, почти суровое. Натура страстная, своевольная – и едва ли добрая, едва ли очень умная – но даровитая – сказывалась во всем»