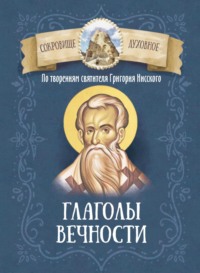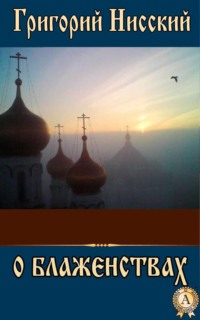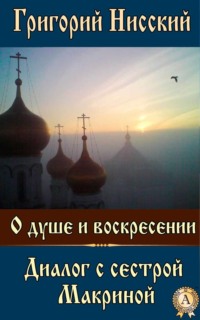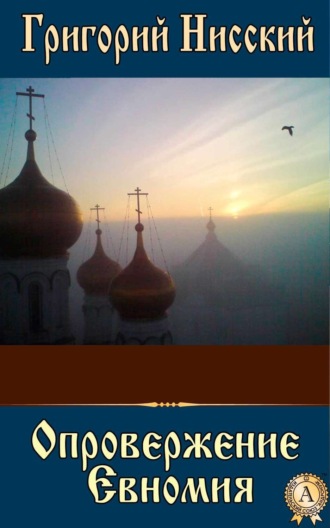
Полная версия
Опровержение Евномия
Но найти себе место такому отрицанию не дозволяют истинные его ученики, или падет самое главное его положение, и разорится скиния ради сего наипаче утвердившихся на догмате его. А кто бесстыден, не уважает человеческой укоризны, угодно ли видеть это из дел юности или из дел последующей за тем жизни? В том и другом случае найдешь, что укор в бесстыдстве падет на него самого; ибо не одно и то же свидетельствуют о каждом из них и юность, и следующая за нею жизнь.
Пусть сочинитель этот приведет себе на память, как жил он на родине во время юности и в Константинополе, и пусть услышит от знающих, что им известно о том, на кого он клевещет. Если же пожелает кто обозреть последующие занятия, то пусть сам скажет, кто достоин наименования бесстыдным? Тот ли, кто до священства щедро расточил отеческое имущество бедным, а наипаче во время голода, когда сделался настоятелем в церкви, священствуя еще в сане пресвитера, и после сего не пощадил остатков, так что и он мог похвалиться с Апостолом: «ниже туне хлеб ядохом» (2Сол.3:8)? Или тот, кто защиту догмата обратил в предлог к доходам, самозвано вторгается в дома, отвратительного недуга не прикрывает своим поведением, не рассчитывает, что у здоровых естественное бывает отвращение от таковых людей, и что по древнему закону, по причине близости в значении недугов, и его изгнали бы из стана живущих?
Еще же опрометчивым обидчиком и, во всяком случае, лжецом именуется Василий у того, кто великодушно, с кротостью обучает противников, ибо так в сочинении своем услаждается речами о себе, кто не оставил ни одного случая излить весь избыток горечи, где только мог это сделать. Итак чем же и какими поступками обличает Василия в обиде и опрометчивости? «Тем, – говорит, – что меня каппадокиянина, назвал галатом, а потом имеющим жительство на рубеже отечественных стран, в каком-то безымянном краю Корниаспины».
Если и назвал не урожденцем Олтисирии, а галатом (но только докажет ли, что прибавлено это название, ибо в наших списках нет сего приложения; допустим однако без спора, что и это сказано), неужели за сие одно Василий называется опрометчивым, обидчиком, и всеми укоризненными именами? А не разумеет того мудрец, что обвинение от клеветника в маловажном доставляет обвиняемому великую защиту и свидетельство о правоте? Ибо предпринявший обвинить не стал бы щадить важнейшего и упражнять злобу свою маловажным, о чем действительно говорит он много, возвышая и преувеличивая неправду, с важностью любомудрствуя о лжи, признавая ее равною нелепостью, идет ли дело о важном или о маловажном. Ибо подобно отцам своей ереси, разумею книжников и фарисеев, умеет тщательно оцеждать «комары» и нещадно пожирать горбатого вельбуда (Мф.23:24), навьюченного тяжелою ношею лукавства. И, может быть, не неуместно было бы сказать ему, чтобы пощадил от такого законоположения живущих в нашем гражданском обществе и не давал повеления почитать за ничто различение осуждения во лжи по малости и значительности дел. Ибо не одинаково грешат и Павел, допуская ложь и очищаясь по-иудейски благовременно с пользою для введенных в обман, и Иуда во время предательства, приняв на себя вид друга и защитника. Солгал и Иосиф, человеколюбиво шутя над братьями, и клянясь в этом фараоновым здравием (Быт.42:16); солгали и братья против него, по зависти умыслив ему сперва смерть, а потом рабство. Можно сказать много и других подобных примеров. Лжет Сара, устыдясь своего смеха; лжет и змий, внушая такую мысль, что человек преслушанием перейдет в естество Божие. Великая разность во лжи по тому, чего она касается; невозможно и сказать какова она, будешь ли судить по древним повествованиям или по нынешней жизни.
Посему и мы, по общему приговору о людях, какой устами Пророка изрек Дух Святый, а именно: всяк человек ложь (Пс.115:2), – соглашаемся, что и человек Божий вовлечен был в ложь, случайно употребив название сопредельной страны или по незнанию местного именования, или по необращению на то внимания. Но солгал и Евномий, и какая же это ложь? Извращение самой истины; говорит, будто бы вечно Сущего когда-то не было; утверждает, что истинно именуемый Сыном называется так лжеименно; о Творце вселенной выражается, что Он тварь и создание; Господа всяческих называет рабом; по естеству имеющего начальство сопричисляет к естеству рабственному. Мала ли эта разность во лжи? Такова ли чтобы кому-либо почесть за ничто солгать, по-видимому, так или иначе?
11. Но смотрите, какую прилагает попечительность об истине в доказательстве, других укоряющий даже за софистический образ речи.
Учитель наш в слове к Евномию сказал, что во время переворота в делах в награду за нечестие приобрел он Кизик. Посему что же делает обличающий софистов? Привязывается немедленно к слову «награда» и говорит, будто бы, по нашему признанию, «он защитился, одержал верх апологией и приобрел победную награду состязаниями», и слагает умозаключение, выводя следствие, по его мнению, из беспрекословных положений. Перескажем же буквально, что собственно им написано: «если награда, – говорит он, – есть признак и конец победы, а на победу указывает судебное производство, судебное же производство вместе с собою вводит, конечно, мысль об обвинении, то допускающий награду необходимо должен признать, что была и апология».
Что же скажем на это? Не будем спорить, что состязался он, что сие лукавое состязание нечестия было весьма сильно и упорно, и не в малой мере своими усилиями против истины превзошел и превысил он подобных ему; но не над противниками одержал он победу; в сравнение же с теми, которые по нечестию вместе с ним стремились в заблуждение, опередил всех преизобилием лжи, и, таким образом, за переизбыток зла получил в награду Кизик. Как преимуществующий перед всеми, подобно ему вступавшими в борьбу с истиною, во время победы, одержанной хулою, удостоен громкого и знаменитого провозглашения, и в награду за нелепое учение законоположившими так при состязании избран ему Кизик. И что в означенном смысле признано сие нами, доказывает наше сочинение, в котором сказано, что Кизик сделался для него наградою нечестия, а не каким-либо успешным следствием апологии. Посему, что же общего в сказанном нами с этим детским сплетением софизмов, будто бы за это как состоялось над ним судебное следствие, так приготовлена им апология?
Подобное сему походит на то, как если бы кто, на пиру больше других выпив неразбавленного вина и за это пившими вместе с ним удостоенный какой-либо чести, победу сию на пиру обратил в доказательство, что судим был на судилище и в суде одержал верх. Потому что таковой может, подражая ему, составить умозаключение: если награда есть признак и конец победы, на победу же указывает производство суда, а производство суда вводит с собою, конечно, мысль об обвинении, то я одержал победу над судом, потому что, упиваясь, был увенчан на состязании в том, кто больше выпьет.
Но таким образом хвалящемуся, конечно, кто-нибудь скажет, что иначе ведутся состязания в судилище и иной способ прения на пиршествах; и победивший на чашах вследствие таковой победы не имеет никакого преимущества перед своими противниками в судилищах, хотя он и красуется цветочными венками. Посему и кто превзошел подобных себе словом нечестия, в приобретенной за нечестие награде не представляет еще свидетельства, что победил и в суде. Поэтому какую же пользу доставляет непроизнесенному защищению наше свидетельство, что он берет верх в нечестии? Ибо, если бы, оправдавшись перед судьями и одолев противников, потом уже принял возданную в Кизик почесть, то сказанное нами благовременно было бы обратить против нас. Если же непрестанно свидетельствуется в слове, что, избегая неприязненности властных произнести приговор, в безмолвии принимает назначенное ему наказание, не соглашаясь суд о подвиге предоставить врагам, то для чего обольщает сам себя, и слово «награда» употребил в свидетельство, что оправдался? Не выразумел чудный сей муж значение слова «награда», а именно, что Кизик отдан ему, как некое отличие и признание доблести по превосходству в нечестии. Но поелику принимает награду по желанию и как победный дар, то пусть примет и то, что соединено с сим понятием, а именно, что своей победой приобрел он превосходство в нечестии. Ибо если нашим оружием укрепляется против нас, то справедливость требует воспользоваться или тем и другим, или ни тем, ни другим.
12. Таков он в наших делах; но не окажется ли, хотя сколько-нибудь держащимся истины в прочем, что сказано у него оскорбительного? В этом описании Василия робким, несмелым, уклоняющимся от трудов более упорных, в изображении его всеми подобными сему чертами, когда Евномий тщательно собирает признаки робости: скрытную хижину, надежно запертую дверь, смятение от страха, производимое входящими, и голос, и взгляд, и черты лица, и все тому подобное, чем выражается недуг робости. Но если бы Евномий и не был обличен солгавшим в чем-либо другом, то достаточно было бы и сего одного, чтобы обличить образ его действия. Ибо кто не знает, как в то самое время, когда царь Валент восставал на церкви Господни, великий оный подвижник великодушною решимостью превозмог столь затруднительное положение дел, стал выше устрашающего, превознесшись мыслью над всем, что устроялось к его устрашению? Кто из обитателей востока, кто из населяющих самые края нашей вселенной не знал борьбы его за истину с преобладающими? Кто не приходил в ужас, взирая на сопротивника? Это был не какой-либо человек обыкновенный, не поддельными хитросплетениями приобрел он силу побеждать, и взять над ним верх было небесславно, и быть им побеждену – не безвредно; но, хотя под своим правлением имел тогда всю римскую державу, однако же, гордясь столь великим царством, послушался клеветы на наше учение Евдоксия, епископа германикийского, который обманом привлек его к себе. А споборниками в своем желании имел он всех людей сановитых, всех служащих при нем и заведывающих делами, из которых иные склонились на сие добровольно, по сходству в мыслях, а многие из страха перед державною властью с готовностью делали, что ей было угодно, и жестокостью к державшимся веры доказывали усердие к нему, когда бегства, описи имения, изгнания, угрозы, взыскания, опасности, содержание под стражей, узилища, бичевания и что еще страшнее сего, – все приводимо было в действие против несоглашающихся с желанием царя; когда оказавшимся в доме Божием благочестивыми было тяжелее, нежели уличенным в самых преступных винах.
Но подробное описание всего этого потребовало бы какого-либо большего сочинения, многого времени и труда особого рода. С другой стороны, поелику тогдашние бедствия известны всем, то ничего не прибавится настоящему слову точным изложением сих несчастий в письменах. В повествовании о них есть и другая невыгода; излагающему по порядку историю сих горестных событий необходимо сделать некое упоминание и об учиненном с нашей стороны. Ибо если в сих борьбах за благочестие и сделано нами что-либо такое, что при повествовании может возбудить соревнование, то мудрость повелевает предоставить сие ближним, по сказанному: «да хвалит тя искренний, а не твоя уста» (Притч.27:2). Сего-то не уразумев, проникающий во все большую часть своего сочинения занял велеречием о себе.
Поэтому все сему подобное отлагая в сторону, в точности изложу дела боязливости нашего учителя. Противостоял ему как сопротивник сам царь; а прислуживал стремлениям царя начальствующий по нем во всем царстве, и содействующими таковому пожеланию служили все окружающие царя. Для точнейшего испытания и доказательства в подвижнике непоколебимого убеждения присовокупи к этому и самое время. Какое же тогда было время?
Царь отправился из Константинополя на восток, превозносясь мысленно недавними своими успехами над варварами и не предполагая, чтобы стало что-либо противиться его желаниям. Предшествовал же ему в этом пути епарх, вместо какого-либо иного необходимого, для начальства делающий такое распоряжение, что бы ни одному держащемуся веры не позволялось оставаться на своем месте, но все таковые отовсюду были изгоняемы, а на место их вводимы были какие-либо другие самозваные, к оскорблению божественного домостроительства. Посему, когда с таким решением, подобно какой-то грозной туче, державная власть двинулась из Пропонтиды против церквей, и внезапно Вифиния опустела, а Галатия с большим удобством увлечена, и все на пути уступали им в образе мыслей, а по порядку и наша уже страна подверглась этой беде; что делает тогда великий Василий, этот, как говорит Евномий, боязливый, не смелый, робеющий страшного, вверяющий спасение свое скрытой хижине? Приведен ли в ужас постигшим бедствием?
Страдание ли постигнутых им прежде приемлет себе в советника для собственной своей безопасности? Соглашается ли с советующим уступить ненадолго стремительности зла, и не повергать себя в очевидную опасность сношением с людьми, привыкшими к кровопролитию? Или всякое превосходство слов, всякая высота мыслей и речений изобличит себя в том, что она ниже действительности? Как изобразит кто словом столь великое презрение страхований? Как представит кто взору эту новую борьбу, о которой справедливо может иной сказать, что ведут ее не люди и не с людьми, но что добродетель и дерзновение христианина противоборствуют в ней убийственному владычеству.
Предварив прибытие царя, призвал Василия к себе епарх, начальственную власть, и без того страшную по величию оной, еще более страшною сделав жестокостью наказаний, после тех плачевных опытов, какие совершил в Вифинии. Когда с обычною легкостью без труда покорены были галаты, епарх думал, что и у нас встретит готовность на все, что ему угодно. Предначатием же строгости в делах служила речь, смешанная вместе из угроз и обещаний.
Епарх говорил, что Василий, если будет покорен, продолжит пользоваться и честью от царя и начальством в церкви, а если воспротивится, потерпит все, чего похощет раздраженная душа, к власти присовокупив и силу. Таковы были их поступки.
А наш столько далек был от того, чтобы прийти в какой-либо ужас от видимого или сказанного, что, подобно некоему врачу или доброму советнику, призванному исправить ошибки, приказывал им раскаяться в том, на что отваживались, и впредь прекратить убийство рабов Господних; потому что пекущимся об одном царствии Божием и о бессмертной державе могут они не более как только примыслить что-либо; но не в силах сделать зло, не в состоянии изобрести ничего такого, что, будучи сказано или сделано, опечалило бы христианина. Опись имения, говорил он, не коснется полагающего все стяжания в одной вере; изгнание не устрашит с одинаковым расположением обходящего всю землю и взирающего на всякую страну по кратковременности жительства, как на чуждую, и поелику вся тварь сослужебна, – на всякий град, как на свой. Подвергнуться же ударам или трудам, или смерти, когда нужно то будет за истину, – не возбудит страха и в женщинах, но для всех христиан есть высший предел блаженства в чаянии оного претерпеть что-либо невыносимое. Одно только печалит, присовокупил он, что одна в природе смерть, и не находит он никакого способа, чтобы можно было многими смертями подвизаться за истину.
Поелику же Василий в этом случае поставил себя выше оных угроз и всю надменность оного властительства презрел, как ничто, то, как на зрелище с переменою лиц вместо одних являются внезапно другие, так и здесь горечь угроз преобразилась в ласкательство, грозный дотоле и ужасающий своею гордынею епарх, переменив речь на скромную и снисходительную, говорит: «А ты не почитай маловажным, что великий царь вступает в среду твоего народа, напротив того, согласись именоваться и его учителем, и не противься изволению его. Угодно же ему, чтобы сие последовало по исключении из письменного изложения веры одной малости – речения «единосущный». Но учитель отвечает опять: царю стать членом церкви – это весьма важно, ибо, говорит он, великое дело – спасение души, не потому, что это – царь, но потому что вообще он человек. Но, чтобы в изложении веры сделать исключение или прибавление, столько далек он от сего, что не может изменить даже порядка в написанном. Вот что этот робкий, малодушный, приходивший в ужас при скрипе двери, изрек словом столько высокому чином и сказанное подтвердил делами! Так остановил и отвратил он собою, как бы поток какой разливающийся по владениям, ниспровержение церквей, один возымев достаточную силу против удара зол, и подобно какой-то великой и непоколебимой скале в море вместо многих л огромных волн сокрушив собою приращение бедствий.
Но сим не кончилась его борьба. Напротив того, еще предпринимает сделать опыт сам царь, негодуя, что в первое нападение дело кончилось не в его удовольствие. Посему, как некогда ассирийский царь в Иерусалиме разорение израильского храма велел произвести повару Навузардану, так и этот некоему Димосфену, приставленному к приготовлению яств, и главному повару, как бесстыднейшему других поручив сию службу, думал, что одержит верх во всяком предприятии. Посему, так как из всего делает он смесь, и какой-то богоборец из Иллирика, с посланием в руках, собирает на это всех вельмож, и Модест снова воспламеняется гневом с сильнейшею прежнего стремительностью; то все подвиглись гневом царевым, негодуя вместе с огорченным царем, и угождая раздражению власти, и все поражаются грозою ожидаемого. Ибо опять этот епарх; опять сильнейшие прежних восстания страхований, прибавления угроз, чувствительнейшее раздражение, плачевное зрелище судилища, глашатаи, докладчики, жезлоносцы, загородки, занавесы, все, чем легко приводятся в ужас мысли и у самых приготовленных. И снова подвижник Божий во вторичной борьбе и превосходит славу, приобретенную в предшествовавшей. Если требуешь доказательств, то смотри на самые дела.
Было ли в церквах какое место, не разоренное тогдашним переворотом?
Осталось ли какое племя не испытавшим еретического восстания? Кто из уважаемых в церквах не был от влечен от трудов? Какой народ избежал такого насилия? Возьмем ли всю Сирию, средоречие даже до варварских пределов: Финикию, Палестину, Аравию, Египет и Ливийские племена до самого конца известной нам вселенной – и всех обитающих там: понтийцев, киликийцев, ликиян, лидяь, писидиян, памфилиян, карийцев, жителей Геллеспонта, островитян до самой Пропонтиды, и всех населяющих Фракию, куда только простиралась Фракия, и окрестные племена до самого Истра; что из всего этого осталось в своем виде, исключая разве то одно, что прежде еще одержимо было таковым злом? Но из всех народов один каппадокийский не ощутил общего бедствия церквей; его спас от искушений великий наш защитник.
Таковы последствия робости нашего учителя! Таковы дела приходившего в ужас от трудов более тяжких! Не у жалких старух снискал он себе славу, не о том старался, чтоб обмануть женщин, легко доступных всякому обману, не почитал за великое возбудить к себе удивление в людях предосудительных и развратных; но делами доказал душевную крепость, постоянство, мужество и благородство в образе мыслей. Его заслуги – спасение всего отечества, мир нашей церкви, образец всего доброго для живущих добродетельно, низложение противников, защита веры, ограждение немощных, поддержка усердных, – все, что признается у нас лучшим. При сих только повествованиях и слух, и зрение приводятся в согласие делами. Ибо здесь одно и то же – и словом повествовать о том, что прекрасно, и на деле показывать свидетельствуемое словами, а в том и другом достоверным делать одно другим, память видимым, а дела повествуемым.
13. Но не знаю, как на столько удалилось слово от предположенного, обращаясь к каждой хуле, высказанной клеветником. Впрочем Евномию немалая выгода – это замедление слова на подобных предметах; обличение людских неправд препятствует слову поступить к существеннейшему. Как судимого за убийство бесполезно преследовать за опрометчивость в словах, потому что обличенного убийства достаточно к произнесению смертного приговора, хотя убийца не обличается с тем вместе ни в какой опрометчивости слов, так, кажется мне, хорошо будет в обличении Евномия представить только его нечестие, а злословие против нас отложить в сторону. Ибо явно, что, с обнаружением зломыслия в важнейшем и существенном, обличается вместе и все прочее, как возможное для него, хотя и не будем в точности говорить обо всем подробно. Итак, главное, к чему стремится он и в прежнем своем слове, и в том, которое разбираем теперь, есть хула на догмат благочестия; все же старание прилагает совершенно извратить, изгнать, уничтожить благочестивые понятия о единородном Боге и о Святом Духе. Посему, чтобы умствования его о догматах истины оказались наиболее лживыми и несостоятельными, сперва предложу буквально сказанное о них Евномием, а потом, возвратясь опять к сказанному, исследую каждое изречение отдельно.
«Все наше догматическое учение ограничивается превысшею и в самом собственном смысле так называемою сущностью, еще тою, которая от нее существует, после же нее первенствует над всеми иными, наконец, третью, которая не состоит в одном ряду ни с одною из поименованных, но подчинена одной как причине, а другой, как действованию, которым пришла в бытие; без сомнения же, для восполнения всего учения берутся вместе и действования последующие за сущностями и сродные им именования. Еще же, поелику каждая из сих сущностей, отдельно взятая проста и в собственном своем достоинстве и есть, и умопредставляется совершенно одна, а действования определяются делами, и дела измеряются действованиями действующих, то, по всей необходимости, за каждой из сущностей последующие действования одни меньше, другие больше, одни состоят в первом, другие во втором ряду, и вообще говоря, доходят до такой разности, до какой могут доходить дела; потому что не позволительно назвать одним и тем же деиствование, которым сотворил ангелов или звезды, или небо, или человека; но, сколько одни дела превосходнее и досточестнее других, столько и деиствование выше другого деиствования, как скажет иной благочестиво рассуждающий; так как одни и те же деиствования производят тождество в делах, а разные дела указывают и на разность деиствовании. Поелику же сие действительно так, и взаимным отношением одного к другому соблюдается непременная связь, то производящим исследование в сродном вещам порядке надлежит не смешивать всего вместе, усиливаясь слить это; и если поднят будет спор о сущности, то из первых и непосредственно принадлежащих сущностям деиствовании производить удостоверение в доказываемом и разрешение спорного; а при разрешении сомнения о действованиях из сущностей самым приличным и для всех полезным почитать поступление от первых ко вторым».
14. Итак, вот хитросплетение хулы! Истинный же Бог наш, Сын истинного Бога, водительством Святаго Духа да направит слово к истине. Будем опять повторять сказанное по порядку. Евномий говорит, что «догматическое его учение ограничивается превысшей и в самом собственном смысле так называемой сущностью, еще тою, которая от нее существует, после же нее первенствует над всеми иными, наконец, третьей, которая не состоит в одном ряду ни с одною из поименованных, но подчинена одной, как причине, а другой – как действованию». Итак, первое злоухищрение в книге есть следующее: Евномий, обещая изложить нам таинственный догмат, как бы исправляя евангельские речения, не употребляет тех именований, в которых Господь предал нам таинство сие в тайноводстве веры, напротив того, умолчав имя Отца и Сына и Святаго Духа, вместо Отца именует какую-то превысшую и в самом собственном смысле именуемую так сущность, вместо Сына – сущность, которая от первой существует, после же нее первенствует над иными, а вместо Святаго Духа – сущность, которая не состоит в одном ряду ни с одною из поименованных. Но если бы так выразиться сообразнее было с делом; то Истина, без сомнения, не затруднились бы в изобретении сих слов; не затруднилась бы, конечно, и приявшие потом на себя проповедь таинства, и «исперва самовидцы и слуги бывшии Словесе» (Лк.1:2), а после них целую вселенную наполнившие евангельскими догматами, и опять после сего по временам восстававшие недоумения о догмате, разбиравшие на общем соборе, записанные предания которых всегда сохраняются в церквах. Если бы так надлежало выражаться, то не было бы у них и упоминания об Отце и Сыне и Святом Духе. Если совершенно благочестиво или безопасно речения веры заменить этою новизною, то значит, что невежды, не оглашенные в таинствах, не слыхавшие именований, как выражается Евномий, сродных, были те, которые и не умели, и не хотели собственные свои понятия сделать предпочтительнейшими именований, преданных нам в Божественном слове?
15. Но всем, думаю, явна причина этого составления новых имен. Ибо всякий человек, услышав название Отца и Сына, тотчас из самих имен познает свойственное им и естественное одного к другому отношение; потому что из сих названий само собою разъясняется сродство естества. Посему, чтобы не было сие разумеемо об Отце и единородном Сыне, скрадывает через это у слушателей то понятие взаимного свойства, которое с именами само собою входит в мысль; и, отложив в сторону речения богодухновенные, в изложении догмата пользуется речениями, придуманными к вреду истины.