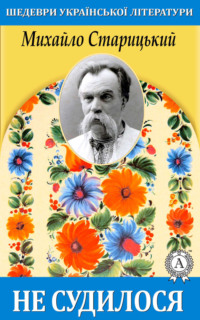Полная версия
Молодость Мазепы
– Постой ты, «дзыго»! – крикнул ей вдогонку Сыч, но Орыся уже не слышала его, – Верно, панотец приехал. Ишь, как соскучилась за батьком, – улыбнулся он доброй широкой улыбкой и обратился к Галине. – Ну, ты, дытыно, посиди здесь, а я пойду панотца встретить, может он молитву прочтет над ним, и «зглянеться» Господь.
Сыч вышел, Галина осталась одна. Она придвинула свой табурет к самому ложу больного и задумалась. Ужасный бред его произвел на нее потрясающее впечатление. Из его отрывочных криков ей было ясно только то, что Мазепа стал жертвой возмутительного панского насилия, и что какая-то пани, вероятно, жена того пана, – решила Галина, – помогала еще во всем этом «гвалти». Картина насилия вставала перед ней, как живая; ей казалось, что она видит страшную борьбу Мазепы, его тщетные усилия освободиться от злодеев, что она чувствует его нечеловеческие муки… И в сердце ее разгоралась ненависть к мучителям-панам и чувство бесконечной жалости к несчастному страдальцу.
– Бедный, бедный, любый наш! – шептала она со слезами на глазах, наклоняясь к нему и проводя ласково рукой по его голове. – Ты не бойся, мы не отдадим тебя никому, никому. Мы любим тебя, слышишь? Любим, любим, любим! И защитим от всех.
В хате было тихо; слышно было, как билась и жужжала запутавшаяся в паутину муха.
Галина все шептала на ухо больному нежные, ласковые слова, но больной только слабо дышал и не слыхал ее слов. Между тем во дворе происходила следующая сцена. Прямо друг против друга сидели в тени вишневого садика Сыч и гость, приехавший в сопровождении трех казаков. Последние, подкрепившись уже всем, что могла достать для дорогих гостей баба, разошлись отдохнуть с дороги. Орыся также куда-то исчезла.
Собеседник Сыча казался гораздо моложе его, хотя волосы и борода его были сильно тронуты сединой, но черные глаза глядели живо, молодо и смело, а во всех движениях его высокой, но коренастой фигуры виднелись сила и здоровье. Одет он был в чоботы, шаровары и в холщовую рясу, скорее похожую на длинный кафтан; только по волосам, заплетенным в тугую косичку, и по кресту на шее можно было догадаться, что это был священник.
– Так-то, панотче, – говорил глубокомысленно Сыч, наполняя медом ковш своего гостя, – недаром говорится: гора с горой не сойдется, а человек с человеком сойдутся. Кто бы мог гадать, кто бы мог думать, что мы с вами «спиткаемся» снова и когда? А вот же и свел Господь на храму за Днепром, после двадцати, а то и больше лет.
– Да, да, – отвечал, поглаживая бороду, священник, – во всем Десница Божия. Много воды уплыло. Ты из дьячка запорожцем стал, ге-ге, да ты и всегда был воинствующий… А помнишь, как мы с тобой в Золотареве наш колокол «боронылы»?
– Как не помнитьі – вскрикнул шумно Сыч, – ух, распалилось с того дня у меня сердце на этих клятых панов! А потом с нашим батьком покойным Богданом…
– Да я и сам, – поправил волосы батюшка, – если б не было тогда пани матки да дробных деток, – ушел бы к нему, ей-ей, ушелбы!
– Ox, ox! И славное ж тогда было время, панотче, – стукнул в восторге Сыч ковшиком по скатерти, – ей-Богу, и душу свою отдал бы, чтоб снова так пожить, как тогда жилось! Вот седьмой уже десяток начинаю, а встань сейчас славный наш гетман Богдан Хмельницкий да крикни, как прежде: «Гей, хлопци-молодци, славни козакы запорожци!» – орлом бы за ним полетел! – Лицо Сыча засияло, глаза вспыхнули. – А как вспомнишь, панотче, наши славные бои, – продолжал он с воодушевлением, – Пилявцы, Жовти Воды, Корсунь, – ей-Богу, от думки одной помолодеешь! А наши лыцари, Чарнота, Ганджа. Кривонос, Морозенко! Эх, что там считать! – махнул он рукой, – правда, что и Господу Богу нужны казацкие души, только, как подумаешь, что таким лыцарям пришлось умереть, так даже жалко станет, на какого ж беса ты сам остался на свете никому не нужным «шкарбаном»!
– Эх, дяче, мой дяче! – вздохнул батюшка, – теперь нам еще нужнее люди! Вон в оторванной нашей Левобережной Украине что творится? Как лиходействует Бруховецкий? Содом и Гоморра! – священник махнул с отвращением рукой и продолжал: – Слыхал ли ты верно о том, что затевал гетман повсюду?
Сыч только молча кивнул головой.
– Мало ему было всяких мирских мерзостей, так он еще задумал отнять у нас митрополита. Да мы ему дорогу всю палками «загатым», а своего митрополита не отпустим! Наша митрополия первая на всей Руси. Что ж он хочет киевские святыни без митрополита оставить? Нельзя нам у чужих митрополитов в послушании быть. Царьградский патриарх один отец наш, его и послушаем.
Известие это вызвало целую бурю в сердце Сыча. Разговор перешел на современные темы, на низкие происки гетмана Бруховецкого, на ненависть к нему народа, на то, что пора бы «розирваний Украйни злучытыся на викы».
Потом Сыч передал о. Григорию странное и чудесное появление Мазепы.
– Да с чего бы это они его так замучили, ограбить хотели, что ли?
– Какое! Из слов его я понял, – закачал таинственно головой Сыч, – что как будто это дело из-за пани какой-то вышло, жены, что ли, того пана.
– Вот оно что, – протянул священник, – ну, а как думаешь, выходишь?
– Как Господь милосердный даст… Хотел вас просить, панотче, молитву над ним прочитать.
– Что ж, это можно хоть «зараз», – согласился священник.
VII
Собеседники поднялись и направились к хате. Они застали Галину у изголовья больного. Усталая, измученная своим тревожным состоянием, она задремала, сидя над больным, и только тогда открыла глаза, когда Сыч ласково дотронулся до ее плеча. При виде о. Григория Галина смешалась. Сыч подвел ее под благословение к батюшке и затем сказал: «Поищи, дытыно, бабу и Орысю, пусть приготовят все, что нужно, да идут сюда: панотец отслужит над ним акафист с водосвятием, – может, Господь ему сил прибавит».
Галина выбежала из хаты; она обошла двор, пекарню, клуню и нигде не нашла Орысю; но, проходя через садик, она вдруг наткнулась на странную картину: под густой вишней стояла Орыся, только не одна, а обнявшись с высоким, статным, «чернявым» казаком; они о чем-то, видимо, говорили, но при виде Галины вдруг замолчали и сразу же отскочили друг от друга, а Орыся покраснела вся, как маковка. Галина изумилась: чем могла она испугать так Орысю и высокого казака? Подойдя к Орысе, она приветливо поклонилась казаку и попросила Орысю скорее к батюшке. Дорогой она спросила у Орыси небрежно:
– Это брат твой? При этих словах Орыся покраснела еще больше.
– Нет, – произнесла она, опуская глаза, – это казак из нашего села, Остап Глевченко.
– А-а! – протянула Галина, – ты его так любишь? Вся красная и смущенная, Орыся с изумлением взглянула в лицо своей подруги; но Галина, по-видимому, не понимала ее смущенья.
– Ну, да, я подумала, что ты его любишь, – пояснила она свою мысль, – потому, что ты так обнимала его!
– Галинко, сестрычко моя! – вскрикнула Орыся, бросаясь к ней с восторгом на шею, – не проболтайся только никому о том, что ты видела, что ты знаешь!
– Нет, нет! Только что ж ты боишься? Разве любить грех?
– Дытыночка моя родная! – поцеловала ее еще горячее Орыся, – не грех, нет… А только подожди, все ты узнаешь…
Батюшка отслужил акафист и освятил воду над головой больного; все усердно молились о ниспослании ему сил и здоровья. К вечеру действительно больному сделалось словно немного лучше, припадок «огневыци» был значительно тише, больной не срывался с постели, а только стонал и сбрасывал рядно.
Отец Григорий кроме того освятил и на хуторе воду, исповедал всех и причастил, он всегда, приезжая сюда, брал с собой запасные дары. При отъезде он повторил еще раз Сычу: – Ты смотри, любый мой дяче, дочку привези к нам в село, не годится, чтобы дивчина дома Божьего до сей поры не видала, да и одичает она у тебя совсем!
– Боюсь я, панотче, ну, да если вы говорите, ваша воля, – согласился Сыч.
Прошел еще день после отъезда редких гостей, припадки больного делались все легче и слабее. У Сыча начинала пробуждаться надежда.
– Вот оно что значит Господня молитва! – повторял он, окидывая всех победоносным взглядом.
Однажды вечером, осматривая тело больного, Сыч позвал вдруг Галю громким и радостным голосом.
– А что там, диду? – подбежала к нему Галя.
– Смотри, смотри-ка, дытыно, – показал он ей обнаженную руку больного, – видишь вот эти пятна, помнишь, какие они красные были, а теперь посмотри!
Пятна действительно из ярко-красных стали бледно-розовыми, а в некоторых местах и совсем исчезли.
– Так-то, так-то оно бывает! – повторял Сыч, подымая и осматривая руку больного, и вдруг крикнул уже совсем весело, – ге, ге, ге! Да этак мы через «тыждень» гопака садить будем! Смотри, Галина, – указал он девчине на большие гнойные нарывы, образовавшиеся у больного под мышками, – вот как оно прорвет все, да как вытянет сюда всю «погань» из его тела, так уж совсем здоров будет.
Предсказание Сыча сбылось. С каждым днем больному становилось все лучше и лучше. «Огневыця» его совсем прошла; он уже несколько раз открывал глаза, но казалось, не мог еще ничего сообразить. Сердце Гали готово было вырваться из груди от радости при каждом его движении, при каждом вздохе, при каждом проявлении пробуждающейся жизни. Наступило уже второе воскресение, после водворения Мазепы на диком хуторе.
Было ясное, летнее утро. Пообедавши рано, и баба, и работники улеглись по случаю праздничного дня спать, кто в клуне, кто в саду. В хате были только Сыч и Галина. Сыч сидел у окна с Евангелием в руках, разбирая с большим трудом по слогам крупные буквы. Галина молчала, прислушиваясь к непонятным для нее звукам. Вдруг в хате раздался чей-то слабый, неизвестный голос: «Где я?»
Сыч отложил книгу. Галина вздрогнула и занемела: этого голоса она еще не слыхала никогда, это был голос выздоравливающего.
– Где я? – повторил снова слабый, тихий голос. Сыч сделал знак Галине, чтоб она не трогалась с места, подошел тихо к больному и произнес, стараясь как можно больше смягчить свой голос:
– На хуторе, у добрых людей.
– Что со мною? – продолжал снова больной.
– Ты был болен, тебе надо лежать тихо, чтоб скорей поправиться.
– Как я попал сюда?
– Узнаешь, друже, потом, а теперь молчи, нельзя тебе говорить. Господь милосердный поправил тебя, вот заснешь, окрепнешь еще, тогда все расскажу.
– Хорошо, – произнес усталым голосом больной, – я засну. – Он закрыл глаза. Сыч хотел уже отойти в сторону, как вдруг веки больного снова поднялись.
– Я засну, старик, – произнес он с трудом, – только ты скажи мне одно, когда я лежал здесь, сидел ли у моего изголовья светлый ангел, или это мне пригрезилось во сне?
– Ха-ха-ха! – засмеялся Сыч. – Где нам, грешным, с ангелами знаться! Это, верно, внучка моя была… Галина! – окликнул он девчину, – поди-ка сюда.
Как ни ждала выздоровления больного Галина, но теперь какая-то непонятная робость охватила ее. Опустивши глаза, несмело подошла она к Сычу и с замиранием сердца подняла глаза на больного.
По лицу Мазепы разлилась слабая краска.
– Ангел, ангел Божий! – вскрикнул он с восторгом, протягивая к ней руки, но здесь силы оставили его, глаза его закрылись, а голова в изнеможении упала на подушки.
Обморок больного испугал было Галину; ей показалось, что с ним начинается снова страшный припадок, но дед успокоил ее.
– Нет, нет, дытынко, – произнес он тихо, укладывая и укрывая больного, – не бойся, теперь уже все на лад пойдет, будет он силами наливаться, как молодая почка на деревце.
Действительно (этого дня выздоровленье больного начало подвигаться быстро вперед. Однако слабость его была еще так сильна, что он утомлялся от самого короткого разговора, да дед ему и не позволял много говорить.
– Спи, спи только, – повторял он ему, – да ешь добре, а потом уж «набалакаємося». Но больной и не нуждался в этом приглашении: он спал почти целые дни, просыпаясь только для того, чтобы съесть приготовленную ему пищу. Открывая глаза, он сейчас же искал взглядом Галину и, при виде ее, лицо его прояснялось. Как ребенок, съедал он пищу, которую она подавала ему, и, утомленный этой ничтожной затратой сил, опускался на подушки и закрывал глаза.
– Видишь, дытыно, вот когда он, светлый сон, пришел, – говорил Галине дед, указывая на бледное, но спокойное лицо больного, на устах которого, казалось, бродила во сне какая-то тихая, светлая улыбка.
Мало-помалу взбаламученная жизнь на хуторе приняла свое обычное теченье. Убедившись в полной безопасности больного, Сыч начал по-прежнему уходить с рабочими в поле, оставляя больного на попечение бабы и Галины. Так как сидеть подле него неотлучно не представлялось уже теперь надобности, то и Галина мало-помалу возвратилась к своим обычным занятиям: то она кормила своих забытых друзей – кур, уток и белых и серых голубей, сбегавшихся и слетавшихся при ее появлении отовсюду, то поила теплым пойлом свою любимую корову Лыску, остававшуюся теперь с маленьким теленком дома. При появлении Галины во дворе с большой миской в руках, – все устремлялось к ней навстречу. Радостный вой, визг и гоготанье раздавались со всех сторон двора, куры сбегались с громким кудахтаньем, утки торопились, переваливаясь поспешно с одной ножки на другую, голуби, восседавшие на клунях, слетались и окружали ее, усаживались ей на плечи, несмело выхватывали зерна из самой миски, собаки с радостным лаем прыгали вокруг, небольшие, черные, косолапые щенки с пискливым визгом цеплялись ей за ноги, настойчиво требуя, чтобы она взяла их на руки, а из-под навеса раздавался протяжный рев Лыски, напоминавшей Галине о своем существовании. Окруженная этими любящими, ждущими ласки рабами, Галина чувствовала себя королевой. Раздавая всем пищу, она строго наблюдала, чтобы всякий получал свою долю, особенно приходилось ей отбиваться от голубей, окружавших ее целой тучей. – Тише, тише вы, прожоры! – отмахивалась она сверкающим на солнце расшитым рукавом своей сорочки, – всем хватит, никого не забуду!
Но маленькие, серые воришки не слушали ее. А когда, осажденная своими друзьями, Галина оглядывалась на окно хатки и замечала на себе пристальный взгляд больного, она сейчас же оставляла их и подбегала к нему, и спрашивала, не нужно ли ему чего?
– Нет, дивчино, – отвечал он слабым голосом, – мне так хорошо смотреть на тебя!
Впрочем и куры, и голуби, и сама ласковая Лыска не привлекали уже теперь Галину так, как прежде: большую часть времени она любила проводить на «прызьби» у окна больного с тонкой мережкой в руках. Несколько раз больной порывался заговорить с нею, но Галина терялась, конфузилась и под каким-нибудь предлогом выходила сейчас же из хаты.
Прошла неделя. Однажды утром Сыч вошел в хату с высокой кружкой в руках и застал больного бодро сидящим на лавке.
– Ото, сынку, – вскрикнул весело Сыч, – ты, как я вижу, совсем у нас молодец. Вот только пей молочка побольше, да ешь по-запорожски, да это вот зелье, что я принес тебе, употребляй почаще, так мы эту проклятую хворобу через три дня в шею выгоним.
– Спасибо, спасибо, – улыбнулся больной, следя за энергичными движениями чубатого старика, – а вот что хотел я вас попросить, диду: нельзя ли мне «пидголыты» каким способом, вот это, – указал он на свои густо заросшие во время болезни щеки и подбородок.
– Можно, можно! Ишь ты чего заманулося! – вскрикнул шумно Сыч. – Ну, значит уже здоров, так, пожалуй, скоро и на коня запросишься, ей-Богу!
С этими словами Сыч открыл «скрыню», достал оттуда остро отточенный конец сабли и приступил к операции.
Через полчаса больной лежал уже чисто-начисто выбритый, в белой сорочке, с красной ленточкой у ворота, прикрепленной к рубашке Галиной.
– Фу ты, пожри меня огнь серный! Что значит молодое дело! – вскрикнул Сыч, отступая от больного и невольно любуясь им. – Вот только выбрил, а он тебе сразу и помолодел, и похорошел, словно месяц молодой, что дождем обмылся; а тут, – указал он на свои щеки, – хоть всю шкуру сдери, ничего не выйдет!.. Ну, а теперь изволь-ка выпить этого меду, – пододвинул ему Сыч глиняную кружку. – Много уже ему лет, почитай вдвое больше, чем Галине, я его для дорогих гостей берег, да вот велел теперь внучке, чтоб она тебе каждый день эту кружку наливала, и ты чтоб выпивал всю до дна. Да пей, не бойся! – ободрял он больного, заметивши, что тот выпил всего два глотка, – мед ведь головы не трогает, только ноги, а они теперь у тебя «ледачи», так же служат, как бабе коса!
– Нет, спасибо, – ответил больной, опуская кружку на скамью, – за все спасибо, уж столько вы мне сделали… не знаю, удастся ли и отблагодарить когда.
– Какие там благодарности! – пробурчал Сыч, отворачиваясь в сторону, – нашел о чем говорить!
– Нет, нет, человече добрый, – возразил горячо больной, – до самой смерти вашу ласку помнить буду. Вы меня от самой лютой смерти спасли, только как, каким образом, до сих пор не разберу и не знаю!
– Да так, очень просто: сидели мы тут, а приехали ко мне Ханенко, да Гуляницкий, да Палий еще был с ними, такой казарлюга ловкий да горячий, словно огонь!.. Да еще Богун.
– Богун? – изумился больной, – полковник гетмана Богдана?
– Ну да, и побратим моего покойного зятя. Так вот сидим мы в саду, только слышим у речки вдруг что-то шлепнулось с размаха в воду, словно большой сом вскинулся…
И Сыч рассказал подробно больному о том, как они нашли его привязанным к лошади без чувств, без дыхания. Как он пролежал долго, почти при смерти, и как, наконец, пришел в первый раз в себя. Больной слушал этот рассказ с хмурым, угрюмым лицом: последний, видимо, пробудил в нем какие-то мучительные воспоминанья.
VIII
– Да где же я теперь? – спросил больной изумленно, когда Сыч замолчал.
– На хуторе, у меня.
– А хутор ваш где, старче Божий?
– Ге-ге! В самой дикой степи.
– В дикой степи? – даже приподнялся на локте больной, – да ведь это значит от Белой Церкви…
– Дня четыре, а то и пять езды, не меньше, если жалеть хоть трохи скотину; только ты, сынку, кажется, об этом не думал, – перебил его, улыбаясь, Сыч. Но больной не заметил его шутки.
– Дня четыре, не меньше, – проговорил он в раздумье, – что ж, это значит, ваш хутор почти у самого Запорожья?
– Почти не почти, а за день до Днепра, а за другой до Хортицы лодкой доехать можно. И туда, как говорят люди, – далеко, и сюда не близко. Видишь ли, хутор мой затерялся в этой степи, как «волошка» в жите. Куда ни кинь, все далеко; если ты начнешь его нарочно искать, никогда не найдешь! Это я сам такое место выбрал, чтоб ни лях, ни москаль, ни татарин меня не трогали и не знали: я сам себе и пан, и гетман!
– Да кто же вы такой сами, диду любый? Скажите мне і хоть, как звать вас, как величать, чтобы знал, за кого молиться Господу милосердному?
– Ну, прозвище мое не от панского колена идет, – Сычом зовут люди, я из казацкого герба «Шыбай-головы». Ха, xa! Ты, может, не слыхал о таком гербе, – есть, есть, ей-Богу, его установил наш батько «зайшлый» Богдан.
– Богдан Хмельницкий? Вы служили при нем?
– В его собственной Чигиринской сотне. Мы с ним, видишь ли, соседи были. Эх, золотое было у него сердце, царствие ему небесное! Жаловал и меня, и дочку мою, покойную Оксану. Когда я из Золотарева на Сечь бежал, – вышла там одна такая закарлючка, – взял он ее, дочку мою, мать вот этой Галины, внучки моей, к себе в дом, как свою родную, и воспитал, да за своего же названного сына, полковника Морозенка, и замуж выдал.
– За полковника Морозенка, за того славного Морозенка, о котором поют песни «по оба пол» Днепра? – вскрикнул в изумлении больной.
– Да, за того самого, он еще, гетман наш «зайшлый», и крестным отцом у Галины был.
– Так, значит, Галина дочь славного Морозенка и тут одна в дикой степи на хуторе… Без всякого «цвеченья»! – заговорил взволнованно больной и вдруг сразу оборвал свою речь. Наступила маленькая пауза.
– Дивишься ты тому, что внучка моя здесь без всякого «цвеченья» на хуторе растет, – заговорил Сыч угрюмо. – Что ж, и сам я об этом думал, только размышляю себе так: Господу Богу лучше всего простотой угодить можно, а не злохитрой, латинской, дьявольской наукой. Наукою ум искусишь, а душу погубишь. Как умерли ее «батькы», осталась она у меня маленькой сиротой на руках; взял я, продал все и отправился с нею в «дыки поля»: думаю, и ее душу уберегу, и сам уйду от зла, ибо сказано: «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», потому что там в городах, – такое поднялось после смерти батька Богдана, что и не разберешь, ей Богу, кто гетман, кто прав, кто виноват. А я уж стар стал, саблей служить не могу, да и разумом своим не больно «метыкую», ну, подумал: «уйди, лучше, Сыче, от злая и сотворишь благая», Ox, ox, ox! И все поднялось с тех пор, как не стало его, гетмана нашего, славного Богдана Хмельницкого! – Сыч глубоко вздохнул и опустил голову на грудь.
– Да, да, – произнес задумчиво больной, – крепко его рука держала булаву, из такой руки не пришло бы никому и на ум вырывать ее, а как досталась она Юрасю Хмельницкому, ну и пошла скакать, словно детский мяч, не одного и по голове задела. Для гетманской булавы одной отваги мало, надо крепкую руку и светлый разум! Теперь уже не те часы, чтобы только бить, да «на капусту локшыть», надо уметь свой челнок и между скал и порогов провесть; в полую-то воду можно и напрямик, а когда вода спадет – зорко смотри, да выбирай хоть извилистый, да верный путь…
– Ну, да и ловко ж ты говоришь, сыну, вот, ей-Богу, словно батько наш покойный Богдан; говорит себе да говорит старшина, слушаешь и ничего не разбираешь, а он тебе одно слово скажет, так ровно перед глазами все тебе намалюет.
– Да. гетман был великий муж. зело искушенный и в науках, и в брани. Как закрою глаза, так вот словно живого его вижу. – И больной действительно закрыл глаза, словно хотел вызвать перед собой какой-то далекий образ.
– А ты разве видел его? – изумился Сыч.
– Да, давно, я еще тогда совсем молодым хлопцем был, даже губа верхняя не чернела; учился я тогда в Киевской Братской академии, а когда гетман после Зборовского мира въезжал в Киев, так нас у ворот Софийских поставили и мы ему виршу торжественную пропели, он еще меня особо отличил, я ему слово на «вступ на трон Киево-Владимирский» прочитал.
– Хе-хе! Значит, пожалуй, и я тебя тогда видел… Ишь ты, какое дело! А мог ли подумать, что вот как приведется встретиться снова. Воистину пути Господни! Ну, а позволь же теперь, не во гнев тебе, казаче, спросить, как же тебя звать, величать?
– Меня зовут Иваном Мазепой, я сын Степана Мазепы, подчашего Черниговского, из села Мазепинец.
– Мазепа! Вот кого привел Бог в своей хате витать! – вскрикнул радостно Сыч. – Ты как-то в бреду произнес… Эге! Так вот про кого говорил Ханенко. Как же, знаю, знаю, и батька твоего знавал, и Мазепинцы знаю! Это недалеко от Белой Церкви, хорошее место. Так, так! Оттуда и батько твой приезжал к гетману, когда мы там табором стояли. Эх, «запальный» был! Все не хотел к Москве прилучаться, с Выговским был за одно… Наш был и телом и душой, от казаков не отступал, нет!
– Мой дед, отец отца моего, вместе с Лабодой, с Наливайком да с Косинским, за волю нашу бился и казнен был ляхами в Варшаве. Наш род от князей Булыч-Курцевичей идет, – произнес с некоторой гордостью Мазепа, – но никто из нас не изменял до сих пор, подобно князьям Вишневецким, ни вере своей, ни воле казацкой.
– Что ты, Господь с тобой! Нашел себя с кем сравнивать? – даже отшатнулся от Мазепы Сыч. – Мазеп всяк знает. И отца твоего, и деда! Сразу ты нам, Казаче, полюбился, а теперь, когда узнал я, что ты хоть родовытый, да наш и душой, и сердцем, так будем мы уже тебя, как око, беречь, – вот что!
– Спасибо, спасибо, – улыбнулся больной на шумный восторг Сыча, – а что «родовытый», это не беда, если бы все наши «родовыти» к нам прилучились, не дошли бы мы, может быть, до такой беды.
– Ну, это кто его знает, – произнес уклончиво Сыч, – вот и наша старшина, говорят, начинает облагать кой-где народ повинностями.
– А гетман на что? Гетман на то и выбирается, чтоб всюду лад давать.
– Так-то оно так, – произнес задумчиво Сыч. – Ну, постой, а: ты ж где теперь служишь? У Бруховецкого или у Дорошенко?
– Ни тут ни там покуда. Видите ли, когда окончил я курс в Братской академии, тогда, – да вы это верно сами знаете, – гетман Богдан отправлял в Варшаву знатнейших юношей, чтобы служили при короле, так было сказано в мировых «пактах», выбрали и меня. Так я окончил у иезуитов философию, а потом послал меня король еще на три года в чужие земли, чтобы я еще и там поучился.
– Ге, ге! Высоко ты занесся разумом! Значит, как говорят люди, и «друкованый», и «письменный».
– Помог Господь.
– Ну и что ж, остался служить при короле?
– Служил, пока верил, что король нам добра желает, что с ляхами еще можно в «добрий злагоди» жить, а как увидел я, что не думают они нам никаких прав давать, что права пишутся только в «пактах», чтоб заманить нас ими, да вернуть назад оторванные земли, а в душе-то они нас за «быдло», за хлопов, за рабов своих по-прежнему почитают; а наипаче, когда увидел я, как во время похода короля на левый берег расправлялись королевские войска, с помощью этого лядского прислужника, этого лядского Тетери, с нашим православным народом, – вскрикнул горячо Мазепа и глаза его засверкали, а на щеках вспыхнул слабый румянец, – о, когда я все это увидел и уразумел, что в них, в этих золоченых гербах, нет ни силы, ни прежней доблести, а только злоба и презрение к нам, что они стараются только обессилить нас, чтобы опять обратить в своих рабов, – я не говорю о простых людях ляхах, о мазурах: они тут ни при чем, – о, тогда я поклялся навсегда оставить их, я поклялся отрубить себе эту правую руку, если она подпишет какой-нибудь договор с ляхами!