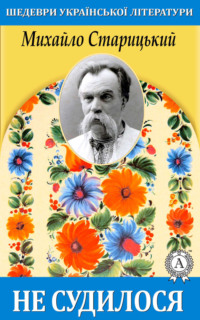Полная версия
Молодость Мазепы
– А ты бы, Немото, захватил на всякий случай и «спыс», – бросил ему Сыч на ходу.
– Ги! ги! го-го! – промычал как-то странно рабочий, потрясая вилами и топором.
– Ну, ну! – согласился на его энергичные жесты дед и, стукнув клинком сабли в ворота, крикнул, – а кого Бог несет?
– Пугу! Пугу! – послышалось из-за ворот.
– Казак с Лугу?
– Он самый, любый дяче!
– Хе, да это свои, да еще знакомые видно, – обрадовался Сыч, – войдите с миром! – и он отсунул у ворот засов, а наймыт поторопился растворить их гостеприимно. На широкий, заросший редкими дубами двор въехали на взмыленных конях четверо всадников-казаков, с высокими копьями у стремян и с мушкетами за плечами; у каждого из них висело кроме того у левого бока по сабле, а за широкими поясами торчало по паре «пистолив». Первый въехавший казак был пожилых лет; в «оселедци» его, закрученном ухарски за ухо, пестрели уже серебристые нити, а усы были посыпаны снегом; красивое, мужественное лицо хранило еще непоблекшую свежесть; только между энергично очерченных бровей лежала уже глубокая складка, свидетельствовавшая о пережитых душевных страданиях, а грустное выражение глаз обнаруживало, что страдания сроднились и срослись с ним совсем. Три остальных спутника были помоложе: один, совершенный юнец с едва пробивающимся на верхней губе черным пушком, с орлиным, выдающимся на худом оливковом лице носом, с огненными глазами, оттененными широкою, черною, сросшеюся на переносье бровью и с черной же чуприной; черты лица его были резки и дышали дикой отвагой.
Два остальных казака были средних лет, типичные запорожцы; у одного левый глаз был выбит очевидно пулей, так как у переносья виднелся круглый, рубцеватый шрам.
III
Сумерки, особенно среди высоких деревьев, уже сильно сгустились и не позволяли Сычу разглядеть приближавшуюся к нему фигуру; он только хмурился, приставивши козырьком ладонь к глазам, и ворчал:
– От, «слипують» очи, хоть выколи!
– Да что же это? Не узнаешь таки меня, друже мой Сыче?
– Воскликнул мягким, приятным голосом старший казак, распростерши широко руки.
– Господи, Спасе мой! Да неужто! – и дед протер еще раз слезящиеся глаза.
– Гай, гай, голубе! – укорил незнакомец, обнимая оторопевшего деда. – Значит, ты все-таки меня не признал, – либо прошлое забыл, – либо похоронил меня рано… Да Богун же, Богун Иван, «сывый» мой орле?
– Богун? – вскрикнул восторженно дед. – Сокол наш? Отрада наша? Вот так «велыкдень»! – и, взявши в обе руки голову старого друга, стал порывисто целовать ее, приговаривая взволнованным голосом, – откуда мне сие? Ныне отпущаеши…
– Не познал таки, а? Старче мой любый! – говорил, улыбаясь, Богун. – Изменился, видно, и здорово? С временем, брат, ничего не поделаешь: не «налыгаеш» его, как вола за рога: летит себе и устали не ведает, да знай лишь посыпает «чупрыны» морозом… Вот и твою голову да усы облило молоком…
– Хе, давно уже, – засмеялся Сыч, – теперь уже не белеть я стал, а желтеть… а скоро зеленеть буду… Да что же мы стоим? До «господы» прошу «честное товарыство»! – поклонился он приветливо стоявшим за Богуном казакам.
– А я-то хорош, – засмеялся Богун, – разболтался со старым приятелем и не знакомлю с ним своих товарищей! Вот этот малеванный – полковник Ханенко, козарлюга добрый, как долбанет «спысом», так словно шилом проймет, а вот этот Безокий – наш куренной атаман, садит пулю на пулю… Правда, одна пуля вражья прохватила сдуру и ему око, та дарма, – он и другим лучше нас высмотрит сердце ворожье… А этот юнец – хорунжий Палий, завзятый сичовик, козарлюгой будет, – «молоде, та гаряче».
Сыч каждого из представленных обнимал и приговаривал:
– Роди, Боже, побольше такого лыцарства!
Безокий долго присматривался к хозяину, а потом, рассмеявшись, заметил:
– Хе, пане господарю, изменило, видно, меня калечество, что не признал старого знакомого, а ведь мы встречались и в Сичи, да и здесь на хуторе.
– Кто? кто? стой, брате! – заволновался дед и, нагнувшись близко к лицу казака, вскрикнул, – да, чи не любый ли лях мой, не Остап ли Гуляницкий?
– Он самый и есть, пане добродию. И казак, в свою очередь, обнял деда. Все направились к хате. Дед от радости суетился, теряясь и путаясь в приказаниях.
– Гей! – кричал он наймыту, – овса, а то и пшеницы насыпь коням, да расседлай их, а на ночь стреножь и выпусти на леваду: там добрый пырей… Да гукни еще на дивчат, – попрятались верно с переполоху, – скажи им, что не мосцивые паны, не татары, а свои, да еще какие свои – кровные, братья родные! Галине скажи, что дядько любый Богун: обрадуется она страх, – суетился и делал распоряжения дед, забывая, что не все их мог выполнить Немота, – пускай баба готовит вечерю, а дивчата пусть тащут сюда кухли, да наточат в жбан холодного пива; с дороги, да с засухи сначала след прополоскать горло.
– Гм! го-а! – промычал наймыт, жестикулируя усердно.
– Что он, немой? – спросил Ханенко.
– Потоцкого «жарты», – ответил, мотнув головой, дед. Все нахмурились и уставились в землю глазами.
– Ну, просим же вас, панове, до «господы», – припрашивал снова дорогих своих гостей радушно хозяин, показывая на низенькую хату, окутанную терном и вишняком, – а то, может быть, усядемся вон под теми деревьями на прохладе, – вечер чудесный.
– Где хочешь, мой друже, – отозвался Богун, – только не хлопочи очень и не уходи: ты сам нам «найлюбшый». Ведь это же он, братцы, первый начал языком от звона гладить панов.
– Ха, ха, ха! Знаем! – засмеялись дружно товарищи.
Через несколько минут был раскинут на лужайке под» дубняком ковер, и на нем брошено пять сафьянных подушек, а посредине стоял уже жбан с холодным черным пивом и несколько увесистых кухлей. На дубе был подвешен фонарь. Гости расселись по-турецки вокруг и принялись с наслажденьем за освежительный напиток.
– Эх, важно! – крикнул Богун, наливая себе второй кухоль.
– Чего лучше, после «спекы», – одобрили другие.
– Пейте во здравие, – потчевал всех радушно хозяин, – натомились верно, друзи? Давно в дороге?
– Да, третий день не слазим с коня, – ответил Богун, – как «рушылы» с Хортицы, да вот только здесь по-людски отпочить доведется: это я их направил в логовище славного нашего дяка Сыча, а сколько лет самому не доводилось завертывать сюда; едва, едва потрапил.
– Почитай, что со смерти нашего славного, «незабутнього» батька Богдана…
– Что ты, голубь? – изумился Богун. – Да ты поселился здесь года три спустя после смерти Богдана, а сколько лет потом я езжал сюда и сам, и с «товарыством»?
– Так, так, что я? – усмехнулся Сыч, покачав головой. – Не то память стала стара, не то пришибла ее наша «туга», а сколько воды уплыло, сколько слез, ох, ох! – простонал он, а потом, чтобы перемочь набежавшую грусть, обратился к куренному Гуляницкому, – а тебе, лыцарю мой, ляше хороший, великое, щырое спасибо за ласку, что завернул с моим другом единым и с «товарыством» славным в курень мой; ведь большей радости я и придумать не мог бы… Давно уже я поселился здесь среди бесконечной степи, как в келье, отшельником и ко мне, особенно в последнее время, почти не долетают вести, что творится у нас на гетманщине.
– Благую часть избрал еси, друже мой любый, – отозвался Богун, – с Богом лишь под небом широким беседовать, а про людей забыть… «Цур» им! Добра от них не дождешься, а одно лишь зло сеют кругом.
– Да, – заметил куренной, – не то думал покойный Богдан: не гадал он разорвать надвоє свою дорогую «неньку» Украйну, а вот «розпанахалы» благодетели, и кости-то его, полагаю, не лежат спокойно в могиле.
– Ха! ха! – засмеялся злорадно Ханенко, в выражении его красивого, несколько панского лица, с синими, бегающими глазами, було что-то неуловимо-неприятное, выступавшее резче при смехе. – Где им спокойно лежать, коли Чарнецкий в прошлом году налетел на Субботов, разрушил церковь, выкопал гетманский прах из могилы и разбросал останки собакам…
– Изверг, аспид! – вскрикнул, поднявши кулак, дед. – И такое святотатство казаки попустили? И не отомстили этому пекельному псу за своего батька?
– Не довелось встретиться, уж я бы! – вспыхнул Палий и покраснел весь.
– Отомстил уже ему Бог! – ответил Безокий. – А уж подлинно, что такого зверя, как Чарнецкий, и не слыхано, и не видано! Бывшие земляки мои кичатся им, считают его за доблестного полководца, за славу свою… а мне даже стыдно за них: не доблесть, а бешеная лютость окрыляла его на поле… ведь пощады от него не было никому, – ни вооруженному, ни безоружному, ни дитяти, ни старцу: все, что было русское, а главное, схизматское, он ненавидел и истреблял. И всю-то эту злобу вдохнули ему ксендзы-иезуиты… Эх, если б не их отрава, какой бы это народ был, поляки, как бы мирно мы жили и какую бы силу сплотили!
– Да, уж наверное более крепкую, чем теперь, – вставил угрюмо Ханенко, – были ведь в одних тисках, а очутились в трех.
– Как в трех? Что-то я и в толк не возьму, – развел руками дед, печально покачав головою.
– Да разве ты ничего про наше теперешнее безголовье не знаешь? – изумился Богун.
– Знаю только, что со смерти Богдана, булаву, по просьбе его, вручили маловозрастному сыну его Юрку, под опекою Ивана Выговского, а потом этот «недоляшок» захватил все в свои руки… Поднялась смута, братская резня и Хмельниченка постригли в монахи.
– Выговский-то не так и виноват, – заступился за бывшего гетмана Гуляницкий, – думал-то он добре, добра желал «щыро» своей отчизне.
– Еще бы не добра! – перебил горячо Ханенко. – Прочитай Гадячские пункты, чего-чего он нам в них не выговаривал? И полные права, и господство греческой веры, и шляхетство, и равенство на сейме, и свои войска, свои русские академии, школы, своя монета, полная независимость, даже сношения с чужими державами… одним словом – своя русская Речь Посполитая.
– Своя, да под ляшским ярмом, – возразил Богун. – А разве с ним можно ходить? Разве можно на панское слово положиться спокойно? Изверились, – и народ на эту утку не пойдет, не заманишь! С ляхом дружи, а камень за пазухой держи!
– Ну, посмотрим, не подавятся ли теперь. И камень не поможет! – прищурил глаза злобно Ханенко.
– Это, как Бог судил, – ответил Богун, – а сердце ляшское, как вот он добре сказал, отравлено ксендзами и налито к нам ненавистью.
– Не так ляшское, как панское, – поправил куренный, – простые ляхи – такие же несчастные невольники у панов, как и наше «поспольство», не даром же при Богдане требовало наше казачество и голота идти в самую Польшу и «вызволять» из неволи ляхов…
– Да, оно так, – согласился Богун, – но у нас, на Украине, народ только знает ляхов-панов, да подпанков, и с этими ненавистниками да напастниками он ни за что не уживется… Это вот и забыл пан Выговский, а потому его договор и вызвал тотчас же кровавую смуту.
– Так, так, вот в это самое время, – заговорил задумчиво, словно про себя, дед, – и мне довелось быть на Украине… и от родной, братской руки потерять вот эту «правыцю»… Меня ведь так «цюкнув» свой же брат, что до кости прохватил, жилы пересек… рана-то зажила, засохла, как на собаке, а владеть рукой уже «годи»… – уже и «лантуха» с зерном одной этой не вскину на плечи… Потому-то товариство и уволило меня на покой, а тут еще горе приключилось, свое уже горе, домашнее… Так я с сироткой и оселся вот в этой пустыне, «ничего не слышаща и не зряща». Вот только разве кто завернет, да про Выговского слово закинет…
– Гай, гай, старый! – укорил Богун. – Да неужто про Выговского? Да он давно уже от гетманства отказался, его уже и на свете «нема»! А про Бруховецкого тебе ничего не рассказывали?
– Что-то слыхал про него… на левом берегу, только не вспомню…
– И про Тетерю не знаешь?
– Тетерю? Как не знать Тетери, – оживился дед, – знаю, «гаразд» знаю: он же был первым есаулом у Богдана, даже советником, только не добрым, а потом женился на его дочке, на Елене, что была замужем за братом Выговского, значит, вдову взял… и с добрыми «скарбамы» еще взял… Как Тетери не знать, – зело добре знаю!
– Ну, так вот эта лиса был у нас гетманом.
– Что ты? – уставился глазами на Богуна дед.
– Да он-таки, братцы, голубь мой сивый, – улыбнулся Богун, – стал как «дытына» и ничего не знает про «завирюху», какая поднялась на Украине и до сих пор метет, закидывает сугробами хутора и села, леденит всем сердца. – Слушай же, старче Божий! – начал Богун, налив себе снова «кухоль» холодного пива, а дед поспешил между тем наполнить «кухли» гостям.
– Как отказался от гетманства Выговский, то собралась «Черная рада»[4] и выбрала гетманом Сомка, да стал против него на левой стороне Бруховецкий, объявил себя тоже гетманом и пошел на Сомка… захватил врасплох, сковал, послал в Москву, а там его и казнили, ну а Бруховецкого на гетманстве утвердили.
– Еще бы не утвердить, – прошипел Ханенко, – коли он поклялся Москве все права наши сломать, ударил ей в подданство всеми городами, все продал, и будь я вражий сын, коли в конце концов не продаст и самой Москвы!
– «Запроданець» клятый! Ух, как все его ненавидят и презирают! – не выдержал снова Палий, но сейчас же, сконфузившись, замолчал.
– И есть за что, – продолжал Богун. – Когда объявился на левой стороне Бруховецкий, так полки поставили на правой Тетерю! Ну, сначала и я пристал к нему; думка была, что он, как и покойный Богдан, стоит за нераздельность Украины, за соединение ее в одну «купу». Бросились мы со своими и с польскими войсками за Днепр; не так, впрочем, их оружию, как моему слову, стали сдаваться все города и местечки… Бруховецкий, видишь, когда ездил на утверждение в Москву, так там и женился на княжне Долгорукой, закупил всех и задурил: начал в Москве предлагать со своей генеральной старшиной такое, чего и в ум не входило царской думе: чтобы вот русских семейств тысяч три, четыре переселить в Московщину, а московитян столько же тысяч переселить сюда, да чтобы во всех городах поселить воевод царских с ратными людьми… Затем переписи…
– Ах, он христопродавец, Иуда! – заволновался дед, тряся головой и руками. – Да слыханное ли дело, чтобы такое было предательство! Да ведь мы все, с покон веку равны и земля Господом Богом всем нам дана… Да ведь из-за этой самой земли, да из-за вольности, да из-за веры и бились мы век целый с ляхами, а он, изменник, посягнул и на людское добро, и на веру! Выселять, уничтожать задумал родной люд. Да до такого не доходили еще и ляхи…
– С роду веку, – отозвался Ханенко, – если они и делали прежде подлости, так теперь лихо их надоумило: научит нужда корки есть.
– Коли – еще с салом, – заметил куренный.
– Эх, горбатого, панове, разве могила выправит, – вздохнул Богун. – Вернулся это из Москвы Бруховецкий боярином да еще с княгиней, пожалованный поместьями, а его свита, «почт» войсковой, вернулась дворянами и тоже с «маеткамы» – ну, и задрали носы, особенно гетман, так что ни приступу, все ахнули; а как узнали про его ходатайства, так воем завыли и заломали руки, проклинаючи своего гетмана, вот оттого-то все нам и обрадовались, как избавителям. Так ляхи, а особенно этот дьявол Чарнецкий, опять-таки себя показали: стали грабить, жечь, разорять Божьи храмы, над святыней «знущаться». Нет, не заступайся, – остановил он жестом Ханенко, – не стоит! Сразу переменилось к нам сердце народа, стал он примыкать к русским воеводам и отражать ляхов, а особенно взбудоражил народ кошевой наш Сирко: он «щыро» верит, что одна Москва православная может лишь быть нам охраною, что это только наши «перевертни» подбивают ее, а что, во всяком случае, во сто раз больше бед от ляхов и невер, их-то кошевой всей душой ненавидит, ему хоть свет завались, а лишь бы татар бить.
– Да что ж Сирко, – вставил как-то пренебрежительно Ханенко, – казак-то он отважный, «голинный», удалец завзятый, да характером не тверд, все сгоряча, с «запалу», забьет ему кто в голову гвоздь, он и ломит в одну сторону, пока другой этого гвоздя не вышибет.
– Не люблю я, брате, коли ты отзываешься про нашего батька негоже, – заметил Богун, – коли б у нас было побольше таких честных да «щырых» душ, как у Сирко, так может быть не стонала бы так и не корчилась в крови Украйна… Я уж и не говорю, что на поле его не сломит никто, не даром и «характерныком» прозвали; он человек не продажный, неподкупной и любит родину, головой за нее ляжет, а если бы даже и ошибся в своих думках, так кто же теперь в таком омуте разыскать сможет правду… Ну, вот нас и погнали с Тетерей назад: ляхи бросили его, а на «сем боку» Днепра началось тоже повстанье против Тетери и его ляхов… Тетеря обвинил нарочито Выговского в этой «завирюхе» и схватил… Клялся тот перед ним, что не винен, требовал трибунального суда, а Тетере – плевать! Даже исповедаться и приобщиться перед смертью ему не дал, а велел застрелить, как собаку… Молча перекрестился дед, и все вздохнули.
– А Чарнецкий тем временем навел на нашу бездольную Украину татарву и бросился усмирять непокорных, – продолжал Богун. – Господи! сколько полилось невинной крови!.. Солнце праведное не могло ее высушить, так она лужами и стояла! А татары рассыпались «загонамы» по нашей земле, и запылало кругом, небо «почервонило», покрылось дымною мглой, а воздух наполнился гарью человеческих тел… С одной стороны грабят татары, режут, уводят в полон, а с другой – Чарнецкий сметает с земли села… Все поголовно «катуе», на колья сажает… Эх, да и есть ли на свете другая такая мученица, как наша Украина!
– Да что ж мы, да как же это? – простонал как-то взволнованно дед, утирая глаза.
Все потупились мрачно и не проронили ни слова. В упавшей тишине послышался вдали топот коня, он то усиливался, то затихал.
Дед насторожился.
IV
В это время баба и две девчины принесли вечерю, – целую макитру гречаных галушек с таранью и огромную миску вареников, да сулею «оковытой», и отвлекли внимание.
– Ге-ге, – улыбнулся, расправляя усы и засучивая рукава, Сыч, – славную вечерю приготовила нам баба, дух такой пошел, что душу к «оковытой» так и тянет… А вот, – обратился он к Богуну, – и твоя любимица, моя внучка Галинка… Полюбуйся, как выгналась, как лозинка «гнучкая».
– Ай, ай, ай! Моя «красунечка»! – воскликнул радостно Богун, – давно ли козочкой прыгала, на колене у меня «гойдалась», а я припевал ей: «ой, тоси-тоси, – кони в гороси!» А теперь дивчина, настоящая дивчина! Да какой еще полевой цветик! Что же к дядьку своему не подбежишь?
Вся раскрасневшаяся от радости и похвал, с горящими глазками, стояла нерешительно Галина, конфузясь при других броситься, как прежде, к дядьку на шею.
– Что же ты, Галюню? Испугалась, что ли, меня? – промолвил после паузы, вставши, Богун, – Так мы вот как теперь! – и он обнял смущенную девушку и чмокнул громко в обе щеки, а Галинка поцеловала украдкой его в руку.
– Дочка моего лучшего покойного побратыма, – обратился он ко всем, – славного на всю Украину казака Морозенка.
– Морозенка? Олексы? – изумились все.
– Да, моего зятя, – ответил, подавивши глубокий вздох, дед, – на дочке моей на Оксане был женат… А как его убили, и моя единая дочка умерла от тоски, так я с Галиной и поселился здесь.
Дед налил всем ковши, и «оковыта» была выпита с обычными приветами и пожеланиями, особенно относительно безотрадной, несчастной родной страны. Словно обрадовавшись вечере, чтобы хоть чем-нибудь перебить тяжелое настроение, все набросились на нее с жадностью и молча стали утолять голод.
Девчата стояли тут же и прислуживали дорогим и важным гостям. Когда миски и макитры были опорожнены, и казаки, утирая лбы и усы, перешли к прохладительным напиткам, то разговор опять начал завязываться.
– Взалкал, и утоли глад мне Господь, – перекрестился набожно Сыч, – Ну, теперь примемся, мои друзи, за наливки… да и мед старый у меня отыщется для приятелей, благодаря одному бенедиктину, упокой Господи его душу. А вы, дивчата, приберите все лишнее да принесите сюда хоть два барылка, да и фляжек тех, что мохом обросли и стоят в дальнем «льоху», также притащите сюда штук пять, шесть. Так, так-то, друзи мои, – обратился он ко всем, наливая в кухли темно-малиновую жидкость, – там канчук, а там кнут, – всюду «скрут»! Ox, ox, ox! Помереть-то лучше, чтобы и не слышать такого… Ну, а что ж этот пес, Чарнецкий, все еще неистовствует?
– Неистовствовал, – подчеркнул Богун, – епископа Тукальского и архимандрита Гедеона Хмельницкого сослал было в Мариенбургскую крепость. Тетеря же со своей стороны грабил где мог и что мог, послал Дрозденко и тот ободрал несчастную вдову Тимкову, Домну Роксанду, – сама едва живая ушла. Поднялся везде против таких извергов люд; иные целыми лавами двинулись на левый берег Днепра, а другие стали собираться в «купы» и защищаться, а поляки со своей стороны составили конфедерации, наконец-таки Чарнецкий подох, а Тетеря не мог уже держаться среди общей ненависти и удрал в Польшу.
– Слава тебе, Боже, и долготерпению и милосердию Твоему слава! – перекрестился набожно дед, – хоть отдохнула, наконец, наша «ненька».
– Ох, не так-то и отдохнула, да и придется ли ей когда отпочить? – вздохнул безокий куренной. – Куда ни глянь, гвалт, да крик, да разбой, словно подурели все, головы потеряли. Выбрали не так давно гетманом Петра Дорошенко, и король утвердил его, даже уважил просьбу нового гетмана и выпустил на волю Тукальского и Хмельницкого; а тут появился еще другой гетман Опара, управился Дорошенко с ним – появился Дрозденко, сломил и того, появился Суховий. Такое завелось, что, почитай, каждая просто «купа» хочет завести своего гетмана, а казацкие войска и туда, и сюда. Настоящие-то казаки стали переводиться, то в шляхту «пошылысь», то своими пасеками занялись, а вместо себя стали поставлять в войска наймитов. Только кому скрутится, а нашему «поспольству» так смелется! В таких беспорядках ни сеют, ни жнут, а с голоду пухнут; прежде было хоть эконома закупят, да и придбают себе стожок, другой, а теперь так пустошью все и лежит. Ну, какого бы, кажись, лучшего гетмана, как Петра? «Щырый» и правдивый, отважный, стоит за единую Украину, так нет!
– Так кто ж у нас теперь гетманом, и не разберу, – развел дед руками, – Дорошенко, чи Бруховецкий?
– На Левобережной Украине – Бруховецкий, а у нас Дорошенко, – ответил Богун. – Разорвали, выходит, пополам предковскую русскую землю, и братья на братьев встают… Днепр краснеет от сыновней крови… Бруховецкого и там ненавидят, а он лезет еще сюда, берет Канев… наш-то Дорошенко про одно «дбае», чтоб Украину вместе соединить, хоть и под Московской державой, да вместе, а вот слух прошел, что царь заключил с ляхами Андрусовский мир и от нас откинулся… Если мы останемся разорванные надвое, то погибель всем, да и только!
Тяжелый вздох вырвался из груди у деда, как леденящий порыв зимнего ветра.
Орыся принесла увесистое барылко и поставила посреди «кылыма», а Галина разместила на нем же полдюжины фляжек и остановилась в стороне, готовая каждую минуту к услугам.
Богун долго и нежно смотрел на эту милую, грациозную девушку и переживал в душе какие-то давние, дорогие ему впечатления.
– Ох, – вздохнул он потом, проведя рукой по челу: – сколько это милое личико пробудило воспоминаний… Красавица мать ее… Богдан «незабутний». Семья его… Субботов… Сколько сил душевных было там, сколько грелось надежд! – Все прошло, все минуло… Дорогие лица спят под землей…
Словно похоронный припев прозвучал его голос и навеял на всех щемящую «тугу» – печаль. Все смолкли и задумались…
Стояла уже тихая, теплая ночь… Внизу подымался с речки туман и наполнял легкой влагой воздух… Вверху в бездонной синеве кротко мерцали звезды… На дальнем горизонте из-за могилы выплывал ярким заревом месяц. Было так тихо, что из дальнего степного озера доносился треск коростеля, перемежающийся с заунывным стоном лягушек.
Вдруг послышался вновь, но уже близко, на той стороне речки, торопливый, приближающийся топот коня и всплески воды, потом на этой уже стороне какой-то короткий храпящий стон, барахтанье и грузное падение тяжелого тела. Все всполошились и поднялись на ноги.
– Что-то неладное, – заговорил после небольшой паузы дед, – пойдемте, панове, посмотрим… Гей, Немото, – крикнул он по направлению к землянке, – фонари давай! Отсунь ворота!
Вскоре Сыч с немым наймытом и гостями спустились по небольшой покатости к речке. Долго искать было не нужно; тут же саженях в пяти, на берегу, поросшем низким «осытнягом» и татарским зельем, виднелась лежавшая туша. Бросились к ней и остолбенели от ужаса: то оказался мертвый, холодеющий уже труп коня, на спине которого привязано было сетью веревок полуобнаженное, окровавленное, истерзанное человеческое тело; веревки в иных местах впились в него до кости, в других – стерли всю кожу, на зияющих ранах прикипели и болтались обрывки одежды, и одежды богатой. Дед бросился к трупу, приложил ухо к обрызганной за пекшейся кровью груди и через минуту промолвил: