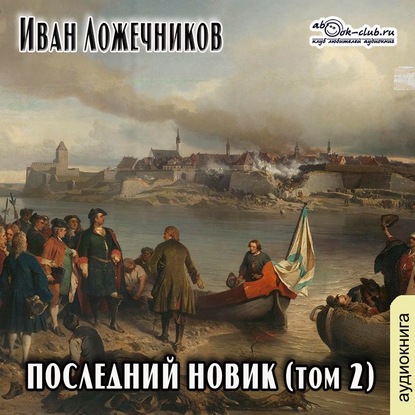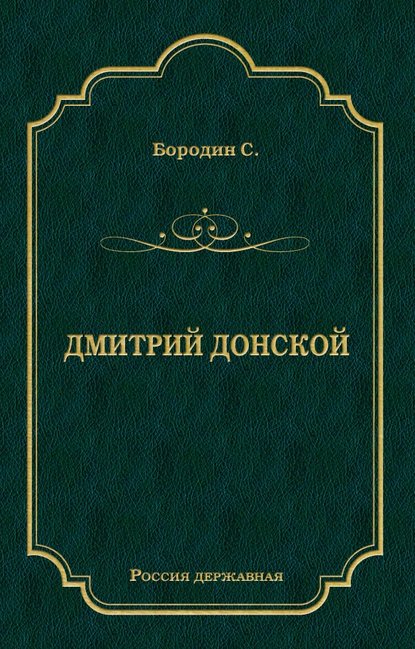полная версия
полная версияПри дворе Тишайшего
Дверь с жалобным визгом повернулась на своих ржавых петлях, и все опять стало тихо и безмолвно вокруг Пронского, как в глубокой могиле. В туманной грезе мерещилось ему, что его действительно опустили в могилу. Безмолвие наползало в эту темницу изо всех четырех углов, ощущение тяжелой, мрачной тишины причиняло князю странную боль. Ни звука, ни света… уж не умер ли он? Но его мозг еще работал, и сердце, хотя слабо, но билось. Где он? Что с ним? Когда, зачем и куда его опустили? Сознание мешалось в его голове. Сон это или греза? Кто был тут, кто говорил мгновение тому назад? И почему на его душе стало так спокойно, так тихо, так сладко? И откуда вдруг этот мягкий свет в его глазах, блестящая точка, которая спускается к нему все ниже, все ближе и вот уже озаряет его своим лучезарным, радостным блеском? Ах, да ведь это царевна с его дочкой Ольгой явилась к нему в последнее мгновение жизни в этом светлом сиянии, чтобы принять его последний вздох. Как хорошо умирать, какое счастье покинуть эту унылую темницу – жизнь!
IX
Неожиданная развязка
В Кремле опять было движение. На площадях толпился народ, всюду сновали «жильцы», на «стойке» стройно вытянулись стрельцы.
К Красному крыльцу то и дело подъезжали кареты, из которых медленно вылезали старики, именитые бояре да князья; подъезжали и бояре помоложе на ретивых арабских или персидских конях, богато разукрашенных и увешанных золотыми и серебряными бляхами и колокольцами, перьями и звериными хвостами; позади седла были литавры, в которые ударяли палками, чтобы лошадь шарахалась, играла и звенела всей своей сбруей; не доходя до крыльца, все слезали и шли дальше пешком.
Передняя уже была полна боярами, окольничими, думными дворянами и другими придворными чинами. Все судачили, толковали шепотком о чем-то, передавали городские новости и с нетерпением ожидали царского выхода.
– Что-то царь не выходит долго? – спросил кто-то.
– Мрачен он и смущен душою! – ответил степенного вида боярин.
– С чего бы, кажись? – полюбопытствовал окольничий.
– Эвона! Что сбрехнул! – рассмеялся боярин с изрядным брюшком. – Царю-то да не смущаться духом, когда у него в народе измена и всякая что ни на есть гадость?.. Кому же и соболезновать, как не батюшке-царю?
– Да, сказывают, опять мор на Москву идет: известно, царю и мрачно.
– Да и патриарх все смутьянит.
– Это из-за его книг. Выдумал святые книги исправлять!.. Видано ли это дело? – И, наклонившись к самому уху боярина с брюшком, боярин степенного вида таинственно прошептал: – Помяни мое слово, это – сам антихрист!
– Кто? – вытаращил глаза боярин с брюшком. – Патриарх-ат…
– Шт! Шт! Эк ведь тебя! – испуганно остановил его степенный боярин.
– А что, правда, сказывают, колдунью какую-то жечь скоро будут? – спросил молодой окольничий.
– Говорят, а верно ли, кто это знает? – ответили ему.
– Смотрите, смотрите, иверский царь идет.
Все обернулись в ту сторону, откуда показался Теймураз Давыдович, величественно шедший в сопровождении своей свиты и царевича Николая.
В Грановитой палате, куда ввели грузинского царя, стояло у стен до пятисот сановников и длиннобородых седых гостей в богатейших одеяниях. Огромная палата сияла, как сказочный чертог, богатством и роскошью. Тут все щеголяло парчами, атласами, шелками, соболями, дорогими и редкими вещами, которые выставлялись напоказ гостям и возвращались после службы в дворцовые кладовые вместе с бесценною утварью.
На окне, на золотном бархате, стояло четверо серебряных часов; у того же окна стоял серебряный шандал; на другом окне – большой серебряник с лоханью; по сторонам – высокие рассольники; на третьем окне, на золотном бархате, стояли еще большой серебряный рассольник да бочка серебряная, позолоченная, мерою в ведро.
На рундуке, против государева места, и на ступенях были постланы ковры; около стола стоял поставец, на нем были расставлены сосуды: золотые, серебряные, сердоликовые, хрустальные и яшмовые. Вокруг разукрашенного престола, на котором восседал царь, размещались большие иконы, держава цельного золота, такой же посох царя и вызолоченная лохань с рукомойником и полотенцем. Царь, восседая на престоле во время приема иностранных послов, давал послу целовать свою руку, потом омывал ее и, посидевши молча, приглашал гостя к обеду, а сам величаво удалялся.
Когда Теймураз вошел в Грановитую палату, Алексей Михайлович уже сидел на троне. Он приветливо встретил грузинского царя, дал послам целовать свою руку, потом всех пригласил сесть к столу.
Царь из своих рук посылал гостю яства, и тот, по обычаю, должен был вставать и кланяться. Теймураза утомляла эта церемония, и он с тоской поглядывал на своего высокого хозяина. Его наблюдательный взор заметил, что всегда безмятежное лицо Тишайшего покрыто нынче облаком грусти, а в голубых глазах вспыхивала тревога, когда он обводил взглядом толпу бояр; какая-то горькая улыбка блуждала на его полных губах, и он рассеянно отвечал на вопросы сидевших близ него Нащокина и Ртищева. Видимо, царь был озабочен и невесел.
Расположение государя действовало и на гостей: они ели и пили, по обыкновению, много, но как-то сумрачно. Более полутораста человек стольников разносили яства на раззолоченных блюдах, кравчие то и дело подливали вино в кубки, но гости веселились не от души. Разговоры велись втихомолку, больше отрывочные, и, казалось, все томились этим бесконечно длинным обедом.
Вот стольники уже раз переменили свои дорогие кафтаны, унизанные жемчугом и камнями, на еще более роскошные; бояре распустили свои кушаки, лица стали понемногу оживляться. Кубки беспрерывно наполнялись, одна смена блюд – то с огромным, причудливо разукрашенным лебедем, то с диковинным бараном – менялась другими, еще затейливее, еще замысловатее.
Теймураз уже потерял счет выпитым стопам рейнского вина и мальвазии и съеденным им яствам.
– Скоро ли конец? – уныло спросил он сидящего рядом с ним Орбелиани.
Тот пожал плечами и поглядел в окно.
На дворе уже давно зашло солнце, наступали теплые летние сумерки – в палате стало легче дышать, а из цветников, окружавших дворец, повеяло душистым запахом цветов.
– Скоро ли конец обеда? – спросил один из присутствовавших грузин сидевшего рядом с ним толмача.
– Да, пожалуй, еще часа три, а то и все четыре: раньше двенадцатого часа никак не кончится, – ответил толмач.
Грузин передал его ответ царю Теймуразу. Старый царь с ужасом выслушал это печальное для него известие и спросил:
– Когда же я скажу ему о своем деле?
Толмач ответил, что на обеде не принято говорить с царем о делах.
Теймураз заволновался и сказал, что в таком случае он дольше оставаться в Москве не может.
– Время идет, мы живем изо дня в день; там шах Аббас разоряет мою землю, а я здесь пирую. Моих подданных изменой здесь убивают, а я даже сказать о том царю не могу и должен молча пить вино, вместо того чтобы просить у царя суда и наказания убийц Леона! – сильно жестикулируя, сказал старый грузинский царь. – И ты, его отец, – обратился он к Вахтангу Джавахову, – ты спокойно сидишь за столом, за которым, может быть, сидит и убийца твоего родного сына!
Джавахов угрюмо ответил царю:
– Мы в чужой стране и не смеем нарушать их обычаев; завтра я узнаю имя убийцы и паду к ногам царя, а сегодня мы должны помнить, что мы у него в гостях.
Теймураз молча понурился.
В это время Милославский, сидевший недалеко от грузин и уже изрядно подвыпивший, приставал к Черкасскому и издевался над его неудавшейся женитьбой:
– Что же за тестюшку своего богоданного не вступишься у царя? Государь милостив, авось простит!
– Молчи, отстань! Что тебе надо от меня, ирод? – огрызнулся Черкасский, злобно сверкнув глазами.
– Или женушка не по вкусу пришлась? И то сказать: не всякая путевая за тебя и пойдет-то.
– Ты, боярин, смотри говори, да не заговаривайся!
Сказав это, Черкасский откинул полы кафтана; за поясом у него был заткнут кинжал, на который он положил свою огромную мохнатую руку.
Милославский так и впился в кинжал взором, и его глаза засверкали жадностью. Он перестал дразнить боярина и уже другим, дружественным голосом спросил его:
– Откуда у тебя, князь, этот нож?
Черкасский заметно смутился и хотел уже запахнуть кафтан, но Милославский остановил его:
– Нет, князь, постой! Нож-то мне, кажись, знаком. Грузинского князька это нож!
– Так что ж из того? – произнес Григорий Сенкулеевич, закрывая кинжал рукою.
– Я у него нож этот приторговывал, да он мне его даже за две вотчины не уступил.
– А мне даром уступил, – странно засмеялся Черкасский, но его смех тотчас же оборвался.
Возле него стоял, сверкая глазами, князь Джавахов и, протянув руку к кинжалу, что-то говорил на своем гортанном, незнакомом Черкасскому языке. От волнения Джавахов совершенно забыл те немногие слова, которые знал по-русски, и теперь по-грузински требовал у Черкасского кинжал своего сына.
Черкасский послал его к черту и, запахнув кафтан, налил себе огромную стопу рейнского вина и залпом выпил его. Но Джавахов с силой тряхнул его за плечи и, возвысив голос, потребовал показать ему кинжал.
Близ сидевшие бояре повскакивали со своих мест и обступили споривших. Приблизился и Теймураз с некоторыми грузинами, подошел к ним и толмач.
Царь Алексей Михайлович, заметив какое-то движение у стола грузинского царя, послал одного из бояр узнать, что там случилось.
Джавахов упорно требовал кинжал, а князь Черкасский упорно отказывался его показать. Милославский ни на минуту не оставлял Черкасского и спросил толмача, что гуторят грузины.
– Они говорят, что это кинжал убитого изменою князя Леона Джавахова, и спрашивают боярина, как он достался ему, только и всего! – ответил толмач. – А боярин упорствует.
Черкасский сидел мрачнее грозовой тучи, нахмурив свои густые брови и из-под них недобрым взглядом окидывая всех толпившихся вокруг него.
– Царь требует сказать, что здесь делается? – вдруг раздвинув толпу, спросил царский посланец.
– Вот к чему твое упорство привело, – ехидно заметил Черкасскому Милославский, – теперь уж не отвертишься: показывай-ка свой нож! – А так как Черкасский все еще медлил, то Милославский подмигнул двум стольникам, и те в минуту облапили Черкасского и сняли с него кинжал.
Черкасский рванулся и зарычал, как дикий зверь, но сильные руки стольников не позволяли ему кинуться на Милославского.
– Теперь к царю надо идти, – проговорил последний, осмотрев кинжал, – а князя подержите. Как царь рассудит, так и будет. Может, и вправду нож не добром ему достался? Идем к царю, что ли? – предложил он грузинам.
Все двинулись к царскому месту.
Алексей Михайлович с хмурым любопытством посмотрел на подошедших грузин и своего тестя.
– Что у вас там приключилось? – спросил он.
– Да вот, государь, – улыбнулся Милославский, – рассуди иноземцев с боярином нашим Черкасским. Говорят они, будто он изобидел их, а вот и нож, из-за которого та распря учинилась, – и он подал царю кинжал.
– Опять этот диковинный нож? – с изумлением спросил Алексей Михайлович, тотчас же узнав драгоценную вещь. – Чего же они хотят? Помнится, князь Черкасский его у кого-то отнял, и я велел ему тогда возвратить эту вещь хозяину. Как же он опять у Григория Сенкулеевича?
Тут выступил вперед толмач и указал на старика Джавахова:
– Вот он жалуется тебе, царь-государь, что князь Черкасский будто и есть самый убийца его сына!
– Что?! – вскочил как ужаленный Алексей Михайлович. – Да знает ли он, что за такой извет он может дорого поплатиться?
– Знает, я говорил ему о том. Но он сказал, что ничего не боится, и винит князя.
– Хорошо, ступайте! Скажи, что я рассужу, – вдруг упавшим голосом произнес государь и, обращаясь к Милославскому, проговорил: – Вели князя свести по извету в темницу, пусть над ним допрос учинят, а это возьми! – протянул он тестю кинжал. – Спрячь пока…
Милославский радостно схватил кинжал и спрятал его за пазуху.
– Пусть пируют, – устало проговорил Алексей Михайлович, махнув рукой. – Кто хочет, может пир оставить, а я уйду! Печалуется душа моя! Тяжко смотреть мне на бояр моих нечестивых, алчных и злых! – с горечью сказал он Ртищеву, направляясь в свои покои.
– Государь! – попытался Ртищев заступиться за нового опального князя. – Может, вина Черкасского и невелика. Ведь тот нож он мог и купить.
– Знаю, знаю, что именно он сотворил это злодейское дело, – остановил Ртищева царь и, нагнувшись к самому его уху, продолжал: – Боярыня Хитрово намедни прибежала простоволосая, с выкатившимися бельмами, в ноги мне кинулась и в больших злодействах своих повинилась.
Федор Михайлович с изумлением внимал словам царя, изредка опасливо осматриваясь, не подслушивает ли их кто-нибудь.
– Боярыня Хитрово, – продолжал царь, – повинилась, что великую злобу держала против князя Пронского, зачем он будто свою дочь спрятал и этому юному грузину в жены отдал; многое и другое что говорила…
– А Черкасский-то здесь при чем? Не уразумею, государь? – поинтересовался узнать Ртищев.
– Черкасский же держал лютую злобу против этого грузина по причине этого самого ножа, и когда велел я ему этот нож возвратить чужеземцу, то князь злобу свою притаил. Потом он узнал, что грузинский князек соперником ему доводится, и еще пуще того обозлился. Ведомо ему стало через ключницу, что невеста его молодая князька этого любит, а его, старого, пуще смерти боится. И задумал он князя чужеземного со света извести. Сговорил людишек своих, те стали по пятам за грузином ходить, выследили дом, где он хотел с молодою женою схорониться, пока гнев ее отца, князя Пронского, не минует, а ночью нагрянули людишки Черкасского, схватили князька и уволокли, тяжко ранив.
– Может, это поклеп на Черкасского?
– Боярыня Елена Дмитриевна его человека хитростью схватила, он во всем и сознался.
– А как боярыне о том ведомо стало? – спросил Ртищев, относившийся очень осторожно ко всяким изветам и доносам.
– Все из-за денег, жадность людей одолела, – грустно ответил царь. – Люди-то Черкасского на золото боярыни позарились: довелось им, вишь, слышать, что убивается она по князьке-то грузинском. Очень любила она его, – вскользь заметил Алексей Михайлович, – и много денег обещала тому, кто весть о нем ей принесет. Ну, вестимо, не устояли убийцы, объявились к ней и под великой тайной показали князька – умирал уже он от своей раны. Долго убивалась над ним боярыня, потом свезла его к жене молодой, на руках их он и душу свою Богу отдал. А боярыня как полоумная ко мне кинулась, во всем мне покаялась, за Пронского просила, извет с него сняла, а Черкасского молила наказать и тут же в огневицу впала, больно намучилась… Всем ее словам я мало веры дал, только повелел учинить дозор за людьми Черкасского, а тут вот, на пиру, и объявил он сам себя. Какие бояре-то у меня, какие бояре! – печально покачав головой, проговорил царь. – Убийцы, алчники, мздоимцы, лихвенники, изменники своему отечеству… Как править землей с такими боярами? Бояр много – я один. Можно ли одному управиться с государством?
– Не все же, царь-государь, такие, – проговорил Ртищев, – есть ведь и достойные мужи.
– Есть, боярин, есть, – быстро подхватил Алексей Михайлович, – если бы не было, чем земля Русская и держалась бы? А все же одна негодная овца все стадо может испортить, да и молва о худом, как ком снежный, по всему свету катится, а хорошая к земле прирастает. И горько мне, горько, что в царстве моем больше худого, чем хорошего.
– Пустое, государь! Не печалуйся! В семье не без урода, – утешал, как умел, Ртищев.
– Уродов-то этих больно много, – улыбнулся уже Тишайший. – Что ж, поди, грузинский царь в горе? Приехал в неведомую страну защиты и подданства просить, а тут его же людей убивают. Горько это ему, горько! И мы просьбы его не уважили. Неужели ничего для них не сделали? – с искренним участием спросил Алексей Михайлович.
– Нельзя, государь, никак нельзя его просьбы уважить. У нас война с польским и шведским королями, ратные люди на границе – а царь Теймураз просит ратных людей тридцать тысяч! Немалая это рать, не собрать нам ее теперь. Со своими врагами и то дай бог управиться, а потом уже чужим помогать.
– Да ведь не чужой нам иверский народ! И веры одной, и батюшке моему челом в подданстве били, и в титле у нас значится: «Государь земли Иверской, Грузинских царей и Кабардинской земли, Черкасских и Горских князей обладатель». Как же нам не печься о народах своих?
– Оно точно… Так ты, государь, дай ответ ему, что народ бил челом царю Михаилу Федоровичу на подданство, – проговорил Ртищев, – да не с руки нам они: далеко к ним ратных людей слать.
– А как же быть-то? – спросил Алексей Михайлович. – Ведь царю-то грузинскому невмоготу и здесь сидеть? Изныло, поди, сердце по народе своем?
– Оно точно… Так ты, государь, дай ответ ему, что как управишься с неприятелями своими, то в утеснении и разорении видеть его не захочешь и своих ратных людей к нему пришлешь. Одари деньгами да соболями! – посоветовал Ртищев.
Царь внимательно выслушал своего умного и дельного советника:
– Ну, пусть будет по-твоему: как только управлюсь с польским и шведским королями, беспременно пошлю ратных людей, сколько царю Теймуразу потребуется. Пошли сказать о сем царю; пусть к нему с соболями и деньгами поедет Алексей Трубецкой. Он боярин дельный и дела умеет вести тонко. А теперь ступай-ка, Федор, – ласково положил царь свою руку на плечо боярина, – если бы побольше таких людей у меня было, как ты да боярин Ордин-Нащокин, хорошо было бы в моем государстве и легко было бы душе моей. А теперь скорбит и ноет душа моя. Прощай пока!
Ртищев благоговейно облобызал руку царя и медленно вышел из покоев.
Тишайший, как только вышел боярин, подошел к отворенному окну и, облокотившись на косяк, задумчиво устремил взор на темно-синее небо, усеянное звездами.
Какие думы роились под его высоким белым лбом в эту тихую летнюю ночь? Глубокие вздохи, вырывавшиеся из его широкой груди, тревожили спальника, стоявшего за дверями и прислушивавшегося к малейшим движениям царя, так необычайно долго не шедшего ко сну.
X
Казнь
Жаркий августовский день тяжко повис над Москвой.
Еще с самого раннего утра, когда солнце чуть только поднялось над Белокаменной, народ толпами сходился к Лобному месту. Все были как-то оживленно взволнованы, точно их ждало веселое, невинное зрелище, а не вид страшных человеческих мучений. И ни предстоящий жаркий, удушливый день, ни раскаленная земля со вздымавшимися столбами пыли, залеплявшей глаза, ни долгое ожидание под жгучими лучами солнца не останавливали людей, жаждавших сильных ощущений.
Любопытные, толкаясь и опережая друг друга, торопились занять лучшие места, поближе к страшному зрелищу. Молодые девушки, принаряженные в светлые платья с шелковыми платочками на русых головах, весело бежали то позади степенных родителей, то взявшись за руки, попарно. Парни в праздничных поддевках, с полными мешками орехов и пряников, перекидывались со знакомыми девушками шутками и угощали их сластями. Матери, кто за собой, кто на руках, тащили грудных ребят смотреть на это назидательное зрелище.
И всем было весело, все, точно торопясь, с нетерпением ожидали казни.
– Слышь, и бояр будут жечь! – сказал молодцеватого вида парень курносенькой девушке в голубом сарафане.
Та с жадным любопытством вытаращила свои светлые глазки на парня.
– Неужели? – захлебываясь, спросила она.
– Сказывал мне один заплечный мастер, – с важностью ответил парень, гордясь столь почетным знакомством, – что много им ныне работы предстоит.
– А кто такие бояре? – вмешался в разговор служилый человек. – Как звать-то их?
– Не знаю… много их. Всех не упомнишь, – с небрежностью возразил парень и отвернулся от служилого.
В это время на помосте палач в красной рубахе, плисовых шароварах и высоких сапогах устраивал костер; сложив в виде колодца несколько больших поленьев дров, он соорудил посредине два высоких столба, к которым привязывали преступников, и наложил вокруг него соломы и хвороста. Время от времени палач поднимал свою лохматую гриву, ладонью заслонял глаза от солнца и смотрел на волновавшуюся толпу народа, окружавшего Лобное место. С высокого помоста он мог видеть далеко и первый заметил вдали приближавшийся поезд с осужденными.
– Везут, везут, – пронесся среди толпы гул, и все головы повернулись в ту сторону.
– Где, где? Пров Степанович, поддержи-ка меня под микитки! – говорила хорошенькая молодуха стрельцу.
– И что тебя, Танюша, тянет, право слово, на мучительство-то людское смотреть? Пойдем лучше на Москву-реку! – предложил Дубнов своей молодой жене.
– Пров Степанович, голубчик мой, дай хоша одним глазком взглянуть, и то матушка под семью замками меня держала, – тараторила молодуха, но при последних словах ее глаза наполнились слезами, и она тихо прошептала: – Где-то матушка теперь, куда она сгинула? Ровно земля ее поглотила! И тетка Ропкина словно сквозь землю провалилася. Чудно, право! Знаешь, Пров Степанович, что-то сердце мое вдруг заныло-заплакало.
– Пойдем отсюда, – предложил Дубнов, сам чувствовавший какое-то смутное беспокойство. – Да нет, теперь, пожалуй, из толпы и не выйдешь, – оглянулся он кругом. – И зачем я только послушался тебя, зачем пришли мы сюда? Вишь, народу сколько!.. Еще сомлеешь, столько времени на этакой-то жарище дожидаючись.
– Везут, везут колдунью, да, вишь, целых три! – раздавались кругом голоса.
– Поделом вору и мука! Не чародействуй!
– Не корми людей зельем!
– Царицу, слышь, опоить хотела…
– Во дворец пролезла, кошкой оборотилась да царевнам в кубки зелье сыпала! – говорила старуха, потрясая морщинистым кулаком.
– Всех бы их следовало об один камень утопить в Москве-реке.
– Пров Степанович, а взаправду они злые, эти ведьмы? – со страхом спросила Татьяна, прижимаясь к мужу.
– Злые, это-то правда, – усмехнувшись, ответил стрелец, – у этой самой Марфушки я был раз…
– Неужели был? – с любопытством спросила молодая бабенка, слушавшая разговор Дубновых.
– Был, а как же, – ответил Дубнов.
– Ну и что же? – раздалось еще несколько любопытных голосов.
– Да сдается мне, что больше они глупство говорят, и их колдовство – все одни бабьи россказни. Вот она, эта самая Марфушка, сказала мне, что не видать мне ее, – он любовным жестом указал на свою молодуху, – как своих ушей, и мы назло ей и повенчались на Красной горке. Вот тебе и ворожея!.. Один грош ей цена! – закончил Дубнов.
– Всяко бывало! – глубокомысленно произнес почтенного вида торговый человек. – Сказывала эта самая Марфуша и верно. Бают, она патриарху сказывала, что он в темнице дни свои окончит и власти своей решится. Что ж, разве не ее правда? В опале владыко, и не подняться ему теперь… Велики враги его.
– Что ж, может, и правду когда-либо говорила, – задумчиво произнес Дубнов. – Вот она моему другу, грузинскому князю Леону, сказала, что счастья ему не видать и он в ранней юности помрет. По ее словам и вышло, – грустно докончил он.
– Что и говорить!.. Марфуша никогда зря языка не чесала, – заметил кто-то.
– А все же она ведьма, а собаке – собачья и смерть! – крикнул какой-то ражий детина.
В это время к помосту подъехали дровни, на которых со связанными руками сидели приговоренные.
Это были цыганка Марфуша, ее кума и корчмарка мещанка Ропкина и ключница Черкасского Матрена Архиповна. Все они обвинялись: Марфуша – в колдовстве и чародействе, а две другие – в сообщничестве и пособничестве ей. Цыганка была обвинена в том, что будто бы покушалась влить зелье в питье царицы, и была приговорена к сожжению на костре; Ропкина – к сечению кнутом и отрезанию языка, а Матрена Архиповна, как соучастница в убийстве грузинского князя, присуждалась тоже к сожжению.
Марфуша сидела спокойная, и даже что-то величественное было теперь в ее исхудалой, измученной пыткой фигуре. Ее черные, горевшие лихорадочным огнем глаза с тревожным любопытством искали кого-то в многотысячной толпе, окружавшей помост. В худых, истерзанных на дыбе руках она судорожно сжимала ладанку; ее бледные, пересохшие губы нервно вздрагивали и что-то по временам шептали. К виду костра и приготовлениям казни она осталась совершенно равнодушной; только ее взоры устремились на безоблачное синее небо, точно она кого-то призывала оттуда в свидетели своих безвинных страданий.
Ключница Черкасского тоже мужественно вынесла все пытки, ни единым словом не выдав своего боярина. Она шла на смерть, оставшись ему верной рабой и готовясь теперь умереть за него.
Зато мещанка Ропкина голосила и причитала за всех трех. Зная, к чему она приговорена, она словно хотела наверстать возможность в последний раз поболтать языком.