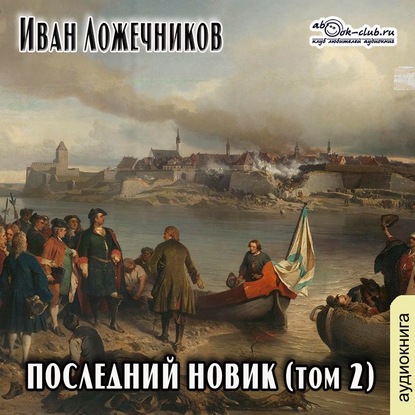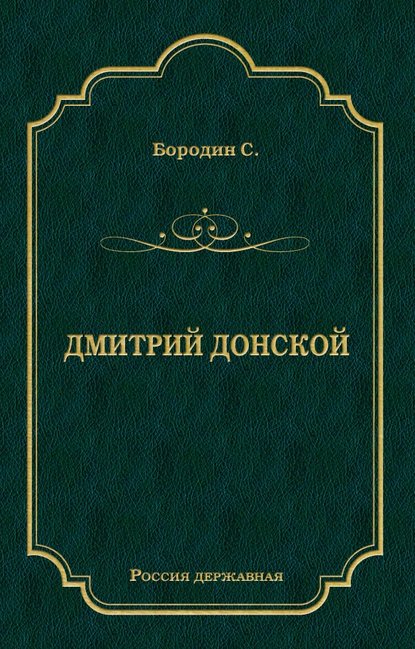полная версия
полная версияПри дворе Тишайшего
– Послушай, Федор Юрьевич, помоги мне красавицу выкрасть. Неужто такая свинья будешь, что не поможешь?
Черные ястребиные глаза будущего вершителя человеческих жизней, неукротимого в жестокости князя-кесаря блеснули удалью, и, стукнув чаркой по стакану, он сказал:
– А что ж, думаешь, не могу? Покажи только девку!
Двое уже допились до бесчувствия и лежали под лавками; это были толстый князь Черкасский и думный дьяк Василий Семенов; слуги тщетно старались привести их в сознание.
Князь Пронский почти не пил, или, вернее, не пьянел. Сидя с боярином Ртищевым, он молча слушал его, изредка вставляя несколько слов в плавную речь боярина.
– Посмотрю-ка я, как живут за морем, да посравню с нами, таково-то тоскливо мне сделается на сердце! – говорил Ртищев. – Земля наша обширна и могуча, а что толку? Справиться мы с нею не можем, людей у нас нет! Нет, пожалуй, и люди есть, да не о пользе государства они пекутся, а лишь о животе своем!.. А то вот такие еще, как ты, князь: и голова у тебя хорошая, и рода ты знатного, и служить бы тебе да служить царю и государству своему, а ты вот… тучи, тучи мрачнее. Какие недохваты у тебя, князь?
– Жизнь, боярин, опостылела!
– Эка ведь что сказал! – отмахнулся Ртищев. – В твои-то годы да и жизнь опостылела? Это все от безделья, князь! Займись делом – и тоски не будет!
– Каким делом-то? – уныло спросил Пронский.
– В послы просись! Вот мы никак с Яном Казимиром столковаться не можем, а ты в Польше уже бывал, язык, обычаи и свычаи знаешь.
– Так-то оно так, да не по душе мне Польша, – явно смутившись, возразил Пронский. – Мне хотелось бы в Иверскую страну: и страна-то дюже любопытная, да и дело-то по душе.
Ртищев усмехнулся в бороду и, прихлебывая вино, шутя проговорил:
– Сказывают, грузинки больно хороши? Посмотревши на царевну, и впрямь скажешь – красавицы. Только спесивы!
Пронский молчал, потупившись.
– Стало быть, это ты привел тех грузин? – кивнул Ртищев головой на князя Джавахова и Орбелиани, важно сидевших на противоположной стороне стола.
Лицо Леона Вахтанговича было бледно, глаза мрачно сверкали, то и дело останавливаясь на Пронском. Он просил царевну, чтобы она выхлопотала ему доступ на ужин к царскому столу, где, думалось ему, удастся поговорить с Пронским, а в случае чего и просить у самого царя за себя и за княжну. Но Пронский встретил его холодно и надменно и сел далеко от грузин. Некоторые из бояр подходили к грузинам, дружески заговаривали с ними, чокались и отходили; они оставались опять одни вдвоем и терпеливо ожидали выхода царя.
– Нет, не я, – ответил Ртищеву удивленный Пронский и, посмотрев на грузин, встретил злобный взгляд Леона. Но тотчас же он обратился к боярину: – Что ж, устроишь меня послом в Грузию?
– Что же я? Я что ж? Намедни, кажись, говорил я тебе, что не ко времени нам валандаться с иверцами этими, – уклонился от прямого ответа Ртищев.
– То зимой было… зимой туда действительно опасно, а теперь как раз… в самую пору.
– Да я что ж? Как царь, – замялся боярин, но затем тотчас добавил: – А ведомо ли тебе, что царь их, Теймураз, сам на Москву двинулся?
Пронский с изумлением отшатнулся от говорившего:
– Впервые слышу!.. Зачем же он едет?
– Думает, сам лучше переговорит; на царево сердце, видно, надеется. Дескать, пожалеет царь его, старика. Ну вот, обо всем переговорят и восвояси двинутся… Должно быть, и царевна-красавица с ним поедет, – невинно докончил боярин.
Пронский смотрел на него опечаленными глазами, не будучи в силах произнести ни слова.
Их беседу прервали страшный шум и поднявшийся в зале крик. Ртищев повернулся и увидал, что князь Леон, стоя перед пьяным Черкасским, громко требовал вернуть ему его кинжал, который, блестя дорогой оправой, висел на княжеском поясе и о котором Черкасский пьяным языком рассказывал своим собутыльникам.
– Отдай, слышишь ли, князь, отдай кинжал! Он не твой, и ты должен возвратить его мне! – взволнованно говорил Леон.
– А, так это ты мой убивец? – заревел пьяным голосом Черкасский.
– Я тебя не убивал, – загорячился Леон, – я только ответил на твое оскорбление. Отдай мой кинжал!
– Вот погоди, придет царь, пожалуюсь я ему, что убийцы у него не только на свободе рыщут, но еще и на вечери зовутся.
– Отдай кинжал! – горячился Леон.
Вокруг них столпились все присутствующие; одни взяли сторону Черкасского, другие – молодого грузина.
– Отдай, что те связываться с чужой вещью! – кричал один голос.
– Кинжал не твой, ну и отдай, – горланил другой.
– Связался черт с младенцем! – шипел по адресу Черкасского чей-то озлобленный голос. – Такого, как тебя, убьешь небось!
Перебранка начинала принимать угрожающие размеры, когда в столовую вбежал рында с криком, что царь сейчас жалует.
XIV
Драгоценный кинжал
Царь Алексей Михайлович вошел в столовую в сопровождении Милославского и с изумлением взглянул на столпившихся в кучку бояр. Те при его появлении смолкли и до земли склонили свои головы. Только Леон и князь Орбелиани, поклонившись царю, тотчас же выпрямились и, гордо закинув свои головы, смотрели ему прямо в глаза.
– Здорово, бояре! Что приутихли? – спросил царь, направляясь к своему креслу.
Бояре поднялись и сбивчиво стали объяснять распрю Черкасского с Джаваховым.
– Ничего не разберу, – отмахнулся царь, – говори кто-либо один!
Но, прежде чем кто-либо из бояр успел сказать слово, князь Леон пробрался через толпу бояр и упал к ногам Тишайшего.
– Дай слово сказать, государь, – громко и внятно произнес он по-русски, с едва заметным акцентом.
– Говори, молодец, говори, – ласково ободрил его царь, любуясь тонкой, стройной фигурой грузина.
В нескольких словах Леон рассказал свое невольное столкновение с князем Черкасским; как тот ударил ни в чем не повинного служилого, как Леон не одобрил этого поступка, как князь дерзко обозвал его за это и в конце концов вызвал его на кулачный бой, от которого Леон отказывался, зная, что бои по праздникам запрещены, и еще потому, что оружие у него и князя было неравное: грузины-де кулачному бою не обучались, а Черкасский оружием отказывался решить их недоразумение.
– Убийца он! – прервал рассказ отрезвевший Черкасский.
– Молчи, дай князю досказать, – остановил его царь.
Леон ясно и коротко докончил рассказ: князь хотел ударить его – на это есть свидетель; обозленный этим, он, Джавахов, выхватил из ножен кинжал и ударил им Черкасского, но ударил неопасно, потому что князь жив и даже собирается жениться; теперь он, Джавахов, требует у князя обратно свой кинжал и готов вторично вступить с ним в бой, но лишь при равных условиях.
Леон умолк и вопросительно устремил на царя свои жгучие, прекрасные глаза, горевшие огнем одушевления. Царь сидел в глубокой задумчивости. Наконец, тяжко вздохнув, он прервал молчание.
– Так соблюдаешь ты, Григорий Сенкулеевич, мои указы? – обратился он к Черкасскому. – Вот иноземец чтит мой указ, а ты… к обедне едешь, а что учиняешь?..
– Прости, надежа-государь, – низко кланяясь, сумрачно ответил Черкасский. – Нрав мой крут больно: иной раз и не совладею с ним.
– Мало в церковь ходишь, плоти своей молитвой да постом не обуздываешь, вот Сатана-то и завладевает тобой! – сокрушенно произнес царь. – Ну, да на этот раз, по случаю великой нашей радости, я прощу тебя, но помни, Григорий Сенкулеевич, в последний это раз. Буйства твои чрезмерны, и надо положить им предел.
– Вот скоро женится и остепенится, – ввернул за него Милославский.
– Женится – переменится, – засмеялись кругом.
Царь улыбнулся, после чего обратился к Леону:
– А тебя, молодец, тоже на сей раз прощу, ради великой нашей радости. Ведь мирволить убийству негоже! Ну а теперь ступайте оба с миром и выпейте по чарке фряжского вина, и да будет все забыто!
Черкасский повернулся было, чтобы идти к столу, но Леон не двинулся с места и обратился к царю:
– Государь, ведь я сам открылся, что ранил князя, а мог бы этого и не делать. Но сделал это я потому, что считал бесчестным скрываться. Я ходил к князю, просил его отдать мой кинжал, который завещан мне моим дедом; честным боем предлагал я князю рассудить нашу обиду… а он меня, как пса, выгнал из дома. Государь, прикажи вернуть мой кинжал, а там хоть казни меня, если считаешь мою вину столь великой.
Алексей Михайлович с изумлением посмотрел на юношу.
– Что за кинжал такой особый? – спросил он.
– Он никогда из нашего рода не выходил, вот он чем примечателен, – гордо возразил Леон. – Его Баграт, царь грузинский, из Палестины принес, когда пришел в Грузию проповедовать новую веру тотчас после Вознесения Христова, которое он сам видел; и этот кинжал Баграт, придя в Грузию, отдал нам. С тех пор переходит он из рода в род.
– Покажи-ка сюда! – заинтересовался царь.
– Прикажи Черкасскому! – ответил Леон.
Григорий Сенкулеевич сидел уже с несколькими боярами и усиленно тянул вино из золотой чарки. Когда у него потребовали по приказанию царя кинжал, он с сердцем выхватил его из-за пояса и кинул на стол.
– А, да пропадай он пропадом, анафема! Покоя из-за него нет! – прорычал он и, стукнув чаркой по столу, залпом выпил вино. – Что, нет у меня такого меча-кладенца, что ли? Почище и подороже еще есть!
Кинжал подали царю, и он стал с любопытством разглядывать действительно ценный и редкий кинжал, на котором изумруды, сапфиры и бриллианты переливались разноцветными огнями.
– Чай, дорог он? – спросил царь Ртищева, известного ценителя и знатока дорогих иноземных вещей.
Федор Михайлович взял кинжал в руки и, внимательно рассмотрев, ответил, возвращая его царю:
– Два княжества, Казанское и Астраханское, в былые времена отдали бы за него. А кабы наверное знать, что он из Палестины, то и больше можно было бы дать.
Все головы повернулись в сторону дорогого кинжала, и все глаза засверкали вдруг алчностью. Но сильнее всех загорелись глаза царского тестя Милославского. На него эти слова произвели такое действие, что он даже зажмурился.
Царь, полюбовавшись вещицей, отдал ее Леону:
– На, молодец, владей своим сокровищем! И мой тебе совет: не носи ты его за поясом, а спрячь подальше в сундук… Ну, бояре любезные, гости дорогие! – продолжал царь. – Пир мой что-то невесел? Немчин на органе не играет, трубы не трубят и сурны не слышно! Эй, кто там? Позвать скорей немчина да трубачей! Да вина подливай гостям! – приказал он кравчим.
– Без тебя, надежа-государь, не пьется! – раздался звонкий молодой голос Голицына. – За новорожденную царевну Софью Алексеевну, много лет ей… царствовать!
– Эка хватил! Ведь не царевич она, чтобы ей царствовать, а всего девчонка! – пошутил царь.
– Все едино! Может, за царя какого замуж выйдет. Много лет ей здравствовать! – поправился Голицын.
– Ты что заместо глашатая вылез? – заорал Ромодановский.
– Ничего, надежа-государь простит! – зашумел Голицын. – Да и чем я не глашатай?
«Молод больно!», «Молоко на губах не обсохло!», «Голос слаб!» – раздавалось со всех сторон.
– Надежа-государь, не обесславь, за новорожденную дозволь многолетие! – не унимался Голицын.
– Ну, пусть его! – махнул рукой Алексей Михайлович. – Вишь, ему моя дочурка по душе пришлась, – засмеялся царь. – Ну, подожди годков пятнадцать, а там и поженим, будешь моим зятем!
Все кругом засмеялись царевой шутке, и никому не пришло, конечно, в голову, что эти слова были почти пророчеством. Если Голицын много лет спустя и не стал настоящим зятем царя Алексея Михайловича, то стал очень близким человеком для его дочери и его государства.
– Что же, государь! – попросил Голицын. – Дозволь многолетие!
– Ин будь по-твоему, валяй! – разрешил царь.
Тогда Голицын вышел на середину комнаты с полной чаркой вина в руках; осушив ее до дна, он произнес громким голосом полный титул новорожденной царевны. Остальные подхватили многолетие и осушили все чаши до дна.
– Добро, спасибо, князь; спасибо, друга! – ласково улыбаясь, проговорил царь. – Спасибо на добром слове!
Царь Алексей Михайлович в такие дни веселых торжеств тоже не любил отставать от других и выпивал изрядное количество вина и браги. Его ласковые глаза понемногу стали терять свое обычное приветливое, всегда несколько смущенное выражение и становились тусклыми; на губах заблуждала хмельная улыбка; но его голос был все так же тих, когда он обращался с шутками к своим ближним боярам.
Пир был в самом разгаре, когда князь Джавахов подошел к Пронскому, сидевшему недалеко от царя, и попросил его на минутку отойти в сторону, так как у него к нему было дело.
– Какое такое дело? – с неудовольствием спросил Пронский, но, взглянув на грузина, вспомнил, что, может быть, тот принес ему весть от царевны Елены Леонтьевны, а потому, вставая со скамьи, проговорил: – Пойдем, что ли!
Они отошли немного в сторону, и Леон, слегка путаясь от смущения, стал объяснять князю, что любит его дочь, княжну Ольгу, что она тоже любит его и что они просят разрешения обвенчаться.
Пронский насупился и мрачно уставил на юношу свои холодные серые глаза. Когда же Леон кончил и стал ждать ответа, князь громко рассмеялся:
– Вот как! Губа-то у тебя не дура: ишь ведь какую кралю высмотрел! Дочь князя Пронского, внучка Репниных, невеста Черкасского, чем не пара… захудалому горному князьку…
– Князь! – гордо возразил Леон. – Я тебе прощаю эти слова, потому что ты отец девушки, которую я люблю…
– Нужно мне твое прощение! – надменно возразил Пронский. – А моей дочери тебе не видать как своих ушей.
– За что же, за что, князь, ты хочешь убить нас?
– Она невеста, уже чуть не повенчанная, потому что обручилась с Черкасским.
– Насилием обручили ее! – крикнул Леон.
Пронский сверкнул на него глазами.
– Не твое это дело! – скрипнув зубами, прошептал он и повернулся к Леону спиной.
– Это твое последнее слово? Смотри, потом не раскайся!
– Ты еще грозить?! – презрительно усмехнулся Борис Алексеевич и, не взглянув на грузина, отошел к столу.
Леон судорожно схватился за рукоятку кинжала, но вдруг почувствовал на своем плече чью-то руку и быстро обернулся. Возле него стоял боярин Милославский.
– Что, князь, от ворот поворот получил? – Он рассмеялся мелким, дробненьким смешком. – Эка хватил! Засватал дочку князя Пронского!..
– Чем же я хуже вашего князя Черкасского, этого старого развратника и разбойника? – спросил Леон.
– А тем хуже, что рода ты бедного да чужого. Что небось у тебя, кроме этого самого кинжала, ничего и за душенькой нет?
– Как нет? Сакля есть, земля есть, виноградник есть, – горячо запротестовал Леон.
– Велика невидаль – твоя сакля! – произнес Милославский с легким презрением. – У Черкасского таких курных изб и счета нет. Виноградников тоже! Эх ты! Вот где у тебя богатство, – указал он на сверкавший у пояса Леона кинжал. – Хочешь, я за него тебе вотчину в Вологде отдам, триста душ, усадьба?
Леон отшатнулся, пугливо схватился за рукоятку и отрицательно покачал головой:
– Нет, нет, я не отдам.
– Или слыхал, что он дороже стоит? Ну, что же, я вторую вотчину отдам, под Новым городом… А если у тебя будут таких две вотчины, то и князю Пронскому не стыдно будет отдать за тебя свою дочь. Что же, идет, что ли?
– Ты говоришь… князь Пронский отдаст тогда? – вздрагивающим голосом спросил Леон.
– Непременно отдаст, – уговаривал юношу искуситель, – ты же знатного рода, только беден малость.
– Ольге и мне хватит…
– Так-то оно так, да князю-то Пронскому побольше надо. Жаден он!.. Так как же, князь, отдаешь, что ли? Мне тебе услужить охота, а вещь эта самая на что она мне? Так, безделица. По рукам, что ли?
В душе молодого грузина происходила мучительная борьба. Он знал жадность русских бояр и не сомневался, что Милославский вовсе не из дружеской услуги покупает у него кинжал, а значит, он действительно ценный, если он дает за него целых две вотчины. Но отдать родовую вещь, которую ему завещал отец, а отцу – целое поколение, на это Леон не решался, хотя ценой такой мены и получил бы руку любимой девушки.
Милославский заметил его колебания и старался поскорее окончить выгодную сделку:
– Ну что же? Согласен? Давай кинжал, и пойдем выпьем на радостях.
– А вотчины? – спросил Леон.
– Гм… вотчины? Ну, купчую на них мы завтра сделаем!
– Если завтра, – решительно произнес Леон, – тогда и кинжал завтра отдам. Вишь, думаю сперва с отцом посоветоваться.
– Ин будь по-твоему, советуйся! – проговорил Милославский и как-то загадочно усмехнулся. – А после того приходи ко мне.
Милославский и Леон разошлись.
Пир продолжался, и гости все больше и больше пьянели; бубны и барабаны неистово звенели, а скоморохи и плясуны выбивались из сил, притоптывая ногами и выворачивая руки. Кравчие появлялись с новыми братинами, слуги вносили все новые и новые блюда с самыми причудливыми яствами.
Князь Орбелиани и Леон, пошептавшись друг с другом, первые ушли с пира, никем не замеченные.
XV
Два признания
Царевна Елена Леонтьевна недавно встала, открыла окно и задумалась, глядя на ясное голубое небо. Думала ли она о своей родине, вздыхала ли о знойном солнце или ее сердце заныло при воспоминании о безвестно пропавшем в Персии муже? Она и сама не сумела бы ответить на эти вопросы. По всей вероятности, все это входило элементами в ее тоскливое настроение, в ее грусть, овладевшую ею на далекой чужбине.
Долго стояла царевна у окна, устремив задумчивый взор в синюю даль, пока легкое прикосновение к плечу не заставило ее вздрогнуть и быстро обернуться.
– А, это ты, Нина? – ласково проговорила она, узнав княжну Каркашвилли. – Что, дитя? Ты так бледна, так печально глядят твои глазки! Что с тобою?
– Я не о себе пришла с тобою говорить! – тихо ответила девушка.
– А о ком же? – изумленно спросила царевна. – Ну, говори же! Да подыми же свою голову, посмотри на меня! – И она, взяв девушку за подбородок, насильно подняла ее лицо, вспыхнувшее под пытливым взглядом.
– Пусти, – высвободилась из ее рук княжна, – я пришла спросить, скоро ли мы уедем домой из этой холодной, страшной страны к себе, под чудное синее небо, под тени наших развесистых платанов, в наши лиловые горы? Скоро ли мы уедем? – с тоски произнесла молоденькая княжна и заломила руки.
– Дитя! – грустно возразила царевна. – Разве мы с тобою птицы, чтобы лететь, когда захотим и куда захотим?
– Мы не птицы, но ты – царевна…
– Царевна без царства, без крова, без почестей, – с горькой улыбкой проговорила Елена Леонтьевна. – Печальная царевна, что и говорить!
– Оставь этих русских! – страстно заговорила Нина. – От них мы никогда ничего не получим. Лучше же просить помощи у персов! Подожди… Ты думаешь, я не знаю, что наше посольство обнищало, все время давая этим жадным людям пеш-кеши? Разве я не знаю, что лучшие жемчуга ты заложила у еврея и послала этому ненасытному боярину?.. И что же? Ничего не выходит! Они нас исправно обирают и над нами же глумятся… Чего же еще ждать?
Царевна слушала ее молча, немного отвернув от нее лицо, по которому текли слезы.
– Но ты знаешь, – наконец произнесла она, – что скоро приезжает сам Теймураз.
– Зачем, зачем он едет сюда? – со стоном вырвалось у девушки.
– А куда ему преклонить свою седую голову? Ведь он всеми покинут… Где ему искать защиты, как не у русского царя? Мы ничего не сделали; может быть, ему посчастливится. Но, дитя, скажи, зачем ты занимаешься государственными делами? Твоей ли юной головке обсуждать такие вещи? Тебе только надо петь, плясать и веселиться, да еще любить…
На длинных ресницах княжны задрожали слезинки, и, чтобы скрыть их от царевны, она низко опустила голову.
– Вот видишь, дитя, тебя что-то другое гнетет, а не только наши печальные дела. Не за этим ты и ко мне шла. Скажи, Нина, будь со мною откровенна.
– Царевна, ты так внимательна ко всем нам… так заботишься о нас… Но некоторых из нас ты забываешь… Они делают что хотят, их страдания тебя не тревожат…
– Кто же это, Нина, кто? – с изумлением спросила Елена Леонтьевна.
– Леон Вахтангович, например. Посмотри, как он изменился, как исстрадался здесь.
– Дитя! – серьезно произнесла царевна. – А что тебе до страданий князя Джавахова? Да и разве кроме него все у нас счастливы?
– Леон… Леон – мой друг, товарищ моих детских игр, царевна, – не подымая глаз, ответила княжна.
– Друг, товарищ, и только?
Смуглое лицо княжны вспыхнуло, и она в смущении вертела в пальцах янтарные четки.
– Отвечай же, Нина! Ты заботишься о князе только потому, что он твой друг и товарищ детских игр? Ведь ты солгать мне не можешь? Да и не надо, твое смущение и румянец выдали мне твою тайну. Ты любишь его, да, я это вижу! Ну, что же, пусть это тебя не смущает, Нина. Ты молода, а это чувство присуще молодости. Я поговорю с ним…
– О царевна… Я не хотела этого; мне казалось… он грустит о ком-то другом…
– О ком же, как не о тебе? Ты такая скрытная!
– Нет, нет, причина его грусти – не я.
– О маленькая ревнивица! – засмеялась Елена Леонтьевна. – Ты хочешь послать меня на разведки? Ну, хорошо, я берусь за твое дело.
– О, как ты добра! – произнесла растроганная княжна, покрывая руки своей царственной подруги поцелуями.
– А чтобы не откладывать нашего дела, ступай поди позови князя Леона! Или пошли кого-нибудь за ним… Он дома?
– Дома, – тихо прошептала девушка. – Вчера он был во дворце, на пирушке у царя, и вернулся оттуда мрачнее черной тучи. Потом он опять вскоре вышел и… вернулся, чуть заалела на востоке заря. Я видела, какая страшная печаль светилась в его глазах, хотела утешить его, пошла ему навстречу, думала – он меня заметит и, как бывало прежде, ласково заговорит со мною. Но он прошел мимо, даже не взглянув на меня! – докончила княжна и заплакала.
– Полно, Нина, не плачь, он тебя просто не видел; дай же я поговорю с ним. Я уверена, что его глаза снова загорятся лаской и счастьем, а на твоих щеках снова вспыхнет румянец радости. А теперь ступай пошли кого-нибудь за князем, я же пока оденусь.
Девушка поспешно вышла, а царевна начала совершать свой туалет. Она была почти уже одета, когда в дверь постучали.
– Войдите, – ответила Елена Леонтьевна.
Леон вошел и поклонился, скрестив по тогдашнему обычаю на груди руки.
– Садись, князь, – указывая на тахту, проговорила царевна. – Я рада видеть тебя. Ты так редко стал бывать дома и показываться на мои глаза.
– Дела, царевна! – уклончиво ответил князь.
– Какие же – государственные или личные? – попробовала пошутить с ним Елена.
– И те и другие.
– Ну, хорошо. А кинжал свой нашел?
– Нашел. Вот он.
– Старый князь видел его?
– Нет еще! – смутившись, ответил юноша.
– Леон… могу я еще так звать тебя? – задушевным голосом спросила царевна.
– О царевна, – ответил растроганный молодой человек, – я всегда твой покорный раб!
– Ты стал грустен в последнее время, тебя что-то гнетет. Доверься же мне! Может быть, я помогу тебе, несмотря на всю свою слабость и незначительность при здешнем дворе!
– О, ты, конечно, можешь, если бы только захотела! – со вспыхнувшей надеждой в груди горячо произнес юноша. – Одно твое слово – и мою тоску как рукой снимет!
– Ну, так говори же скорей! Я произнесу это слово, от которого зависит превратить твою тоску в радость!
– О, как ты добра! – вскрикнул князь Леон и горячо поцеловал руки царевны. – Видишь ли, царевна, я полюбил одну девушку…
– Ну, в этом еще небольшое горе… Разве ты полагаешь, что она тебя не любит?
– Нет, в ее любви я уверен, но ее отец отказал мне, потому что я беден.
– Но и они небогаты, – ответила изумленная царевна, – едва хватит на выкуп за невесту. Но ты, значит, давно любишь ее? И еще до отъезда из Грузии говорил о том с князем?
– Не понимаю, царевна, о чем ты говоришь? Люблю я ее, правда, давно, зимой еще полюбил, а с князем говорил только вчера…
– Вчера? Но этого не может быть! – воскликнула царевна Елена. – Вчера ты не мог видеть князя.
– Я видел его на пиру у царя и говорил с ним. Он резко и обидно отказал мне. И нам осталось одно – умереть! – проговорил Леон, до боли закусывая губы.
– Постой, постой, – остановила его царевна. – Скажи мне, кто эта девушка? Наша она или…
– Она русская…
– Имя, имя ее?
– Но ты знаешь, – изумился Леон, – ты назвала ее отца князем. Это Ольга, княжна Пронская.
– Пронская? – широко раскрытыми глазами посмотрела на юношу царевна. – Пронская… ты любишь русскую… княжну Пронскую? – бессвязно повторила она.
– Тебя это огорчило, царевна? – грустно спросил Леон. – Да, вижу я, что над моей любовью нависло что-то роковое, как грозовая туча. Единственная надежда у нас осталась – ты, и вот эта надежда рушится.