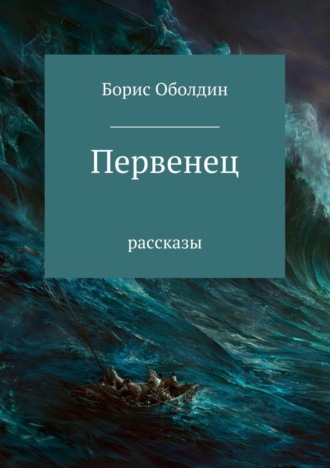 полная версия
полная версияПолная версия
Первенец. Сборник рассказов
Марширую я, а самого одна только мысль гложет – ну, если уж не судьба мне с нашими воссоединиться, то пусть, хотя бы встанет на пути какое – нибудь естественное препятствие, высотка мало-мальски подходящая или речушка, которую в брод не перейти, а только вплавь переплыть. Уж тогда, можно будет окопаться, дать немцам бой и жизнь свою за хорошую цену отдать. Да где же в Полесье высотку найти, а речки, хоть и попадаются, так мы их переходили, колен не замочив».
Генерал помолчал, помял сигарету. Закурил. Леха украдкой глянул на него и не узнал. Генерал был где-то далеко – далеко от сюда. Да и не генерал вовсе – лейтенант. Охрипший от ора и мата, оглохший от вчерашней контузии, полуослепший от бессонных ночей и яркого солнца, снующий от головы колонны в ее в конец и обратно, подбадривающий осевшим голосом бойцов («Подтянись, орлы! К своим идем!»), поправляя, сползающий на ухо, грязный бинт – лейтенант Калинин.
«Да… Ну, так вот. В четверг, после полудня, прямо на марше, устроил я перекличку, стал считать потери, записывать в записную книжку погибших. Оказалось, в живой силе «полк» мой даже прибавил. Где по двое, где по трое, а где и вовсе в одиночку прибивались к нам бойцы других подразделений. Из их рассказов получалось, что в радиусе пяти километров – мы самая крупная боеспособная войсковая единица. Так что, надеяться нам было не на кого, должны мы рассчитывать только на свои силы.
А был у меня один шустрый боец, сержант Федюнин. Знатный был воин, две солдатские «Славы» заслужил, живой остался и со мной до Берлина дошел. Вот его-то я и снарядил в разведку. Приказ один – двигаться на восток ускоренным маршем, к шести часам утра пятницы вернуться в подразделение с донесением об имеющихся на маршруте естественных препятствиях. А в пятницу утром накрыла нас фашистская артиллерия. Видать, в обозримых пяти верстах, мы действительно были самым приметным соединением и с воздуха хорошо просматривались. Авиация же и навела на нас артиллерию. Утюжили нас крепко. И стар, и мал – все маму родную вспоминали. После той бомбежки не досчитались мы пятидесяти шести бойцов. Светлая им память! Федюнин, хоть и припоздал, но данные принес обнадеживающие: в семи километрах на юго-восток протекает речка Колоть, шириной тридцать метров, западный берег пологий, восточный – на взгорке. Лучше и не придумаешь. Выделил я ему отделение из бойцов, кто покрепче и приказ отдал – выдвигаться спешным маршем к реке и начинать готовить плавсредства для раненых и неумеющих плавать. Остальные, хоть и шатались от усталости, но шагу тоже прибавили. Вскоре, еще одно обстоятельство проявилось – немцы нас донимать перестали. С одной стороны, вроде и хорошо, да чуял я, что неспроста это. А когда сообразил, в чем дело – уже поздно было. У немца-то карты добротные были, знал он про речку Колоть. Вот и решил он нас до берега допустить, а потом, не давая нам времени на переправу, прижать к воде, да возле воды разом с нами и покончить. Так оно и вышло. Едва к берегу подошли – они и затарахтели. Тут бы нам и конец – стали мы готовить себя к последнему бою».
Пауза. Что-то часто генерал курит. А ведь приказ ректора есть – курить в специально отведенных местах.
«Да. В ту памятную среду прибился к нам с двумя бойцами сержантик один. Из минометчиков. Как-то он мне сразу не понравился. От окружения спасается, а за собой на волокуше под брезентом какое-то барахло тянет. И у ребят его вещмешки оттянуты были не в меру. Принять-то я их принял, но приказал – барахло оставить. А когда фашистская бронетехника нас у воды донимать стала, этот сержант побежал к подводам. Были у нас две подводы для тяжелораненых. Без лошадей, правда. На солдатской тяге. Стал он раненых ребят шевелить, боль им доставлять. Ну, я и взбеленился. Взбеленился, да тут же и остыл. Он брезентуху свою из под раненых вытащил, а там оказалась плита минометная, да еще дышло ствольное. Ребята его из вещмешков стали поросят выкладывать – мины. Пять штук. Вот сержант мне и говорит: «Не дрейфь, лейтенант! Если заметил, дорога к берегу по оврагу проходит. Место узкое – там я их и запру. Час времени я тебе и без приказа обеспечу. А ты уж расстарайся – за этот час ребят на тот берег переправь.
Когда первая мина грохнула, некоторые из наших уже на середине реки были, и плоты с ранеными от берега отчаливали. Потом вторая мина, третья. Я вплавь уходил последним. Плыву, слышу, четвертая мина ухнула и сквозь трескотню немецких автоматов можно было различить аккуратные пощелкивания наших трехлинеек. Ребята позицию держат. Подплываю к берегу и вижу – бойцы мои и без команды уже окапываются по всем правилам фортификации. Зацепились мы на берегу той речки. Зацепились! Только вот, на западном берегу, трескотня прекратилась, а пятой мины я так и не услышал. Не было пятой мины.
А там уже и закат. Немец, на ночь глядя, рыпаться через речку не захотел, побоялся. К двадцати трем часам, у нас, на берегу той самой речки Колоти была уже настоящая оборона. После двадцати трех часов, проверив окопы, выставив караулы, назначив себя начкаром, дал я команду: «Отбой! Всем отбой до шести часов утра субботы!». Сам-то я все ходил по берегу – надеялся, что ушлый тот сержант со своими бойцами переправится к нам, на русский берег. Не переправился. Одна надежда – ушел другим маршрутом.
В четыре часа утра, поменяв часовых, пал я в траву, да и заснул, что называется, по богатырски. А в шесть часов утра ждал меня первый мой расстрел. В шесть часов утра прибыл на берег какой-то штабной майор и давай орать: «Какое подразделение? Кто старший?».
– Лейтенант Калинин.
– Где он?
– Спит.
– Как так? Немедленно ко мне!
И послал за лейтенантом Калининым своего капитана. Тот меня нашел. Будил-будил – да где там. Так он тогда что удумал – в ухо мне холодной воды налить. Ну, я спросонья-то ему и двинул, да снова спать завалился. Видать, хорошо я его припечатал. Бойцы мои меня все-таки подняли, предстал я перед этим майором. А он уже семерых моих солдатиков в расстрельную команду выделил, сам трясущейся рукой кобуру лапает: «За неподчинение… по законам военного времени… без суда и следствия… расстрелять!».
Эх, тут меня и понесло. В сердцах, закомкал я свою пилотку, да прямо в лицо ему и кинул: «Стреляй, крыса штабная, стреляй! Где ты был, когда мы от границы топали? Где ты был, когда мы у Березины стояли?». А он, только рукой махнул: «Дурак! Дурак ты и есть!». Потом, трясущейся, перебинтованной своей культей потянулся уже не к кобуре – к планшетке. Карту достал. Оказалось, что через речку переправились и окопались не мы одни. И слева, и справа от нас были вполне боеспособные батальоны. Каждый из них, в обороне запросто удержит вражеский полк. Мне предписывалось принять под командование мой батальон и к восьми ноль-ноль быть в обозначенной на карте точке.
Вот так и появилась линия фронта, появился штаб, появилась связь. И война уже другая пошла. Думаю, благодаря тем батальонам, немцы, при всей своей мощи, к Москве подобрались только лишь под зиму. А там уже и генерал Мороз русскому солдату подсобил. Для меня – Победа, на той речке Колоти и началась».
Пауза. Перемятая сигарета. Щелчок зажигалки.
– Ну, да мы, что-то отвлеклись. Доложите, товарищ курсант, как вы сами оцениваете свои знания.
– Неудовлетворительно, товарищ генерал – майор.
– Ваша самокритичность впечатляет, курсант Фролов. Приказываю вам, прибыть в расположение военной кафедры для повторной сдачи экзамена по тактике в понедельник, двадцать пятого августа к девяти ноль-ноль! Не сдадите – будете отчислены. И я позабочусь о том, что бы вы достойно прошли курс молодого бойца! На сегодня же, ваши трудности с деканатом, я возьму под свою ответственность. Вы свободны, курсант Фролов.
В зачетке, размашистой генеральской рукой было начертано – «уд». И подпись.
Буковки-то на бумагу переносить я умею.
ВАНЯ
Пробуждение. Каким оно было прекрасным! Таким прекрасным, каким оно бывает только тогда, когда тебе от роду целых шесть недель. Еще смежены веки, еще пребывает в сладких объятиях безмятежности крохотная, хрупкая плоть, но уже кто-то щекочет ресницы и ноздри, легонько пощипывает щеки – пробуждайся, дитя, мы все тебя ждем!
Сейчас – сейчас. Нужно только сделать большой вдох и можно открывать глаза. Ах, это ты, Солнце! Это ты так ласково щекочешь ресницы! А еще есть Небо, наполненное до краев прозрачным воздухом, насквозь пронизанное неописуемой голубизной. Это оно, Небо, легким морозцем пощипывает щеки. Еще! Я хочу еще! А кто это такой огромный, разноцветный, такой теплый и такой ласковый – ласковый? Это ты, Мир! Ты есть! А я? Я тоже есть? Я тоже есть! Надо поскорей заявить о себе. Звук.., крик.., сладчайшая музыка детского агукания, без которой вся гармония Мира несовершенна, убога. И Мир внимает этой музыке, отвечает ей нескончаемой игрой света, безудержным оркестром звуков и запахов. О, это великие мгновения. Вот сейчас, в эти мгновения, рождается удивительная симфония, самая прекрасная симфония Вселенной – Жизнь! И быть той Жизни вечной. Порукой тому – Ангел Небесный. Это Он стоит у изголовья, тихо улыбается и протягивает прекрасную ладонь, от которой исходит сияние, мягкое и теплое, как молоко матери. Да ведь Он любуется мной! Наверное, это Он подарил мне этот Мир! А, может быть, я и есть подарок этому Миру? И, вдруг, проникает в это, еще только – только пробуждающееся сознание ощущение собственной значимости и от того наверное еще старательней звенят младенческие рулады, настойчиво призывая к себе мать. Мать, простоволосая, в наспех наброшенной на плечи душегрейке, истомившаяся от ожидания встречи, с сияющими глазами, уже спешит, спешит: «Ванечка, Ванюша, дитятко мое ненаглядное…». Вот оно, долгожданное прикосновение самых ласковых, самых надежных, самых нужных рук на свете. Материнские руки проворно проникают под одеяльце, под пеленки, касаются тугой и гладкой попки – сухо.
– Что же ты кричишь, мой маленький? У нас с тобой все хорошо.
И надо бы идти в тепло – уже пора, уже изнывает грудь в сладком предчувствии предстоящего кормления, уже пронизывает материнское тело нетерпеливое желание прижать к себе этот теплый комочек, столь прекрасный в своей малости и незащищенности. И надо бы идти, да уж больно хорош мартовский полдень. Внезапно, неожиданно для самой себя, повинуясь какому – то озорному чувству, женщина расстегивает кофту, блузку и тут же чувствует, как властно и требовательно теребят маленькие десенки сосок. Мать прикрывает глаза и тихо – тихо смеется. Счастье, простое женское счастье, столь долго обходившее ее стороной, обретало зримые черты в ее младенце.
– Вы слышали, коллега? Гитлер аннексировал Судетскую область. Каково? Бедная, бедная Чехословакия.
– Гитлер? А кто это?
Александр Флеминг очнулся, встряхнул головой, энергично потер виски, как бы заталкивая цифры, формулы, диаграммы вглубь себя: «Ах, да. Это же германский то ли президент, то ли премьер – министр».
– Канцлер – мягко поправил профессор Ройс.
Флеминг виновато улыбнулся, извиняясь за столь вопиющую неосведомленность в вопросах политики.
«Самое печальное – продолжал профессор Ройс – это то, что наш лорд Чемберлен и француз Даладье поставили свои подписи под актом об аннексии. О чем они думают? Сначала Австрия, теперь Чехословакия.… Не нравится мне все это».
– Да, да. Все это весьма печально… – как-то отрешенно произнес Флеминг.
Он уже вновь погрузился в свои мысли.
«В конце концов, по большому счету, мне нет ни какого дела, ни до Гитлера, ни до Чемберлена. Я в этом ни чего не понимаю, да и не желаю понимать. Я микробиолог, и я хочу, чтобы мне не мешали работать. До сегодняшнего дня это было возможно и будет возможно впредь», – так хотелось ему думать. Однако, в глубине души он сознавал, что лукавит перед самим собой, уподобляясь тому страусу, который, зарыв голову в песок, считает, что отгородился от всего и вся. Даже здесь, в Лондоне, проводя по шестнадцать часов в сутки в лаборатории, оставляя себе время только для сна, профессор чувствовал, что в Европе что-то происходит, какая-то скрытая угроза висела в воздухе. Он вдруг вспомнил, что уже больше года нет сообщений от Герхарда Домагка, блестящего немецкого биохимика, ученого с мировым именем. И это, не смотря на то, что ему регулярно отсылались академические бюллетени и протоколы заседаний научных обществ, членом которых он состоял. Зато в Лондоне появилось много эмигрантов из Германии: музыкантов, врачей, ученых – главным образом евреев. Припомнилось и то, что в научные лаборатории стали поступать военные заказы, некоторые из которых были весьма сомнительного свойства, не говоря уже о назойливости самих представителей военных ведомств. Из фактов, на которые он не обращал ранее внимания и не связывал их ни с какими событиями, натренированный мозг ученого услужливо выстроил стройную цепочку причин и следствий.
«А ведь прав Ройс. Похоже, скоро надо ожидать большую европейскую драку. Как это все некстати, не вовремя».
Вчера Александр Флеминг закончил серию экспериментов с полученным им биологически активным веществом, а сегодня он уже точно знал, что стоит на пороге открытия. На пороге… Легко сказать! Для того, чтобы перешагнуть этот порог, понадобится еще года два-три титанического, всепоглощающего труда и совершенно недопустимо, чтобы какие-то внешние обстоятельства помешали бы ему завершить однажды начатую работу.
Он шел к этому дню долгие шестнадцать лет. Шестнадцать лет назад, молодой ассистент кафедры микробиологии Пастеровского института Александр Флеминг сделал свой выбор – он будет бороться с инфекциями. Он даже знал, по какому пути он пойдет. Нет-нет, не будет ни каких опытов с химическими препаратами, ни какой химиотерапии. Его концепция основывалась на тривиальном научном факте – различные микроорганизмы, находясь в одной питательной среде, взаимодействуют друг с другом и каждый выделяет какие-то вещества, которые стремятся подавить «соседей». Факт этот был известен давно, но, поскольку, ни кому не было ясно, что это за вещества и как их использовать, интерес к ним угас. Для молодого ученого, к тому же прекрасного препаратора, самоуверенного, полного сил и надежд, открывалась ни кем не тронутая целина, густо поросшая хаосом разрозненных фактов, догадок, просто домыслов, с редкими былинками экспериментов. И он готов был поднять эту целину. Нужно только выделить эти вещества, очистить их от всякого рода примесей и определить, какой вид болезнетворных бактерий они подавляют. Тогда ему казалось, что это несложно. Однако, на получение первых обнадеживающих результатов ушло четыре года. Ему удалось – таки выделить из слезной жидкости некий фермент, который разрушал микроорганизмы. Флеминг назвал его фермент лизоцима. Препарат был рекомендован для клинических испытаний, к молодому ученому пришла первая известность, в научных журналах стали появляться его статьи, он стал членом нескольких научных обществ. Жизнь покатилась по новым рельсам. Но, вскоре, похвальные отзывы о препарате стали вызывать в нем глухое раздражение. Что-то было не так, какое-то смутное недовольство собой, неясные сомнения не покидали ученого до тех пор, пока он не понял, в чем дело. Как ни горько было сознавать свои заблуждения, но все-таки Флеминг, собравшись с духом, признался самому себе: полученный им препарат навсегда останется препаратом и не более того. Как лекарство он никуда не годится. Фермент лизоцима оказался слишком неустойчивым соединением, очень недолговечным, а его действие в клинических условиях было избирательным. Одним оно помогало, другим нет. Были даже зарегистрированы случаи обратного эффекта, когда больному становилось только хуже. Однажды выбранный им путь привел его в тупик. Нужно было возвращаться к самому началу. Странно, но осознав это, Флеминг почувствовал огромное облегчение. Он вновь ощутил под ногами твердую почву, жизнь вновь обрела смысл. Впереди его снова ждали долгие месяцы, годы кропотливой, рутинной работы без каких-либо гарантий на успех. Да, месяцы и годы, за которыми сотни, тысячи экспериментов, тысячи и десятки тысяч препарированных штаммов с различными микроорганизмами.
Собственно, время перестало для него существовать. Зато, существовали эти самые штаммы, опыты с грызунами, эксперименты в различных питательных средах – в какой-то момент счет им перевалил за тысячу, потом за две, за три.… Вряд ли в Европе был второй такой искусный экспериментатор. Ему казалось, что он знает о бактериях все. В его руках теперь был колоссальный статистический материал – плод его трудов. Не было только одного – результата. Если он и не впал в отчаяние, то только по одной причине – в нем жила глубокая вера в то, что миром управляют, в сущности, простые законы. Чем величественнее закон природы, когда либо открытый человеком, тем проще его описание, укладывающееся порой в одну строчку, в одну простую формулу. Профессор Флеминг продолжал работать.
Случай, Его Величество Случай – суть сама капризность, к тому же большой шутник, имеет, однако, одну тайную слабость. Слабость эта – благоволение к людям настойчивым, упертым до настырности. Высмотрит очередного охотника за удачей и перво-наперво явит ему пред ясные очи мираж близкой победы и водит, водит его, то в одну сторону, то в другую, забавляется. Иной, кто по азартней, так за пустышкой и гоняется – то вправо, то влево, пока не начнет спотыкаться, а потом и вовсе бросит свою затею, посчитав ее безнадежной. Редкий соискатель предпочтет, обнаружив подвох, отказаться от легкой удачи, вернуться назад и, шаг за шагом, медленно, но верно двигаться вперед, иногда уже и без надежды на успех, а преследуя одну единственную цель – просто пройти этот путь до конца. Вот тут-то и явит благословенный Случай свое благоволение, подбросит желаемое под самые ноги, едва прикрыв его грязной рогожкой, и смеется, радуется своей проказе.
Флеминг был из тех, кто предпочитал возвращаться к началу пути. Сейчас он уже не помнил тысяче – какой по счету был тот приснопамятный штамм культивированных бактерий стафилококка. Сняв стеклянную крышку и взглянув на выращенную культуру, он испытал легкую досаду – штамм был безнадежно испорчен. Будучи препарированным чьими– то небрежными руками, он был загрязнен какой-то другой культурой и теперь был весь покрыт зелеными оспинами плесени. Повинуясь не столько интуиции, сколько годами выработанной привычке исследовать любую культуру, даже неудачно препарированную, Флеминг произвел вытяжку полученной субстанции и поместил ее под микроскоп. Взглянув в окуляр, он подумал, что что-то перепутал – настолько неожиданным было увиденное. Все, все до единой бактерии стафилококка погибли. Еще одна вытяжка – результат тот же. Схема дальнейших действий была простой – нужно культивировать не бактерии, а плесень и попытаться исследовать выделяемое ей вещество. Вот когда ему пригодился многолетний опыт экспериментатора – он в совершенстве владел тонким искусством отделять от живой микроорганической субстанции вещества, продукты ее жизнедеятельности. Скоро, очень скоро, через каких нибудь шесть недель упорных экспериментов им было установлено, что зеленая плесень, помещенная в жидкую питательную среду, уже через два часа начинает выделять крайне сильнодействующее вещество, уничтожающее микробов даже при очень низкой концентрации. И это вещество, пускай еще сильно загрязненное побочными продуктами, было у него в руках. Даже в таком виде оно представляло собой роскошный подарок судьбы, на манер того алмаза, только что извлеченного из земных недр, тусклого, испачканного кимберлитовой породой, с неровными, грубыми гранями, которому после очистки, огранки, шлифовки предстояло стать сверкающим бриллиантом.
Было еще одно обстоятельство, которое заставляло Флеминга полностью переключиться на исследование нового препарата. Это обстоятельство – совершенная его непохожесть на все, ранее известные вещества, получаемые из микробиологических культур. Интуиция подсказывала ему, что за этой непохожестью кроются какие-то новые, не раскрытые пока, свойства, а, следовательно, и новые возможности. Вскоре выяснилось, что новый препарат достаточно долго сохраняет антибактериальные свойства в слабом растворе натриевой соли. Начались попытки его практического применения. Активный раствор опробовали в местном госпитале для очистки ран и довольно успешно. Теперь «раствором Флеминга» пользовались во всех британских клиниках.
Впрочем, термин «раствор Флеминга», возникший как бы сам – собой, исподволь, продержался недолго. Вскоре профессор опубликовал статью об открытом им препарате, описал его уникальные антибактериальные свойства и, в соответствии со сложившейся традицией, назвал его пенициллином – по наименованию выделяющего его организма, той самой зеленой плесени – пенициллиума.
Пенициллин быстро набирал популярность и вполне оправданно – раствор был наредкость удачным открытием. Будучи беспощадным к бактериям, он как-то по особому чувствительно относился к живым клеткам организма, не разрушая тканей и не раздражая нервных окончаний, облегчая тем самым страдания и способствуя быстрому заживлению ран.
И все – таки, самое поразительное его свойство обнаружилось гораздо позже. Два месяца назад Флеминг ввел пенициллин непосредственно в организм подопытных мышей и через сутки произвел анализ крови. Такого еще не было – пенициллин абсолютно не затрагивал белых кровяных телец, крайне чувствительных к любым внешним раздражителям, первыми вступавших в борьбу с инородными организмами и погибавшие первыми же при малейшей инфекции. Еще через сутки профессор Флеминг начал новую серию экспериментов с пенициллином. Он ввел мышам стрептококки в дозе, в десять раз превышающей смертельную, а спустя два часа некоторым из зараженных животных сделал инъекцию пенициллина. Через четыре дня инфекция полностью уничтожила контрольную группу животных, а мыши, которым был введен пенициллин, выздоровели. Трижды Флеминг повторил эксперимент – результат был неизменным. Животные, которым вводили пенициллин, выздоравливали. Это была настоящая большая победа. Если удастся вывести препарат из рамок лаборатории, научиться получать чистый пенициллин в достаточно больших количествах, то это будет означать вступление медицины в новую эпоху. Для этого надо всего-то два – три года.
«Если не помешает война».– в какой уже раз подумал ученый.
Сейчас он сидел у себя в кабинете, перед ним лежало письмо из Оксфорда от его американских коллег Эрнста Чейна и Говарда Флори. Со времен совместной работы над ферментом лизоцима их связывали теплые, почти дружеские отношения. Чейн и Флори сообщали о своих попытках очистить пенициллин, которые пока были неудачными. Далее они предлагали проводить исследования совместно с лабораторией Флеминга и просили прислать последние образцы раствора пенициллина.
Флеминг не кривил душой, когда думал о том, что и Флори, и Чейн уступали ему как микробиологи. Наверное, это было правдой, как правдой было и то, что и Флори, и Чейн были биохимиками Божьей милостью. Если еще принять в расчет их, чисто американскую, предприимчивость, умение работать в команде единомышленников, чего не доставало Флемингу, экспериментатору – одиночке, то выходило, что у возможного альянса «Флеминг – Чейн – Флори» были самые предпочтительные шансы в кратчайшие сроки получить чистый пенициллин и отработать его промышленную технологию.
«Надо соглашаться», – приняв такое решение, ученый больше уже не колебался и не откладывал его воплощение на завтра.
Достав бумагу, авторучку он тут же стал набрасывать письмо американским коллегам.
1943 год, май
Радости не было, равно, как не было чувства удовлетворения от проделанной работы. Удовлетворение, радость от полученных результатов многолетнего труда, придет позже. А сегодня, когда стало ясно, что завтра уже не надо будет решать очередной ребус, преподнесенный пенициллином, на профессора Флеминга навалилась страшная, звенящая пустота. Наверное, это и было то, что люди называют усталостью, которую он ранее никогда не замечал, как, впрочем, не замечал и простых житейских радостей, будь то глоток хорошего вина или прикосновение любящих женских рук, наконец простое общение с природой. Все это, конечно, присутствовало в его жизни, но как-то опосредовано. Научные исследования поглощали его целиком.
И вот теперь он стоял на взлетной полосе американской авиабазы Дэвис Монтан и, словно впервые, вглядывался в утреннее небо. Вслушивался в щебетание ранних птах, втягивал ноздрями запах трав и чувствовал себя инопланетянином, Бог весть какими путями занесенным на эту странную планету, о которой он так мало знал, на которой всем было хорошо: и гренландскому эскимосу, и французскому виноделу, и каннибалу из Новой Гвинеи – всем, кто, однажды придя в этот мир, принял его таким, какой он есть, не пытаясь изменить его, а, значит, не пытаясь изменить себя.
Где-то далеко – далеко, на обратной стороне этой планеты, была его родная Британия и где-то там, далеко полыхала страшная война. Ее пожаром была охвачена вся Европа. Немцы бомбили Лондон, бомбежками был стерт с лица земли город Ковентри, была повержена Франция. Казалось, весь мир сошел с ума.



