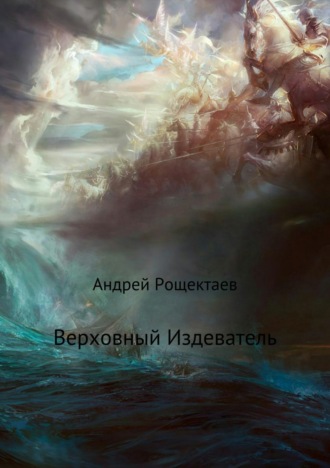 полная версия
полная версияПолная версия
Верховный Издеватель
– Анархисты вы, что ли, что так государство ругаете? – усмехнулась соседка по палате.
– Не-ет, это у нас не анархизм! – за себя и за Марину задорно ответил Кирилл, чувствуя полное родство с ней. – Анархисты говорят: Государство – это зло, поэтому его надо уничтожить. А либералы говорят: Государство – это неизбежное зло, поэтому уничтожать его никак нельзя, но ограничить можно. А раз можно, значит – нужно. Нужно, чтоб было как можно меньше сфер жизни, куда оно имело бы право лезть. Как говорится: "Самое лучшее правительство – то, которого не замечают". В частную жизнь не пускать его вообще! В этом либеральный взгляд стопроцентно схож с духовным, хотя во всём остальном они могут сильно расходиться. Потому что либерализм – это всё-таки учение о земной свободе. А уж кто как земной свободой воспользуется в духовном смысле – это опять-таки личное дело каждого. То есть либерализм сам по себе не плох и не хорош. Либерализм в одном человеке Божий, в другом бесовский. Зато гипертрофированное Государство – плохо в любом случае, без исключений! Государство не может основываться на любви… стало быть, государства не должно быть много. Пусть оно, сколько может, мешает творить зло и произвол, но и само будет недостаточно сильным, чтобы творить зло и произвол. Где-то между анархией и монархией есть золотая середина. Назовите её как хотите: не нравится опошлённое в последние года слово "либерализм" – придумайте какое-нибудь другое название! "Не мешающее государство", что ли? Как бы сделать так, чтоб оно не лезло к нам в душу, знало своё место. "Место, Государство! Ну-ка место!" – как собачке. Государство, не знающее своего места – худшее из всех зол, какие только могут быть.
"Но если столько в нашей жизни самозванного, ненастоящего, откуда ж берутся в ней настоящие люди? – в ту же секунду подумал Кирилл. – Матери, братья, сёстры? Самая главная тайна человеческих отношений: как среди всей этой казёнщины неродные люди вдруг становятся родными(1). В этом – всё!
Нужно время? Да нет, необязательно. Один день, – вот такой, как сегодня, – может значить больше, чем три года.
Нужна сильная встряска? Тоже необязательно. К счастью, не все родные люди и не всегда попадают в катастрофу. Нужен… не что, а Кто: Тот, Кто объединит. Тот, Кто вместе усыновит. Когда мы в Нём, то человек человеку – радость. "Христос воскресе, радость моя!" – как говорил Серафим Саровский. Одной фразой все тайны выдал.
Со светлым человеком и рядом-то находиться светло. Большинство верит в Бога, но верят Богу единицы. Марина, кажется, тот человек, который именно верит Ему! Вот странное ощущение "трансляции счастья": стоит только "попасть на волну" человека, как ты уже чувствуешь то же, что и он. Оказывается, счастливые в Боге люди выполняют прямо-таки величайшую миссию одним своим существованием! Мы ими впитываем счастье. Они – тот орган человечества, которым мы общаемся с настоящим Царём.
– Я вот всегда немножко удивлялся: как это вы из Петербурга – да к нам переехали? – признался вдруг Кирилл.
– Как это меня угораздило? – весело перевела Марина. – Ну, во-первых, врачи велели – прям строго-настрого приказали. Климат, оказалось, категорически противопоказан. Да и недолго я там прожила. На историческую родину вернулась. Рома у меня уже в нашем * родился. А то, что с Русским музеем рассталась?.. Но… в общем-то, для меня теперь Русский музей – это вся Россия. И сами мы – музейные экспонаты.
– Да уж, особенно здесь! – хмыкнул Кирилл, обводя глазами экспозиционный зал палаты. И задним числом вдруг страшно обрадовался – что когда-то, давным-давно, Марина переехала. А иначе… иначе ведь всего этого бы не было: просто страшно представить! Ничего бы не было! И его счастливого отца, и их семьи… ну, и аварии бы тоже не было? а может, и была бы… Но только сейчас даже это уже не важно!
"Беда", оказывается – самый прочный сорт цемента. Если уж она связала людей, эта связка сильнее любой радости. Всё сложилось. И авария – кирпичик.
– Ой, Кирилл! – прервалась вдруг Марина, резко приподнявшись-присев в кровати. – Посмотри-ка в окно!
– Вот это да-а! – вырвалось у Кирилла, когда он выглянул.
Небо нависло свинцовое, чуть ли не чёрное. Но под тучей по земле сеялся такой контрастный свет, что буквально ломило глаза. Деревья, дома, стёкла, улицы… всё превратилось в какой-то "Лориэн", как тут же назвал внутри себя Кирилл; мерцающий город-лес.
– Я по-онял! – воскликнул он. – Тучу пригнали для того, чтоб всё, что под ней, светилось!
"Беда – для того, чтоб вся жизнь по контрасту с ней светилась в полную силу. И ведь за каждым мрачным событием или мрачным периодом приходит свет. Становится не то что хорошо, а лучше, чем было! Что годами не решалось – разрешается. Что не клеилось – склеивается. В общем, сдал экзамен – и поступил из школы в ВУЗ. Из ВУЗа в аспирантуру. В нашей жизни – не "искушения" (очень не люблю почему-то это слово: не к месту его употребляют!), в нашей жизни – экзамены".
Нищее небо, в рванине, склонилось над землёй. За лето оно обанкротилось… но ведь это было всего-навсего земное небо, а ему свойственно рано или поздно разоряться: уж теперь-то Кирилл это знал. Какая-то мелочь – редкие проблески солнца, – сквозила в дырявых карманах. "Этот август – бомж наших земных надежд! У нас ничего больше нет! Мы просто живы и всё, и… как говорится – блаженны нищие духом. Господи, да от какого же количества дребедени я за несколько дней освободился!"
Вторая половина лета – это долго стоявший букет. Слишком долго, в уже заплесневелой воде. Вазу пора освобождать, воду выливать – оттого и дожди. Скоро всё бывшее красивое кончится. Бывшему нет места. Кажется, настоящее начинается.
Осень рвала небо в клочья, сдирала старые обои. Начинался очередной долгий ремонт мира… а чем он закончится – как всегда, время покажет. Или – как всегда, не покажет.
– Ты как себя чувствуешь? – вдруг чуть встревоженно спросила Марина, видя, что Кирилл как-то побледнел, глядя в окно.
– Чувствую себя… Диогеном, который наконец-то нашёл человека.
Вернувшись в свою палату, Кирилл долго обдумывал прошедшую Встречу: и книгу, и разговор… да нет, не книгу – Человека, который ему открылся. Он как-то совершенно непроизвольно сравнивал её с теми женщинами и девушками, с которыми прежде общался и… честно говоря, не находил аналогов. В фильме "Про Красную Шапочку" есть замечательный диалог с избалованным человеческим детёнышем:
– Я ребёнок! – с вызовом говорит ребёнок.
– Не говори глупостей! Ты человек! – веско возражает Красная Шапочка.
И вот когда некоторые кумушки говорят:
"Я же – жже-енщина!" – так и хочется твёрдо отрезать словами из этого фильма: "Нет! Ты – человек".
Марине этого не надо было говорить – она сама это говорила. Наверное, именно такого человека искал и не находил Кирилл. Не находил как раз в тех, кого "находил"! Ему совсем не нравилось чьё-то право низвести себя до уровня курицы, оправдывая это словом-заклинанием "женщина". Когда видишь настоящую Женщину, Мать, которая свою слабость не оправдывает, ставишь под сомнение это право и для других.
"Катастрофа обнажила в нас человечность: не "женскость", не "детскость", а именно человечность. Меру того, кто мы есть. Эх, если я хоть когда-нибудь всё-таки найду женщину, как бы я хотел, чтоб она была… как Марина!"
Начало её имени было – как у слова "мама", и Кириллу порой казалось, что он как-нибудь нечаянно оговорится.
Одна катастрофа мать отняла, другая… – подарила?
"И последние станут первыми, и неродные станут родными! Вот оно – Писание всей нашей жизни: права Марина, жизнь – это та же Библия".
(1). Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной (Мк. 10, 29-30).
2. Выписка
Дай мне оправдать Твою безжалостную милость,
верными аккордами подыскать ключи
в Сад, где все начала, все концы, куда стремились
мы, когда нас резали и штопали врачи.
Ю. Шевчук
I.
Больница, помимо прочего, подавляет ещё и тем, что у тебя нет в ней своего уголка. Ты весь на виду. Тебя видят и слышат, ты видишь и слышишь.
Больные курили в форточку, и казалось, продолжение сигаретного дыма порождало за окном ворон. Крапал очередной августовский дождик. Воздух был сырой, а надсадное карканье делало его ещё сырее. "Ворона, сыр, сырость… – вечная русская ассоциация. Крылатый Крылов… Интересно, лежал ли Крылов когда-нибудь в больнице? А впрочем, нет, не интересно. Сейчас уже ничего не интересно, кроме выписки".
Вороны – какие-то осипшие, словно пропили свой голос. Сообщают глупому миру в который раз важное откровение. Скорее всего что-то вроде: "мы существуем! э-эй, мы есть! вы ещё не поняли!?" Но миру, похоже, было одинаково наплевать что на ворон, что на людей.
Солнце невидимым пальцем провертело крохотную дырку в пелене облаков и прильнуло к ней глазом: лучистый зрачок в сотни раз меньше самого солнца странной искрой глянул в сумеречный мир. И спрятался опять.
Забинтованное, загипсованное небо.
Только человек способен одушевлять мир по аналогии с собой да ещё и делегировать ему своё настроение. Мы – по-прежнему Адам, только "со сбившейся программой": даём всему имена, выражающие самую суть… но, раз программа сбилась, "суть" теперь тоже выходит какой-то странной, зависящей только от наших очередных болячек.
Жизнь в палате текла размеренно. Весёлая жизнь – весёлые разговоры! Делились диагнозами, рассказывали об интересных процедурах: клизмах, зондировании, пересадках кожи, ампутациях…
"Больница – это такой добрый, гуманный, деликатный ад. Всё эстетично и технологично, все в белом, а не в чёрном, мучения – не "мучения", а "лечение". Добрые и совсем не страшные медсёстры утешают грешников перед процедурами. Белые одежды – чёрный только юмор". Раз как-то у "бывалых" больных вышла дискуссия, где лучше-хуже: в травматологии, онкологии, или в ожоговом центре? "Вот ведь проблема-то!" – лежал-слушал Кирилл: что ж делать, уши-то не заткнёшь. Наконец, после долгих споров и основательных аргументов, сошлись на том, что всё это ещё куда ни шло, а вот круче всего… в психбольнице.
"Логично! – мысленно согласился Кирилл. – Надеюсь, после такой травмы головы я туда не загремлю? Вот ни в чём, оказывается, нельзя быть уверенным. К традиционному "от тюрьмы да от сумы…" по справедливости давно уже надо бы добавить "и от психушки". Это уже классика!"
– Да что нам теперь психбольница! – усмехнулся Борис. – У нас здесь и так пациент лежал – век не забудем! Слава Богу, вчера выписали. Спасибо хоть на том.
– Да-а, у Ильи… у того, похоже, тараканы кру-упные, породистые! – согласился другой сосед.
"Хорошо ещё, что есть защитные эвфемизмы, – подумал Кирилл. – Живут в людях… к сожалению, не тараканы! Будем надеяться, что хоть уползли вместе с ним?.. (действительно, как сказано: "спасибо хоть на том!")
– А вот я специально посмотрел статистику, – сказал вдруг Борис. – В России ведь только за последний год в автокатастрофах погибло 27 тысяч человек. В 9 раз больше, чем, например, в Германии. Выходит, на нашу долю выпало 2 смерти из 27 тысяч. А ты говоришь, что это так странно, так "невозможно" – то, что с нами произошло. Да мы просто один раз "попали в статистику" и всё. В электорат партии "Мёртвая Россия".
– Да нет, я говорил только: очень странно, что это произошло с паломниками! – возразил Кирилл. – Что именно во время паломничества…
– Да-а уж, обленились мы, – невесело усмехнулся Борис. – Раньше-то, наоборот, любое паломничество было сопряжено со страшным риском. Сам же знаешь! Всякое дальнее богомолье в Средние века заранее подразумевало, что, отправляясь к Богу, ты можешь с Богом запросто и встретиться – лицом к лицу. Паломничество было путём на Голгофу… не только в географическом смысле. Это мы в наше время привыкли к комфортному посещению святых мест. Хотя и сейчас, как видишь, Господь иногда делает исключения. В Израиле однажды – вроде, года два-три тому… – сорвался в пропасть автобус с паломниками. Кажется, что-то подобное бывало и в Греции…
– Но то всё-таки – горные страны, – опять чуть-чуть возразил Кирилл. – Со сложным серпантином дорог, с повышенным риском. А внутри-то России с паломниками до сих пор редко случались трагедии (если вообще случались?). Так что, как ни крути, нашу катастрофу, 10 августа 2014 года, можно назвать почти историческим событием. Даже как-то неудивительно, что оно случилось именно в этом году. Чтобы сумасшедшее событие произошло, нужен сумасшедший фон. Вот как вы только что говорили про психбольницу. У нас же истерия всеобщей ненависти создала одну большую психбольницу. Невозможное стало возможным. Это уж, видимо, духовный закон: чем больше в мире ненависти – тем больше мучеников. Тем больше невинных людей "случайно" идут за Христом на свою Голгофу. Вспомните хотя бы новомучеников Оптиной пустыни – и зашкаливающую ненависть 1993 года. Армяно-азербайджанский конфликт – и Спитакское землетрясение 1988-го. А страшная эпидемия "испанки" в связи с первой мировой войной!..
И пока Кирилл говорил, странное, но несомненное чувство, что чем хуже сейчас, тем лучше будет, охватило его. Прекрасно, что обстоятельства обложили нас со всех сторон!
Как в старинном английском анекдоте. Адъютант подбегает к генералу:
– Милорд, нас полностью окружили.
– Превосходно! Теперь мы можем наступать в любую сторону!
Оказывается, пребывание человека в одном месте, внешне в абсолютном покое, нисколько не снижает скорости событий. Автобус мчался, а больничная койка стоит – но разве это критерий подлинного движения! Сколько ж всего свершилось за эти дни! Целую "дополнительную" жизнь прожил.
А главное… пробуждение состоялось! Как спасаться, если ты всё время спишь? Ведь спящие друг для друга не существуют. Как там "Чайф" поёт:
Сейчас со всей мочи завою с тоски…
Никто не услышит!
И правда – никто. Хоть вой, хоть кричи. Громче крикнешь – только за сумасшедшего сойдёшь. Аварии, они – как болезни: бывают острые и хронические. У нас была острая. А чаще бывает так, что вся жизнь – хроническая авария.
Зато теперь прошла операция по раскрытию людей друг для друга. Мы хоть на время да стали родными. С ума сойти! Я же был одинок даже (!) рядом с Ромкой… а теперь увидел его, увидел Марину. Я же их не видел. Не слышал. То ли меня не было, то ли их… но скорее – меня. Они появились со мной, а я с ними. Я же их впустил в свой мир только когда нас вместе могло не стать. Человек появляется под угрозой исчезновения? Мир расщепляется, чтобы мы соединялись? Тогда не жаль переломов… если из-за них душа срастается.
Люди часто просят у Бога чуда, но не понимают, что чудо – это иногда больно. Даже очень! Получается, это не авария – это духовная скорая помощь к нам приехала.
Человек XXI века – такой "головастик". И удар с Небес по голове – уж не медицинская ли попытка вернуть всё на место: сделать его снова человеком? Без гипертрофированной "думалки" – с нормальными мыслями и чувствами.
От "Слава Богу" плохое превращается в хорошее. В этом смысле, каждый из нас может стать в своей жизни чудотворцем. Говорят, счастливым человек считает себя только задним числом, в прошедшем времени. А здесь-и-сейчас оно пушинкой пролетает мимо сознания. Зато у проснувшегося появляются моменты осознанного счастья. Они-то и называются "Слава Богу".
Благодарение – это моменты, если угодно, осязания счастья. Такого, про которое можно сказать, есть, а не задним числом – "было". Бог – "Аз есмь" и счастье в Нём – "есмь". Всегда! Счастье становится ярче, полнее, осознанней, когда за него благодаришь. Благодарение – это жизнь счастья. Без благодарения оно – выкидыш мертворождённого, а с благодарением – Рождество.
Через пару дней Кирилл выписался, но… жил по-прежнему в больнице. Только другой, детской. Дежурил у постели братишки. Вот и вторая койка в палате пригодилась.
– Ну, как у тебя теперь, голова больше не болит? – справился о здоровье Ромка, когда Кирилл впервые пришёл к нему в новом статусе: "здоровый".
– Не-е, голова уже не болит, – усмехнулся Кирилл. – Нога как будто болит… наверное, ты меня заразил.
– Хм, зараза я! – хитро прищурился Ромка.
Кажется, он всё понял. Чего ж тут непонятного: когда много думаешь о близком человеке, начинаешь чуточку "болеть" тем же, чем и он. С нетерпением ждёшь общего с ним выздоровления. Выздоровление – мистический рубеж в нашей жизни: слабенький, но максимально доступный намёк на Воскресение.
– Выздоравливаешь – прямо как будто важную работу какую-то делаешь, – делился Ромка. – Весь такой занятой! Ждёшь результат… это как в школе по контрольной, только важнее! И все от тебя чего-то ждут, все надеются. И самому уже охота быстрей с себя работу свалить. И вообще свалить… в смысле, на улицу. Как в поговорке: сделал дело – гуляй смело! Пора уж, пора пятёрку по жизни получить! По уроку, который называется "жизнь".
– А как её получить?
– Ну, это уж кому как – у каждого, наверное, свой рецепт.
– Да-а… а у меня пока, пожалуй что, троячок с минусом.
– Ну-у… что так пессимистично! – как взрослый, протянул Ромка и по-своему фирменно прищурился одним глазом. – Не забывай – ты мой старший брат! С кого ж мне пример брать! Ты будешь плохо учиться – глядишь, у меня успеваемость понизится. Так что ты это, того… давай!
Пришла как-то ромина бабушка и что-то расчувствовалась:
– Бедный… – погладила она его.
– Не, бабуль, я не бедный, я богатый! – мигом отшутился Ромка.
– Ты всегда такой весёлый? – спросил Кирилл.
– Жизнь учит быть весёлым! – афористично выразился Ромка.
Да уж. Говорят, когда во времена Орды баскаки обирали народ, у них была своеобразная "тонкая" психология. Если человек кричал, что у него ничего больше нет, плакал, умолял, божился, его сильнее пытали: значит, точно что-то прячет – с чем особенно боится расставаться. Если же человек в ответ на требования только смеялся (а видимо, бывали и такие!), его оставляли в покое и уходили. Потому что если человек в беде смеётся, значит, взять с него уж точно нечего!
Смех в беде – предельное "обнищание духом". "Блаженны нищие духом" – те, у кого ничего уже больше не осталось, кроме Царства . Его они и получают ("ибо оно их и есть"). Чтоб что-то Божье – даром! – получить, надо от всего, что мешало, освободиться.
В жизни происходит почти то же самое: обстоятельства действуют похоже на тех баскаков. Беда – это та же Орда!
Конечно, настроение не закажешь. Раз на раз не приходится. В другой день, наоборот, Кирилл Ромку поддерживал. Это когда у него было вот такое состояние:
– Как дела?
– Ничего.
– Что делаешь?
– Ничего.
А ведь это был самый честный ответ.
Конечно, Ромка чем дальше, тем больше ждал заветного дня (ещё б знать, где его искать на календаре!), когда его выпишут. Это была Полярная звезда в его мореплавании… без моря, на койке. Он ловил любую благую весть, хоть косвенно сведетельствующую о скором (скором ли?) освобождении.
Всё остальное было "ничего". И делать нечего.
– Даже планшет надоел. Даже телевизор.
Кирилл машинально зашагал по палате, и у включённого телевизора вдруг пропало изображение – словно тот мигом обиделся на слова Ромки. Кирилл сделал ещё шаг – изображение появилось. Решил поэкспериментировать. Шагнул назад – изображение исчезло. Вперёд – появилось… Назад…
– Ура! ты открыл новый вид дистанционного управления! – обрадовался Ромка.
И вот они уже смеялись над телевизором, которым, оказывается, можно было "дистанционно управлять" без пульта.
Смеялись вдвоём… чуть ли не от счастья. Потешались надо всем! Да! Жизнь-то налаживается.
– Мы тут, получается, вообще творчески болеем! Читаем, размышляем. Кто-то за футбольную команду болеет, а мы – за Бога. – говорил Кирилл.
– А игра называется – травматобол? – спросил Ромка.
– Да, спортклуб имени святого Иова. А ещё, говорят, "страдание" и "радость" – слова от одного корня?
– Как это!?
– Ну, там "рад" и тут "рад"…
– Это что, типа мазохисты, что ли, придумали!?
– Ну, мазохисты не мазохисты, а может, правда, в этом что-то есть? Ну, типа пострадал, пострадал – а потом порадовался… что страдания кончились.
– А интересно, как там Шампиньон без нас поживает? Наверное, дедушка за ним ухаживает. Кот у нас – хороший человек, только ленивый. Но теперь это даже хорошо!
– Почему хорошо?
– Ну как почему: вот я выпишусь, буду, наверное, сначала плохо ходить: как раз будет самый раз с таким ленивым.
– И со мной в самый раз. Тоже ленивым! – самокритично добавил Кирилл.
"А был ли я счастлив до этой аварии? Вот ведь странно: пока не произошло ничего особенно плохого, мы вовсе не считаем, что отсутствие плохого – само по себе счастье.
Если вдуматься, вся моя взрослая жизнь развивалась по двум сценариям.
Либо ничего не происходит – тогда тоскуешь.
Либо некогда тосковать – тогда волнуешься.
По-другому эти два варианта можно обозначить ещё так. Либо боишься потерять то, что есть – либо тоскуешь из-за того, чего нет. А чаще – и то, и другое одновременно.
Мы, похоже, вообще не умеем быть счастливыми – не имеем в себе такого таланта быть счастливыми. Это о-очень редкий талант! Бог его даёт, кажется, только за боль – за успешно вынесенную боль. Ничем другим его, наверное, не купишь… бесплатно только детям – да и то, как видно, не всегда! Радость сверкает в оправе беды. Другую оправу она, похоже, не очень-то ценит".
Почти вся прежняя жизнь стала вдруг неактуальной. Многое, что раньше всерьёз волновало, казалось теперь полной дребеденью. Вылетело из головы – будто от того удара! – много суетных замыслов и помыслов. "Это был не я, – говорил себе Кирилл. – Или, точнее, я, но какой-то… играющий в жизнь на планшете, живущий понарошку. Улетучилось много придуманных проблем и страданий, с которыми, как с писаной торбой, носится почти каждый человек, особенно в таком возрасте.
Вот я дома за компом по нескольку часов, как прикованный – это я! Вот в путешествии, в том автобусе, которого сейчас уже в природе не существует – и это я! Вот в больнице, тоже как прикованный – и это тоже я! Вот в аспирантуре, вот в церкви, вот с друзьями, вот с подругами, вот с братишкой. Вот в кошмарном сне с… не будем о нём! Сколько же меня!? Где я настоящий?
Сколько разных жизней помещается в одной жизни!
Сколько разных "меня" помещается в одном мне!
Лежал больной, чем-то и главное кем-то (Кем-то?) недовольный, но… живой! Вот ведь оно – живой!!! Живой – но где же я!? Где меня искать? Раз я живой, значит, я должен где-то существовать. Почему Жизнь никак до сих пор не собирается воедино – ни во времени, ни в пространстве, ни в смысле.
Человек на Земле живёт в состоянии хронического одиночества, и всякая земная любовь лишь на время может решить эту проблему. Хотя нет, даже и не решить, а отодвинуть. Душа человека настолько бездонна, что заполнить эту зияющую пустоту может только Бог. Всю жизнь мы ищем Человека… или, вернее, неосознанно! – образ Божий в Человеке. Родители, братья, возлюбленные, друзья… – каждому своя эпоха и свой оазис в незаполнимой до конца пустыне сердца. От оазиса до оазиса, от Человека до Человека протекает вся наша жизнь. Этих счастливых стоянок в нашей жизни может быть относительно много, но главная из них – та, в которой однажды откроется, что над всем этим стоит и всё это в себя включает Бог. Тот – главный человек в нашей жизни, через которого Он исподволь проявится.
Человек, которого ты, замечая, не замечал, вдруг в какой-то момент становится самым главным в твоей жизни. Происходит маленькое Преображение. Фаворского света ты, конечно, не видишь – но на самого человека смотришь уж точно другими глазами. Думал – шалопай шалопаем, оказалось – образ и подобие Божие.
Сколько людей, про которых ты думал, что любил, мелькнули и отошли в далёкий резерв памяти. А те, кто близко – именно что ближние. Ближе не бывает… сколько бы раз ни казалось мимоходом, что они надоели, ну, просто достали!. Но мы ведь и сами себя ещё как порой достаём – больше, чем кто бы то ни было! Как это мы вообще сами с собой, такими, уживаемся!



