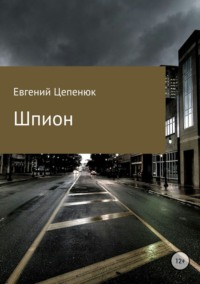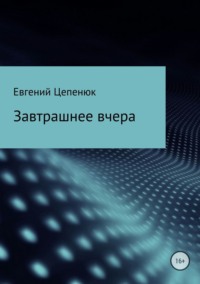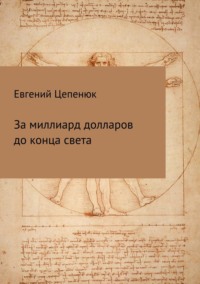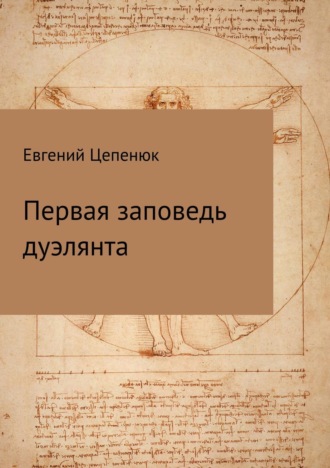 полная версия
полная версияПервая заповедь дуэлянта
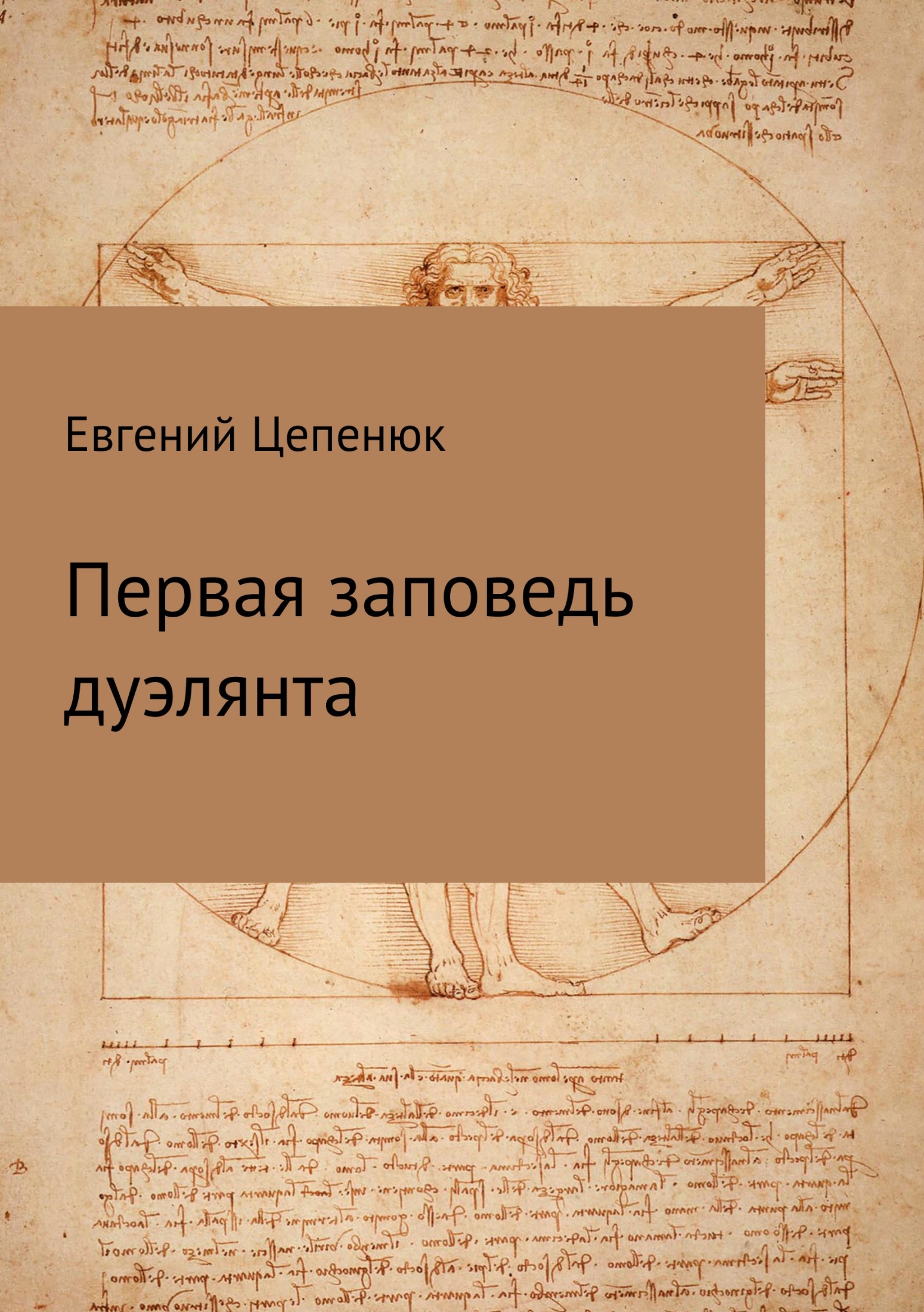
Благородный сделал глубокий выпад и замер, предлагая присутствующим оценить изящество позы, и равномерность, с которой солнечное золото разлилось по глади клинка, и ничтожность расстояния между кончиком шпаги и поверхностью туго надутого пузыря. Три мгновения спустя его нога, выставленная слишком далеко, неловко подвернулась. Благородный пошатнулся, картинно раскинул руки, открывая грудь, а затем рухнул ничком. Белый, как девственность, песок арены набух темно-бордовым.
Один из новичков зааплодировал, второй благоразумно предпочел дождаться реакции наставника. Наставник не заставил себя ждать:
– Превосходный пример. Блестящий, я бы сказал, образец. Эталон! Того, как не следует завершать дуэль.
– Ну-ка, – обратился он к осторожному новичку, – напомни старшим товарищам, какова третья заповедь дуэлянта?
– Не дай себя убить по-настоящему! – отчеканил тот.
Наставник недовольно поморщился:
– Это вторая заповедь. А третья такова: дай себя убить по-настоящему. Ясно? Всем, спрашиваю, ясно?!
Студенты, а пуще всех Благородный, согласно закивали: чего ж тут, дескать, неясного.
– А тебе, Благородный, между прочим, полагается лежать замертво, пока зрители не разойдутся.
Благородный покорно плюхнулся обратно в кровавую лужу.
– Ну ладно, – смягчился Наставник, – страстность, по крайней мере, впечатляет. Скажем так, для премьеры сойдет. Так… Свадьба, напоминаю – завтра, дуэль в полдень, торжественное построение в девять ноль-ноль. У Благородного сегодня еще генеральная репетиция с женихом в шесть, остальное время – личное. Все свободны!
Этнограф деликатно дождался, пока Благородный примет душ и переоденется, и лишь затем пристал с расспросами:
– Прошу прощения, но это очень важно. Дело в том, что я, конечно, не специалист в области лингвистики, но у меня сложилось отчетливое впечатление, что на здешнем диалекте общего языка одни и те же слова могут принимать различное, и даже прямо противоположное значение в зависимости от контекста.
Этнограф Максим Петров, вообще-то, был парнем приятным в общении и даже простым – когда он был просто парнем. Но когда ученый сосредотачивался на своей миссии, лицо его стягивала тугая резиновая маска преувеличенной вежливости, а изо рта начинали вываливаться конструкции наподобие вышеприведенной. К счастью, подолгу пребывать в сосредоточенном состоянии он еще не научился.
– Вот, например, словосочетание «по-настоящему»…
– В смысле?.. – Благородный взглянул на часы. Разумеется, не демонстративно. И не украдкой, потому что уже успел убедиться: от пристального внимания исследователя не ускользают и малейшие нюансы… Так неловко получилось в самом начале, когда этнограф в присутствии Наставника спросил: «Вы сейчас посмотрели на часы, чтобы вежливо дать мне понять, что пора заканчивать разговор?». С этой своей вечной извиняющейся улыбкой…
Впрочем, времени оставалось предостаточно.
– По-настоящему – значит «на самом деле», «взаправду». А у вас разве не так?
– Ну да, конечно, ровно тот же самый смысл вкладывают в эти слова и на моей родной планете. Но ведь тогда получается, что третья заповедь дуэлянта противоречит второй!
– С чего бы это? Во второй заповеди говорится – по-настоящему. А в третьей – «по-настоящему».
– Я, кажется, понял! – обрадовался Максим. – Для моего, пока еще непривычного, уха эти слова звучат как омонимы, а для вашего – совершенно по-разному. Ну, так объясни мне, пожалуйста, что значит «не дай себя убить по-настоящему»?
– Да то и значит, что после того, как тебя убьют и все зрители разойдутся, ты должен подняться на ноги живым и здоровым.
– А «дай себя убить по-настоящему»?
– Это значит, что никто из зрителей не должен знать, что ты на самом деле поддаешься противнику…
– А мне казалось, что об этом все знают.
– А я разве сказал «не знают»? Знают, конечно, но не должны знать. Понимаешь, противник – он же клиент, это его праздник, а не мой, и он, а вовсе не я, должен быть настоящим героем, победителем…
– «Быть героем» – значит «выглядеть как герой»? Извини, что перебиваю.
– Ничего страшного. Ну да, «быть» – значит «выглядеть». А наставник упомянул третью заповедь потому, что я потянул одеяло на себя. Ну, то есть перестарался, стремясь выглядеть как можно более ярко, эффектно. Привлекал слишком много внимания к своей персоне вместо того, чтобы оттенять и подчеркивать игру противника. Как если бы художник написал такую красивую картину для столовой, что она притягивала бы к себе все взгляды гостей и тем самым мешала бы им наслаждаться искусством кулинара. Понимаешь? И в итоге получилось, что это я проигрываю потому, что допускаю оплошность, а не противник выигрывает потому, что он объективно сильнее. То есть – не по-настоящему.
В свое время существовало не менее десятка теорий, объясняющих эффект Судакова-Клемешева. С помощью одной из них удалось даже предсказать некоторые весьма интересные явления, наблюдаемые при межзвездных перелетах. К сожалению, ни одна теория не позволила предугадать, что в один прекрасный день эффект вдруг возьмет, да и перестанет действовать, и сотни колонизированных людьми планет окажутся полностью отрезанными друг от друга и от Земли.
Разумеется, не везде и не все восприняли изоляцию как трагедию. Например, некоторые губернаторы колоний, внезапно обнаружившие свое кресло на самой, что ни на есть, вершине иерархической лестницы. Среди тех, кто не преминул воспользоваться ситуацией в меру своих безмерных амбиций, Верховнейший Правитель Новой Весны не был ни амбициознейшим, ни жесточайшим, ни даже безумнейшим. Увы, но населению планеты сравнивать было не с чем.
Установив абсолютную власть и приняв все возможные меры для обеспечения ее и своей безопасности, Правитель вскоре заскучал. Планета ему досталась благодатная, народ – смирный, соседей не имелось и не предвиделось. Улучшение качества жизни подданных он полагал делом рук самих подданных. Ну вот, разве что – улучшение самих подданных… Эта задачка показалась ему достаточно занимательной.
К поставленной цели вели два пути, и Правитель выбрал оба. Во-первых, он искусственно вернул в общество естественный отбор. Например, претендентам на каждую мало-мальски хлебную должность отныне предстоял суровый экзамен. Включавший сочинение на вольную тему, конкурс красоты и бой без правил.
Аналогичным реформам подверглись практически все общественные институты, сверху донизу: так, поскольку семья – основа государства, то и всякому, собирающемуся вступить в брак, полагалось прежде того доказать свою пригодность к произведению здорового потомства. Ни один мужчина не имел права жениться, не сразившись за право обладать избранницей как минимум с одним соперником, желательно насмерть; и ни одна женщина не могла выйти замуж, если не находилось хотя бы двое желающих рискнуть жизнью ради ее руки и сердца.
Во-вторых, Правитель построил огромную лабораторию, вернее, целый научный комплекс, полностью автономный. В этом черном-пречерном небоскребе без окон и с единственной дверью, прозванном в народе «Башней мага», он собрал и запер всех ученых планеты. А вскоре и сам заперся вместе с ними, чтобы лично контролировать и направлять бесчеловечные эксперименты по улучшению человека. И строго-настрого наказал по пустякам не беспокоить.
Ну, так его и не побеспокоили ни разу. Более того, и оставленные Правителем заместители, и их преемники, и их подчиненные, и весь народ – словом, все население Новой Весны больше всего на свете боялось каким-либо образом привлечь внимание Того, Кто Заперт в Башне. Предоставленные сами себе, люди, исходя из вполне прагматичных соображений, повели себя словно персонажи волшебной сказки, опасающиеся неосторожным словом либо поступком потревожить дремлющее в древней гробнице Зло. Еще более того, со временем стремление во что бы то ни стало сохранить видимость стабильности, неизменного и неукоснительного исполнения законов превратилось в лейтмотив местной культуры, основу менталитета, стержневой принцип цивилизации.
Сами законы при этом подверглись постепенному, но кардинальному переосмыслению – оставаясь, разумеется, неизменными по форме. Парадоксально, но факт: спустя триста лет, когда физикам удалось-таки обуздать заартачившийся эффект, миссия Союза Планет обнаружила на Новой Весне общество, представляющее собой, по сути, полную противоположность задуманной Правителем утопии.
Среди наиболее ярких и показательных примеров такой трансформации особое место занимает институт профессиональных дуэлянтов. Без разыгрываемых ими поединков не может состояться ни одна свадебная церемония – и дело не только лишь в том, что это яркое, динамичное, поистине незабываемое зрелище (по случаю бракосочетания важных особ устраиваются настоящие турниры, собирающие сотни восторженных зрителей). Несмотря на то, что каждая дуэль представляет собой, в сущности, тщательно срежиссированный и отрепетированный спектакль, совершенно безопасный для всех участников, а роль победителя жестко закреплена за заказчиком-женихом, символической борьбе за счастье придается особое, я бы даже сказал – почти мистическое значение.
Что до Правителя, то по своей инициативе он на связь ни разу не выходил, и никто не выходил из Башни и не входил в нее на протяжении всего периода изоляции. Так что – достигли ли ее обитатели результатов, и если достигли – то ожидаемых ли, все это время оставалось неизвестным. Разумеется, ко всеобщему удовлетворению. Ну, а новая власть первым делом объявила все, связанное с Башней, своей государственной тайной. На окончательно сформировавшемся к тому времени местном диалекте это звучало так: никакой Башни никогда не было…
Вот примерно так, разве что куда как более обстоятельно и в еще более тяжеловесных выражениях, молодой, но подающий надежды этнограф Максим Петров собирался начать свою книгу об уникальной и в чем-то даже парадоксальной культуре планеты Новая Весна.
– Скажи, Максей…
– Максим.
– Прости, пожалуйста. Мне трудно запомнить имя, которое ничего не значит.
– Ну почему же – оно значит «величайший».
– На твоем родном языке?
– Нет, на латыни. Это мертвый язык, на нем уже давно не разговаривают. Но некоторые слова живут в других языках. Например, имена собственные.
– В таком случае, можно я буду называть тебя просто Величайшим?
– Знаешь, для меня это звучит как-то нескромно.
– А что тут нескромного? Со мной в одном классе училось двое Величайших. Один теперь – большой начальник, другой – продавец в круглосуточном магазине.
– Ну ладно, если тебе так удобнее… Так о чем ты намеревался спросить?
– Да мне вот любопытно: а на других планетах как люди женятся? Неужели просто расписываются, и все?
– Ну… Везде по-разному. Кое-где вообще не принято регистрировать отношения. А вот, например, у нас принято нанимать человека, который весь торжественный день всячески издевается над новобрачными, и подвергает их различным унизительным испытаниям. Но такого оригинального обычая, как у вас, нет нигде. Ну, по крайней мере, насколько мне известно.
– А по-моему, так мы занимаемся, в сущности, ровно тем же самым: подвергаем жениха испытанию, которое он с честью выдерживает.
– В чем-то ты прав, определенное сходство и самом деле наличествует. Но есть и принципиальная разница. Например, наши испытания заранее не репетируются.
– В самом деле? – в Благородном проснулся профессиональный интерес. – А как же тогда новобрачных к ним готовят?
– Да, в общем-то, никак, – пожал плечами Максим. – Организатор, разумеется, планирует свои выходки заранее, а жених с невестой импровизируют на ходу.
– Тогда, наверное, это какие-то совсем простенькие испытания? Которые любой заведомо пройдет? Но так ведь совсем не интересно!
– Нормальные испытания. Порой так даже и вовсе невыполнимые, – с легкой обидой за свою родину ответил Максим.
– Но… – Благородный осекся. Потер переносицу указательным пальцем, словно пытаясь пропихнуть застрявшую мысль по направлению ко рту. Пожевал губами. И, наконец, с усилием выдавил:
– В этом есть что-то очень неправильное. Я это чувствую, но почему-то не могу понять, что именно. Я даже не знаю, как об этом спросить.
Максим никогда не отличался проницательностью. Настойчивостью – да, вниманием к деталям – сколько угодно. А вот попытки поймать мысль собеседника на лету, вместо того, чтобы уточнить прямым текстом – этот метод он отвергал как ненаучный. И ничего удивительного, что, стараясь помочь Благородному, с первого раза он с подсказкой не угадал:
– Тебя интересует, почему новобрачные все это терпят? Ну, просто таков уж обычай. И, кроме того, считается, что таким образом жених с невестой запомнят свой праздник на всю оставшуюся жизнь.
– Да это-то естественно, – отмахнулся Благородный. – Понимаешь, я не понимаю… Если вдруг… Ведь тогда может получиться так, что… Ну, можно ведь, получается, предположить, что они, возможно… И что тогда будет?!
– Что будет, если они – что? Откажутся?.. Нет?.. Не справятся с испытаниями? – Благородный быстро закивал. – Да ничего не будет! Посмеются и продолжат церемонию. Это же не по-настоящему, понимаешь?..
– Не понимаю, – медленно проговорил Благородный. – Но, кажется, начинаю понимать.
– Ну и замечательно. Никогда не был силен в объяснениях, моя стихия – вопросы… Кстати, я тоже давно хотел кое-что спросить: а что, если во время дуэли произойдет несчастный случай? Ведь может же дуэлянт, например, оступиться, неправильно рассчитать удар… Тем более – клиент.
Благородный снова взглянул на часы. И впервые в жизни сознательно уклонился от ответа:
– Слушай, а ведь мне уже пора на генеральную репетицию! Поприсутствуешь?
– Разумеется.
Генеральная репетиция затянулась намного дольше намеченного. Благородный загонял клиента до седьмого пота, снова и снова прорабатывая финал. Клиент, пухленький увалень по имени Невредимый, пыхтел и задыхался, но безропотно выполнял указания – и все же никак не мог продемонстрировать приемлемый результат.
Хотя на дилетантский взгляд Максима стремительная последовательность финтов, уклонений, батманов и выпадов выглядела более чем безукоризненно. Благородный двигался с отточенной, грозной грацией; он то грубо наседал, обрушивая сокрушительные удары, то коварно рассыпал обманные движения. Казалось, он не оставляет ушедшему в глухую оборону Невредимому ни единого шанса на контратаку – словно человек вступил в безнадежную схватку с безжалостным боевым киборгом. Но в какой-то момент машина смерти вдруг давала сбой, запутавшись в собственных стальных тенетах, и открывалась на одно-единственное мгновение – почти неуловимое, но достаточное для чуда, и человек успевал нанести единственный, но решающий удар.
И в пятый, и в десятый раз, наблюдая, как поверженный противник падает к ногам победителя, Максим обнаруживал, что не в силах сдержать вздох облегчения.
А Благородный все не унимался. Поначалу этнограф честно прислушивался к его инструкциям, но когда количество чисто технической информации, требующей дополнительных пояснений, начало зашкаливать, сдался и позволил себе заскучать. И в итоге пропустил начало фразы, содержащей, судя по физиономии Невредимого, нечто весьма интересное.
– …потому что на самом деле ты – не клиент и не партнер, а главный и единственный герой! Который должен бороться и преодолевать, а не выжидать и пользоваться возможностью. Это не я тяну на себя одеяло, это ты ждешь, что я тебя закутаю и подоткну уголки. Да, конечно, я так и делаю. Я обязательно так и сделаю. Мы оба знаем, как и чем закончится дуэль. Но это – по-настоящему! А по-настоящему ты не должен этого знать. Понимаешь?!
– Понимаю, – покорно кивнул Невредимый, хотя на его лице явственно читалось недоумение.
– Ничего ты не понимаешь! Я сам только начинаю понимать, как все запутано. Просто поверь мне, что ты не должен мне доверять. Почему ты мне доверяешь настолько, что даже не пытаешься сделать хоть что-то не по моему сценарию? Почему ты уверен, что я поддамся? Почему не боишься, что я тебя убью? А что, если я хочу убить тебя по-настоящему?!
Благородный постепенно повышал голос – собственно, он уже почти сорвался на крик.
– Думаешь, быть этого не может? А почему? Потому что так не бывает? Представь себе – бывает. Только у нас не бывало еще никогда – а ты не задумывался, что все когда-нибудь случается впервые? Как первый друг, первая любовь… и первое предательство. Не задумывался, конечно. И о том, почему тебе, сыну не последних людей, поставили в пару не опытного мастера, а меня, выпускника – тоже не задумывался.
Голос Благородного таки сорвался – но не вверх, на крик, а словно бы в глухую яму, полную ненависти. Максим еще ни разу не слышал подобных интонаций на Новой Весне.
– А ведь в этом, представь себе, есть смысл. Такой, что завтра тебе придется повторить то, что ты уже проделал однажды. Только теперь – на глазах у всех. Ты ведь меня уже один раз убил, поразил в самое сердце. Я умер, когда узнал, что Победа выходит за тебя. Умер, но остался жить…
– Благ, ты чего? – тихо и с искренним сочувствием спросил Невредимый. – Перетрудился, да? Ну ты меня прости, конечно, что я такой паршивый ученик. Но это же не твоя вина, так что не переживай так, ладно? И вообще, все будет хорошо. Как всегда. Ага?..
Сердце Максима трижды ударилось о ребра, прежде чем Благородный, успокоительно-привычно улыбнулся и ответил:
– Конечно, Неврик, все будет как всегда. И вообще, ты, на самом деле, молодец. Но только давай-ка мы еще пару раз прогоним финал… для верности.
– Я, конечно, извиняюсь, если мой вопрос затрагивает слишком личную тему – но правильно ли я понял, что Невредимый отбил у тебя любимую девушку?
– Почти правильно. Только не он ее отбил… Не такая она, чтобы ее можно было взять и отбить. Да и он не такой… В общем, на самом деле Победа сама его выбрала.
– Вы были друзьями?
– Мы и сейчас друзья. Лучшие друзья. С детства. Просто редко общаемся в последнее время. И, знаешь – он очень хороший друг. И всегда таким был. Когда в детстве воровали яблоки, он частенько попадался. Ну, сам понимаешь, с его-то комплекцией. И он никогда, ни разу не признавался, не выдавал соучастников. И потом, однажды мы с ним пошли в поход в сопки, и я подвернул ногу – так он почти до самого дома тащил меня на себе. И еще много таких случаев я могу вспомнить…
Благородный замялся, но не более чем на пару мгновений:
– Много могу вспомнить, если понадобится. Ну, а Победа – просто лучшая девушка в мире. В общем, я их обоих очень люблю и желаю им счастья. По-настоящему. Просто, наверное, немного завидую, но это нормально. Ну… и еще я немного в смятении. Понимаешь, я как будто всю жизнь прожил в долине, а с тех пор, как меня к тебе приставили – словно бы начал взбираться по крутому склону. Каждый раз, как ты рассказываешь что-то о других планетах – я поднимаюсь еще на несколько метров. А когда я отвечаю на твои вопросы – то словно бы оборачиваюсь назад, и смотрю на свой родной город с высоты, и вижу его совсем не таким, как привык видеть. Ты спрашиваешь о вещах, которые всегда казались мне естественными и единственно правильными, и я вижу, как ты искренне пытаешься их понять – но если их нужно понимать и объяснять, значит, не такие уж они естественные, верно? И вслед за тобой я все чаще задумываюсь: и в самом деле, почему у нас все именно так, а не как-нибудь по-другому? Может, не так уж у нас все и правильно?!
Максим напустил на себя очень серьезный вид, прокашлялся и внес небольшую корректировку:
– Не «вслед за мной». Я ведь ученый. А значит, не имею права оценивать наблюдаемые явления в категориях «правильно-неправильно».
– Ну да, извини, я сам виноват, – покорно кивнул Благородный, и Максим снова закашлялся, на сей раз – поперхнувшись заготовленным заранее ответом на «почему?». Он вдруг почувствовал себя неловко – настолько, что захотел сменить тему:
– Значит, мальчишками вы воровали яблоки? Интересно: меня уверяли, что на Новой Весне совершенно отсутствует преступность, в том числе подростковая.
– Преступности у нас нет. А что, разве у вас мальчишки не лазят по чужим садам?
– Только там, где есть сады! – рассмеялся Максим. – Но хулиганят – везде. Бьют, например, стекла, или пишут на стенах… На то они и мальчишки.
– Разумеется, мальчишки должны вести себя по-мальчишески. Ну и вот. В двух-трех кварталах от каждой школы есть фруктовый сад. Родители в начале учебного года вносят определенную сумму, и могут не беспокоиться, что плоды вдруг окажутся случайно опрысканы химикатами, или что их ребенок свалится и свернет шею, перелезая через слишком высокий забор. Стены для граффити у нас тоже есть, а вот насчет стекол – я не в курсе… Кажется, пробовали в порядке эксперимента, но пришли к выводу, что это слишком опасно.
– Значит, садовник знает, кто именно таскает яблоки?
– Конечно, у него есть список.
– Тогда зачем допрашивают тех, кто попался?!
– Чтобы те не выдали своих товарищей, Величайший. Для чего же еще?..
Утро выдалось прохладным и ясным. Каждая пуговица сияла и переливалась, словно драгоценный камень; и каждый драгоценный камень сиял и переливался, словно капля росы; и каждая капля росы сияла так, как способна сиять одна лишь только роса на листьях травы, пробивающейся в щели меж камнями мостовой, ясным и прохладным утром в самом начале лета. Дуэлянты в парадных мундирах застыли строем во внутреннем дворе Академии, и у каждого на лице застыло выражение напряженного внимания.
Этнограф пристроился чуть поодаль от Благородного, занявшего почетное место на правом фланге. Максим ожидал, что наставник скажет речь – но тот пока что лишь молча скользил взглядом по лицам курсантов, порой задерживая внимание то на одной, то на другой из дюжины пар преданных глаз – то улыбаясь по-отечески, то сурово хмурясь, то даже задорно подмигивая – но все это краешками губ, уголками век, едва уловимым подергиванием бровей.
Так, в полной тишине, прошло минут пять. Наконец, наставник кивнул Благородному, – точнее, склонил голову на столь малую долю градуса, что Максим не решился однозначно интерпретировать это движение как одобрительное, ободряющее либо какое-то еще, и все-таки заговорил:
– Я всегда начинаю речь с минуты молчания, а продолжаю объяснением, почему я так поступаю. А поступаю я так потому, что в тишине умеющий слушать услышит самое главное. А неумеющий – услышит в словах. А если кто-то всё равно не услышит – что ж, значит ему не место среди нас.
Я сказал «услышит главное в тишине», но на самом деле тишина – это и есть то самое главное. То, ради чего существуют законы и традиции. Во имя чего я изматываю вас тренировками, извожу придирками, испытываю наказаниями – чтобы сделать из вас достойных хранителей и, главное, исполнителей этих самых традиций и законов.
Все вы знаете, что на Новой Весне нет ни бесполезных профессий, ни ненужных должностей. Здесь нет лишних людей, а если кто-то считает иначе – значит, ему здесь не место. И все-таки наша работа – особенная. Она даже важнее работы учителей: в школе люди узнают, что такое буквы и цифры, а мы показываем им, что такое жизнь и смерть. Не просто, а настоящая жизнь и настоящая смерть: с яростью и страстью, страданием и экстазом победы – словом, со всем тем, чему в настоящей жизни не место.
На самом деле, все настоящее – вредно. Или, по меньшей мере, опасно: как вода из лужи, или чистый кислород, или секс без предохранителя. Но люди жаждут настоящего, и они его получат в любом случае, чего бы это ни стоило. Поэтому мы даем им то, чего они жаждут: не потому, что желаем доставить им удовольствие, а потому, что иначе они придут и возьмут сами. И тогда… Я не знаю, что тогда может случиться. Но я совершенно точно знаю, что не хочу этого знать. А если кто хочет, то пусть ищет себе другое место и там узнает что угодно.
Таково наше настоящее предназначение: мы живем ради смерти и умираем ради жизни. Снова, и снова, и всегда. Пока не затупляются наши клинки – никто не угрожает миру. Пока не смолкают восторженные вопли зрителей – ничто не нарушает тишину.
Максим слушал невнимательно. Все пространство между его ушами было забито тяжеленными мыслями, и мысли эти упорно отказывались укладываться не то что в привычном, а хоть в каком-нибудь порядке.
Вот наверху оказалась такая картина: двое на арене, Благородный чуть-чуть промахивается… вернее, бьет чуть точнее, чем нужно… В общем, достаточно ведь самую малость ошибиться. Даже если он сам и не помышляет о мести… ну конечно, он ведь и слова такого, небось, не знает, а если даже и знает, то подразумевает под ним… Кстати, что? Возможно, заявление в суд… Нет, это некстати!.. Неважно, что он подразумевает: когда разум в смятении, подсознание запросто может подвести. И направить руку помимо воли. И вот – Невредимый, как кукла с разрядившимся аккумулятором, валится навзничь…