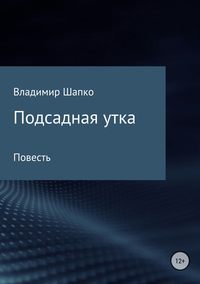полная версия
полная версияСемь повестей о любви
Он тяжело дышал. Он смотрел на себя в кучерявом зеркале. Глаза его были сжаты как пульки, а длинный нос походил на обувную ложку, которую он забыто держал в руках.
4. После свидания
Она покачивалась в полупустом вагоне метро. Напротив сидел старик в потёртом плаще. Широколицый. Печальный, как бульдог. Глаза у него будто пучило. Он кривился как от изжоги и снова замирал, ожидая чего-то от своих глаз. Кинул в рот таблетку. Татьяна увела взгляд в сторону. За стеклом вроде бы полетел, закривлялся Юрий Котельников. Странный вообще-то парень. Что-то есть в нём от селезня. Нос утиный. Не похож однако ни на мать, ни на костяного дядю. Зато уж они точно с одной колодки сняты. Сработаны как по лекалу. Этот – как усыновлённый. Глаза маленькие, проваленные, а нос широкий, утиный. В общем, красавец. Волосы, правда, хороши. Кудрявые. Но тоже – подстригся под барашка. Зачем? Барашек с утиным носом. Барашек-утконос. Интересно, клеят ли его студентки? Ведь молодой, неженатый. Квартира, можно считать, в Москве. Карьера благополучно вызревает. Доцентом скоро станет. А там – и профессором. Но хвастун. Переливчатый селезень. Однако деликатный. Только сказала – сразу отступил. А я ведь согласная. Просто не могла же я сказать дурашке, что из меня третий день льёт. Низ живота тянет. Ничего, конечно, не понял. Подумал, наверное, что просто женский стыд. Плащ держит, надевает. Понимающий, предупредительный. Порывается идти провожать. Еле отбилась. Всё хочет узнать, где я живу. А зачем, дурашка?..
Татьяна Мантач вышла из вагона через три остановки на станции «Киевская».
5. Из дневника Котельникова
…Очень необычная женщина. Даже внешне. Никогда не встречал такой. Ореховые красивейшие глаза. Но как не её. Как взятые напрокат. Чужие белому лицу и рыжим волосам. Почему такая скрытная? Кто она? Замужем? Разведена? Спокойно-отчуждённая, молчаливая. И в то же время – на всё соглашающаяся. Причём совершенно неожиданно. «Я приду к вам, Юрий Аркадьевич, завтра». Как выбила почву из-под ног. Растерялся даже. Стыдно почему-то стало. Потерял даже речь, когда рылся в карманах, искал блокнот. И опять же сегодня: оттолкнула от себя или нет? После того как обнял? «Я приду к вам завтра. В это же время». И улыбку повела к двери. Как будто знает то, о чём ты понятия не имеешь… Но как она очутилась на Ленинских горах? Совершенно одна? На целый километр?.. Странная женщина. Очень странная…
6. Безумие мужчины и женщины
Во второй вечер, потеряв голову, он тянул тугую женскую ногу с поднятым коленом словно бы в гору. А, может быть, даже в космос. «Остановись, – сказала она, – я так задохнусь». С расстёгнутой рубахой он восстал над ней как безумный Икар. И вновь потащил обеими руками ногу в чулке.
Второй раз всё было уже целомудренно, пристойно. Он висел над ней и спрашивал: «Больно я сделал? Да? Больно?» Впрочем, в конце он опять было потащил, но бросил ногу и начал точно всверливаться в женщину.
Он лежал, до горла закрывшись пледом. Как негодяй. Полураздетая женщина была покойна. Расчёсывала на стуле свои густые прямые волосы. Только в нежной осаде белых ног её и живота стыдливо прятался женский жёлтый мысок.
Потом она ушла в ванную. А он метался, таскал опять всё на стол.
Ночевать она не осталась. Сколько ни просил. Правда, разрешила проводить себя до метро.
«Она точно замужем», – думал Котельников, идя от «Кутузовской» домой. «Вне всякого сомнения. И вряд ли теперь появится. Вряд ли даже позвонит. Но я-то для чего тогда?» Котельников посматривал на чёрную, без единой звезды октябрьскую ночь. Почему-то сдавливало тоской грудь.
Но она пришла и в следующий вечер. И ещё приходила. Безумие мужчины и женщины длилось неделю.
Он мало что соображал в эти дни. На лекциях всё время поглядывал на часы. Тема студентам разворачивалась словно бы не им, Котельниковым, а кем-то другим, очень хитрым, спрятавшимся в нём.
Пыталась долбить его вопросами Роза Залкинд. Но он сразу говорил, что всё обсудит с ней индивидуально. Вылетал из аудитории и уже без всяких ритуальных аллей мчался автобусом к метро.
В окне летящего вагона он видел то её груди, то её, извините, тугое гузно, то закинутую в костре волос голову. Черт побери-и! – поворачивал он безумные глаза к пассажирам.
Дома на кухне пытался что-то готовить, но приходила она. И уже через минуту они оказывались на полу, куда он успевал бросить только одеяло…
Лица её он не видел. Его накрывала сухая горячая лава её волос. Раскинутые руки и ноги их были слиты. Казалось, она ничего не делала, но он уже в сладостной муке поворачивал и поворачивал единую эту их мельницу на полу, сминая, перетаскивая за собой по паркету одеяло…
Она долго лежала на нём, спрятав горящее от стыда лицо за его щеку.
Однако потом, как всегда, хмуро расчёсывала свои волосы. А он сидел перед ней на полу как перед золотым многоруким божком, который никогда ни на кого не глядит.
В этот вечер, прощаясь, она сказала ему: «Хватит, Юра. Нам нужно отдохнуть. Не скучай».
О телефоне и адресе своем, конечно, ни слова.
– Я позвоню, – сказала она.
Действительно позвонила. Но когда уже и не ждал…
7. Лечение на дому
По Кутузовскому, распустив пальцы веерами, как осторожная балерина переступал прямыми ногами по гололёду высокий старик в пальто. Медленно двигался за ним по тротуару, растрясывался солью глухой, сработанный под броневик мотороллер с засевшим в нем дворником с подловатым глазом. Юрий Котельников чертыхался, шёл следом, перескакивал через обширные серые пятна соли, как через нечистоты. И растянулся-таки, сильно подвернув ногу. Кое-как поднялся, постоял, потом потихоньку, охая от боли, поковылял обратно. Домой. Какая-то женщина предложила помочь. Подхватила даже под руку. Поблагодарил её. Дойду сам.
Дома позвонил в деканат, потом Кучеренке, попросил подменить. Сидел на диване, смотрел на разутую, уже припухшую с посиневшей щиколоткой ногу. Вызывать неотложку или не надо? Позвонила Галя Кучеренко с испуганным голосом. Лёд! Немедленно лёд к ноге! Через тонкое полотенце! Спасибо, Галя. Поковылял на кухню, из холодильника достал решётку со льдом, выдавил ледяные квадратики и уже в комнате с полотенцем навернул на ногу. В щиколотке словно бы сразу заиграла разноцветная тянущая боль. Но быстро прошла – нога онемела.
Целый день промаялся с ногой. Пытался работать. Садился к столу, к диссертации, вытянув, как инвалид, ногу. Но боль не отпускала, начинала ныть, тукать, бить. И уже лёд не помогал. Тогда возвращался на диван, поднимал ногу на подлокотник – в таком положении было легче.
Почему-то всё время думалось о Татьяне. Десять дней опять прошло. Ни слуху, ни духу. Хватит, наверное, с ней. К чёрту! Кончено всё!
Но когда вечером вдруг зазвонил телефон – бросился с дивана, чуть не упал, ухватив трубку со столика. «Да, да! Слушаю!»
Узнав о случившемся, она приехала почти сразу. Как добрая «скорая».
В прихожей, увидев его с поджатой ногой в полотенце, она мотнула рукой в сторону гостиной: «А ну иди. Иди сам!» Он «пошёл», поковылял, приседая. «Так!» Она приказала лечь. На диван. Довольно долго осматривала ногу. Он чувствовал её холодное дыхание на коже ноги. Он пытался объяснить, обрисовать случившееся. «Помолчи! Так больно?» – Она чуть загнула ступню. Он дёрнулся. «Понятно. Небольшое растяжение». Она вынула из сумочки эластичный бинт в упаковке, разодрала пергамент. Начала профессионально мотать на голеностопный сустав. «Ловко у тебя получается!» – удивился он. «Я медсестра», – коротко сказала Мантач.
Так Котельников узнал, что она работает в одной из московских больниц. А в какой именно – она уточнять не стала. Ему же, если бы он вдруг надумал в поисках её обзвонить все больницы и поликлиники Москвы, не хватило бы, наверное, и года.
8. Университет
Семидесятилетний холостяк профессор Оськин для бодрости кадрил в коридоре двух весёлых аспиранток. Кузину и Телепнёву. Смеясь, оскаливал жёлтые зубы как амулеты.
Однако увидел Котельникова с толстой папкой. Ринувшегося к нему, профессору Оськину. Сразу поднял руку:
– Не могу, Юрий Аркадьевич! Не могу. Завтра уезжаю в Братиславу. Симпозиум. Что написали – отдайте Зубину. Он посмотрит.
Повернулся к аспиранткам:
– Ну, прощайте, мои дорогие!
Пошёл. В свежем вельветовом пиджаке и шейном платке – как выигрышный богатый фант. Телепнёва и Кузина смеялись ему вслед шибко, если употребить любимое Буниным словцо. А подопечный диссертант Котельников пошёл с толстой папкой неизвестно куда. И что теперь делать?
Такой же вопрос (что делать?) задал ему подсевший в столовой Кучеренко: «Что делать, Юра? Опять она тормознула меня. («Она» – это декан Десятникова, а «тормознула» – это не пропустила диссертацию на Совет.) Что делать, Юра?»
Ждал ответа с обиженным ротиком окунька. Седые волосы его в короткой стрижке казались просто нацеплявшимися белыми нитками. Нацеплявшимися, к примеру, с подушки, когда он спал.
Юрий Котельников жевал мясо, думал. Потом сказал:
– Пошли!
В деканате за столом писала маленькая женщина с потрескавшимся лицом пожилой лилипутки.
– У вас ко мне дело, Юрий Аркадьевич?
– Да, Вера Павловна, именно дело! Вопрос. Один лишь вопрос: почему? Почему с Кучеренкой так поступают?
– Я удивлена, что вы задаете такой вопрос. Именно вы, Юрий Аркадьевич. После того, как переметнулись к профессору Оськину, вы приходите ко мне, бывшему вашему научному руководителю, и просите за Кучеренко. Это – как? – задам я тоже вопрос.
На Юрия Котельникова пусто смотрели глаза цвета мутного винограда.
Бывший ученик несколько смутился:
– Я ведь не об этом пришёл с вами говорить, Вера Павловна…
– А о чём? Вы, наверное, просто забыли, что произошло в прошлом году после вашего перехода к Оськину. Теперь вы вместе с вашим другом пожинаете плоды.
Маленькая женщина склонила голову, продолжила писать.
– Ну, что, что она сказала? Что? – приставал на ходу в коридоре Кучеренко.
– Похоже, Коля, мне тоже не увидеть Совета, – ответил Юрий Котельников.
День явно не задавался. День был как понедельник. В конце лекции опять начала подниматься на задние ножки несносная Залкинд. Конечно же, опять с вопросом.
– Юрий Аркадьевич! В моем переводе рассказа вы зачеркнули слово «охотно». Почему?
Она приглашающе поворачивалась к сокурсницами, сидящим в одном с ней ряду, мол, хватит ворон ловить, то-то сейчас будет!
– А потому, уважаемая Роза, – зло начал Котельников, – что слово «охотно» из девятнадцатого века. Из переводов Диккенса, Теккерея. Потому, что в нашем случае оно неуместно. Простой шофёр Радан Николов никогда не скажет его. Даже если ему вместо одной чашки кофе предложат десять.
– А как же он скажет? – аж повалилась вперёд Залкинд.
– Он скажет «с удовольствием», «с радостью», но не скажет – «охотно». Он не граф, он шофёр. Теперь ясно почему?
Как после ушата ледяной воды Залкинд вела по сокурсницам свои шалые глаза непокорной овцы: вывернулся-таки!..
9. Котельниковы
…На кремлёвскую ёлку Юрик Котельников в первый раз попал, когда ему было восемь лет. С ушками зайчика, держась правой рукой за деда Мороза, а левой таская за собой какую-то девчонку, он тоненько пел и не сводил испуганных глаз с громадной всей елки с оледеневшими огнями.
Дома у дяди Тоши он сидел за столом и удерживал на коленях большой кулёк, разрисованный серебряными звёздами. Иногда, подумав, доставал из него одну конфету и отдавал кому-нибудь из взрослых. Потом, опять подумав, – ещё одну отдавал. Мама в селёдочном блёстком платье гладила его. А дядя Тоша, получив конфету, хохотал, чуть не расплёскивая из бокала вино.
В деревенском доме в Ильинском Юрик стоял высоко на табуретке и декламировал звонким голосом стих:
Снежок порхает, кружится,
На улице бело,
И превратились лужицы
В холодное стекло.
Где летом пели зяблики,
Сегодня – посмотри! –
Как розовые яблоки,
На ветках снегири…
Дядя Тоша прижал его к себе. Потом поцеловал: «Молодец, Юрик!» Мама в селёдочном платье сидела гордая. А у тёти Милы почему-то навернулись слёзы.
Уже к концу праздника за столом, когда тётя Мила подавала чай, дядя Тоша сказал:
– Ну а теперь выпьем светлой памяти родителей наших.
С налитым бокалом Антон Котельников смотрел на фотопортреты своих родителей в рамках на стене. Серьёзный отец стоял в будёновке, в тяжёлой шинели «с костями», а мама была в косынке, с простым, подрубленным мочалом фабричной девчонки…
– Эх, жизнь! – смахнул слезу дядя Тоша и выпил свой бокал до дна.
Юрик не знал своих дедушку и бабушку, но увидел, что мама тоже промокнула глаза платочком. А тётя Мила подложила ему на тарелочку второе пирожное, хотя он не съел ещё и первое. Юрик тут же дал ей конфету. Из своего кулька. И все опять смеялись за столом.
Летом с разбега Юрик нырял с доски в Ильинское озеро, быстро плыл, поворачивал к берегу и, выбежав из воды, ложился на песок рядом с загорающей матерью.
– Эх, Дуся, – говорил дядя Тоша. – Как я тебе завидую. Какой золотой мальчишка у тебя растёт. Ведь Милка-то моя пустая оказалась…
Как на волосатый кокос, он смотрел на свой живот, свесив голову. Тётя Мила выходила из кустиков, где надевала купальник.
– О чём это вы тут секретничаете?
Она крутилась перед всеми, раскинув ручки. В купальнике, похожая на тайменёнка.
Потом мужчины рыбачили. Антон неподвижно стоял с длинным удилищем. У него не клевало. А Юрик с маленькой удочкой постоянно выбегал с окуньками прямо из озера. То с одной стороны удивляющегося рыбака, то с другой. Женщины покатывались.
А вечером, усталые, долго шли к деревне, домой. Двигались мимо притихшего золотистого ожидания вечернего пихтового леса. Мимо запрятавшихся в кусты дач без огородов, где в кронах деревьев уже вовсю шла вечерняя кутерьма голосов певчих птиц. Мимо огороженного пансионата министерства иностранных дел, где дядя Тоша по блату однажды купил Юрику бутылочку новой необычной чудесной воды под названием «пепси-кола». И, наконец, мимо соседа Бритвина на скамейке, возле которого всегда лежал на земле старый-престарый пёс Полкан, просто как кучка дымного войлока…
В вагоне поезда, идущего в Калугу, Евдокия поглаживала головку сына на своей плоской груди.
– Как окончишь десять классов, будешь жить в Москве. У дяди Тоши.
– А ты? – сразу выпрямился гвоздиком сын.
– Ну, может быть, и я…
Одни в купе, опять обнявшись, они смотрели сквозь свои лица в ночном окне на далёкие огоньки деревенек, раскачивающихся как трапеции, или на медленно проплывающие шляпы фонарей небольших станций.
Уезжая учиться в Москву, Юрий Котельников на вокзале удерживал на своей груди голову Тани Лапшиновой. Таня плакала, словно провожала его на фронт:
– Юра! Юрочка!..
Евдокия-мать с неким злорадством стояла в стороне. Однако когда поезд пошёл, сразу обнялась со своей будущей как бы снохой. И они плакали, одинаково, как собаки, отвешивая челюсти.
На первом курсе Юрий Котельников маршировал в строю по университетской аллее туда и обратно. Капитан Иванов, перебивая ногу, ловил шаг строя и как вдалбливал рукой университетским воинам:
– Э-раз, э-раз, эраз-два-три-и!.. Э-запевай!
Очень фальшиво, как только поют в строю, орали песню и били сапогами к университету, к закату. Закат позади чёрной пирамиды был как металлургический цех.
Не плачь, девчонка,
Пройдут дожди!
Солдат вернётся,
Ты только жди!..
Антон Котельников всегда шипел на жену, если она роняла что-нибудь в гостиной: «Тише ты, кулёма! Юрий работает!» На цыпочках подходил к полуоткрытой двери – заглядывал. Юрий корпел над очередным рефератом как каторжный. Он уже учился в аспирантуре.
Когда Антон Котельников уезжал с женой на работу в Канаду, он сказал племеннику: «Юра, всё, что у нас с Милой есть – твоё. Мне до пенсии шесть лет – сразу переедем в Ильинское. Ну а ты – женись. Дети чтоб, ну и вообще». Он вдруг отвернулся, плечи его затряслись. «Ну-ну, дядя Тоша! – приобнял его племенник, похлопывая по плечу. – Будет!» Продолжил затягивать ремнём большой пузатый кожаный чемодан. Антон помогал, надавливал коленом. Щёки его тлели как зори. Мила тоже потихоньку плакала, бегала, собиралась.
Уже через месяц они прислали из Оттавы племяннику красивое осеннее пальто-реглан из мягкой австралийской шерсти, а сестре в Калугу – песцовую шубку. («Как раз к твоим большим песцовым глазам!» – прокричал из Оттавы до Калуги Антон Котельников.) Но она боялась её носить. Надевала только в Москве, когда приезжала к сыну. И то – в поезде везла глухо завёрнутой, заложив её под себя, в ящик под нижней полкой.
10. Операционная медсестра
Операция была закончена. Бригада выходила из операционной в предбанник. Как окровавленные, завёрнутые наглухо монстры, мужчины сдирали с себя всё, вновь обретали лица, замятые волосы, лысины. Завьялов уже мыл в углу руки.
В операционной у стола остался Коптев с поднятыми руками. Ждал шовный материал.
Татьяна действовала без суеты, но быстро: пересчитывала использованные, уже обработанные ею антисептиком инструменты; на другом столе, глядя в свою записку – использованные салфетки, тампоны, шарики. Сошлось!
Быстро вернулась к шовному материалу у себя на столике, стерильным пинцетом из катушки вытянула шовную нить нужной длины. Чикнула стерильными ножницами. Пинцетом же ловко вдела кончик нити в иглу. Броншами вперёд подала иглодержатель Коптеву.
– Молодчина, Таня, – тихо сказал Коптев.
Склонившись, стал зашивать полостную рану. Татьяна помогала.
– Зайди к Игорю Николаевичу. Он хочет тебе что-то сказать.
Умело, как рукодельница, Коптев тягал нить.
Потом, когда больного увезла реанимация, Татьяна ещё долго прибирала всё в операционной.
Помогала пожилой Ивашовой. Пока та мыла пол, протирала подоконники, всё оборудование, мыла содой с мылом клеёнку на операционном столе.
Наконец села и стала писать в журнал: пациент, все участники операции, номер операционной, начало и окончание операции. Чётко заполнила лист расходных материалов. Всё.
У двери выключала весь свет. Как космодром, последним рухнул многосопловый светильник с потолка.
Закрыла тёмную операционную на два замка.
Завьялов неторопливо пил чай. Татьяна сидела на стуле, ждала. С сильно скошенным лбом и вспухшими верхними веками шеф походил на скифа.
– Таня, мне доложили, что ты живёшь в общежитии. У нас, на Болотникова. Это так?
Татьяна сказала, что она живёт уже два года на съёмной квартире. Снимает с Пивоваровой из перевязочной.
– Ну, и как она?
– Кто?
– Пивоварова. Можно с ней жить?
Татьяна ответила, что занимает смежную комнату в двухкомнатной квартире.
– И что же, на кухне даже не встречаетесь?
Женщина уже хмурилась.
– Зачем это вам, Игорь Николаевич?
– А я это к тому, что скоро с Пивоваровой ты жить не будешь…
Дальше он говорил, что весной сдадут большой многоквартирный дом в Чертаново и десять квартир выделяют институту. И есть большой шанс, что она, Татьяна Мантач, получит в этом доме однокомнатную квартиру.
Татьяна молчала.
– Не вижу радости, Таня! Ведь сам Столбовский сказал! Чего же ещё?..
– Поживем – увидим, Игорь Николаевич.
Да-а, железная, – смотрел на свежую молодую женщину Завьялов. Впрочем, только такие и должны быть рядом.
– Спасибо вам, Таня, – вдруг сказал ей, назвав её на «вы».
– За что, Игорь Николаевич?
– За вашу работу, Таня, – вполне серьезно смотрел на помощницу Завьялов.
Не часто такое можно услышать от шефа. Татьяна улыбнулась:
– Не хвалите, Игорь Николаевич – сглазите.
Потом докладывала о подготовленной операционной на завтрашний день.
– Первая операция завтра в одиннадцать, Игорь Николаевич. Опять полостная. Кононов из четвёртой палаты. 58 лет.
– Я знаю, Таня. Иди, отдыхай… Да-а! Большой привет Пивоваровой! Скажи ей, что я её хорошо помню!..
Завьялов смеялся. С покатым скифским носом, будто с весёлым копьем.
В кухне Пивоварова накручивала бигуди. Сырые пряди свисали с головы как лыжи.
– Тебе звонили. Опять Калуга…
Татьяна вернулась в прихожую, по восьмёрке попыталась набрать номер в Калуге. Не получилось. Заказала разговор через телефонную станцию.
Пивоварова, накручивая, кособенилась вся.
– То бывший муж из Калуги звонит, то его мать из Уфы. Переговорный пункт! Станция скорой медицинской помощи!..
Татьяна прошла к себе. Не снимая платья, прилегла на диван.
Забрызгался телефон.
– Танька!..
Татьяна уже держала трубку, ждала соединения.
– Здравствуйте. Это Татьяна. Мне передали, что вы звонили мне…
Дальше слушала торопливый, захлёбывающийся женский голос.
– В какое отделение его положили?.. Нет, вы меня не поняли: я спрашиваю – в пульмонологию опять или в хирургическое?.. Хорошо, Елена. Я всё узнаю у нас. Я позвоню. Конечно. Не за что…
Долго сидела на стуле у порога. С забытым аппаратом в руках. Сердце испуганно билось, обмирало.
– Что, опять к мужу поедешь? – высунулась Пивоварова. С башкой как тотализатор. Как барабанное спортлото. – К мужу с его новой женой?..
Татьяна встала, пошла к себе.
– О! О! О! – кривлялась Пивоварова. – Графиня Монсоро!..
Через час была действительно Уфа. Голос старухи как будто шатало, он рассыпался как песок:
– Таня, милая, что делать?..
– Ольга Ивановна, ну зачем вы так волнуетесь! Я же всё сказала вам вчера. Зачем же сноха-то вас ещё баламутит?.. Нет, никуда сейчас ехать не нужно. Может быть, придётся в Москву, но сейчас никуда не надо. Я буду вам звонить. Я всё узнаю. Не волнуйтесь. Думаю, что получится. До свидания. Не стоит. Не болейте, Ольга Ивановна…
Пила у себя кефир, прикусывая печенье. Потом мыла кружку на кухне. Пивоварова носилась за спиной как ветер.
Раздевшись до комбинации, в позе лежащей русалки пыталась читать. Но через какое-то время взгляд ушёл от книги и даже от дивана, начал дрожать в слезах… Села. Вытирала глаза подолом комбинации.
Потом к Пивоваровой пришёл Жиров. Галька, напевая, начала бегать на кухню. Через час они закрылись и включили свою долбёжную музыку, сопровождаемую то коротким поросячьим визгом, то глубокими женскими стонами.
Татьяна хотела уехать к Котельникову. Уже набрала номер, но положила трубку.
Лежала, поглядывала на люстру под потолком. Люстра, похожая на царевну в жемчугах, слегка потрясывалась.
Часов в двенадцать, когда музыка разом оборвалась, точно слетев с копыт, Татьяна села за стол писать ответное письмо матери в Башкирию: «…Мама, зря ты ругаешь меня. Я не могу отказать Сергею в такой трагический момент его жизни. Да он, как всегда, ничего и не просит. Наседают его жена и Ольга Ивановна. Звонят каждый день. То Уфа, то Калуга. Как я могу отказать им? Ведь именно я что-то смогу сделать в Москве, чтобы вытащить его из болезни. Он чужой мне, мама, давно чужой. Но я не могу без боли думать сейчас о нём. Все эти его бабёнки, все эти измены, его поспешная женитьба после развода – на фоне теперешнего трагического его состояния выглядят настолько мелкими и ничтожными, что и говорить-то о них не стоит. Я во всем виновата, я, мама. И в разводе нашем, и вообще. Трудно со мной было жить. Вот в чём дело. Я приносила одни несчастья. Как это тебе объяснить? Поэтому упреки твои, назидания сейчас просто дики. Нужно помочь человеку. Помочь, понимаешь, и всё. И я должна это сделать. Скоро поеду опять в Калугу. Необходимо взять выписки с самого начала болезни и по последним обследованиям. Ты же прекрасно сама понимаешь, что от этого сейчас зависит всё. В институте я уже говорила с шефом, и он обещал сразу же поговорить со Столбовским, как только тот вернётся из Армении.
И ещё. Не нужно ничего скрывать от папы. Ты этим его только обижаешь. К Сергею, в отличие от тебя, он относился хорошо.
Как твоя нога, мама? Мазь (другую) вложила в посылку. Скоро с посылкой и получишь. Не роняй больше кастрюль с кипятком на ноги.
С жильём всё так же. Приходится пока жить с Пивоваровой. Что-то начало маячить на работе, но я мало в это верю. Было это всё, не раз.
Ну, дорогие мои, крепко вас обнимаю и целую! Не болейте. Пишите. Летом обязательно увидимся.
Таня».
11. Зина, Танюшка и Михаил
…Возле двухэтажного барака, на тротуаре, робко облаивали прохожих две старые собаки. Да обе-то они хромые, да безработные. Ох, да без хозяина они, да без своего угла. Заглядывали в лица: может, возьмёте нас с собой? Подходим, а?..