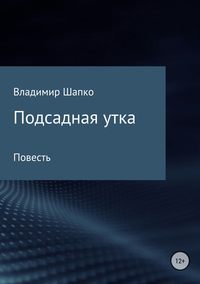полная версия
полная версияСемь повестей о любви
Чуть погодя облаивали нового прохожего. Так же просяще, жалко: не пугайся, какая уж тут храбрость у нас теперь, так – симуляция одна. А хлеб-то есть надо. Эх-х…
Из подъезда барака выходила Танюшка Мантач. С портфелем, в белых гольфиках и темном платьице с фартуком. Ученица третьего класса.
– Пуля! Григорий!
Собаки, прекратив представление, поспешно ковыляли к ней, обе как на костылях.
Из целлофанового мешочка Танюшка вываливала им в плошку еду. Стояла с портфелем в руках, смотрела, как псины быстро съедают всё.
Потом гладила собак. Пуля, зажмуриваясь, вытягивала под её руками длинную узкую морду как ласку. Григорий был хмур, ждал своей очереди.
– Таня, не трогай их руками! – всегда говорила мать из окна второго этажа. – Сколько тебе говорить? Придёшь в школу, сразу же вымой с мылом руки. Слышишь?
– Хорошо, мама, – послушно отвечала дочь, уже выбираясь из низины двора на горбатый тротуар. С двумя рыжими, хорошо вздёрнутыми метёлками по бокам круглой головы. Собаки пошли было за ней, но она им что-то сказала, погрозила пальцем, и они вернулись во двор, присели как инвалиды и стали смотреть на мужчину и женщину в окне на втором этаже, ломая уши вопросами.
– Когда ты их прогонишь? – глядя на собак, спрашивала у гражданского мужа Зинаида Куприянова, дипломированная медсестра. Работающая в станционной поликлинике.
Михаил Мантач, всего лишь простой сцепщик вагонов со станции, был добродушен:
– Да пусть. Пускай присматривает за ними…
– Так заразят же её! Твоего ребёнка! Лишай, глисты! Всё что угодно может у них быть. Неужели непонятно?
– Да ладно тебе, Зина, – примирительно говорил Михаил Мантач, уже одетый для работы, и, взяв со стола завернутые бутерброды, шёл к двери.
Как грязный апельсин, выбирался к тротуару той же дорогой, что и его дочь. Только поворачивал в другую сторону, к станции.
Собаки не двинулись за ним, не повели даже глазом, по-прежнему внимательно следили за женщиной в окне.
– Пошли отсюда! – махнула она им.
В обед Зинаида Куприянова глянула в окно и обомлела – за дочерью с портфелем передвигались уже четыре собаки. По тротуару ковылял целый госпиталь!
– Пуля! Григорий! Чапай! Короед!.. – командовала дочь.
– Где она их находит?! На каких помойках?! – кричала вечером Зинаида мужу: – Где?!
Муж виновато уводил глаза.
– И потом – почему Короед?..
– Он кору грызёт, мама, – поясняла дочь, оторвавшись от уроков. – Как заяц…
– От голода, что ли?
– Не знаю…
Вечно голодные, собаки начинали лаять во дворе барака спозаранку. Особенно жалобно выводил под окнами Короед.
Старик Зяблин с первого этажа капнул в санэпидемстанцию. В Уфу. И псы через какое-то время исчезли.
Танюшка бегала по посёлку, искала своих собак:
– Пуля! Григорий! Чапай! Короед!..
Родители не знали, что делать.
Зинаида принесла от подруги ручную болонку Матильду. Вроде как на время. Поиграться дочери.
Дочь повернула красные от слёз глаза, посмотрела на заросшую противную собачонку с бантиком на макушке – и снова отвернулась к учебнику, мало что в нём понимая.
– Танька, выходи-и! – кричали ей со двора.
Но Танька не выходила. В ту осень она больше не прыгала с девчонками через летающую скакалку во дворе.
Родителям порой казалось, что дочь забыла своих погибших собак, стала прежней, спокойной, серьёзной. Но каждый раз, едва заслышав лай со двора, Танюшка кидалась к окну… Говорила, постояв:
– Это другие собаки… Их лучше не приручать…
Родители в растерянности смотрели друг на друга.
По вечерам за стенками с обеих сторон бушевали телевизоры, а в комнате у Куприяновой и Мантача Михаила было словно в тени – относительно тихо. Под светом абажура все трое сидели за одним столом. Зинаида что-нибудь шила. Плавными её вдохами и выдохами казалась гуляющая иголка с ниткой. Рыжие чупрыны на склоненной голове Михаила были будто разложенный пионерский костер – он всегда читал свою фантастику и приключения. Танюшка сидела между ними, готовила уроки.
Иногда Зинаида смотрела на рыжую дикую голову мужа. Потом на такие же густые рыжие волосы дочери, уже распущенные для сна. Точно впервые удивленно отмечала: надо же такой похожей родиться! Даже глаза передались от отца. Цвета пёстрого крыжовника. Моего ничего нет! У неё самой глаза были просто как две смородины, а волосы и вовсе – серым блином на голове.
Зинаида начинала мягко раздвигать рыжие дебри дочери. Чтобы лучше было видно её розовенькое личико. Чтобы раскрылось оно совсем. Как на картинке.
– Ну, мама, мешаешь, – мягко отстранялась Танюшка. Снова клала голову почти на стол и продолжала любовно выводить в тетрадке.
– Выпрямись! Сядь прямо! – старалась быть строгой Зинаида.
Приходила ещё одна рыжая – Лидия Семёновна Мантач. Мать Михаила, бабушка Танюшки. В её рыжих волосах с густо вылезшей сединой от корней было что-то от сенника.
– Всё читаешь, – говорила она сыну, – вместо того, чтобы учиться. (Сын сразу откладывал свою фантастику.)
У неё было только две темы для разговора в этой семье. В семье младшего сына. ЗАГС и Уфимский железнодорожный техникум. Техникум в Уфе она сама когда-то закончила, ещё до войны, и «была потом человек», а младший сын её до сих пор, до тридцати пяти лет, «ползает под вагонами как распоследний грязный чумичка и маслёнит буксы». Как на такое смотреть?
И вторая тема – ЗАГС…
– Да это же стыдоба перед всей станцией! Девчонке девять лет («девчонка» наглядно жмурилась под её рукой, как кошка), а они сидят. Вышивают, читают книжки!
Михаил говорил свое «да ладно тебе, мама», (эхом «да ладно тебе, Зина»), а Зинаида сразу начинала бегать, собирать чай – она была готова слушать про ЗАГС и Уфимский техникум весь вечер.
Лидия Семёновна всегда сидела в центре стола, прямо под абажуром. Слева от неё пила чай Танюшка. Справа послушно, как ещё один её внук, сидел Михаил. Напротив – сноха. Та всегда оставалась при заварном чайнике, печенье или пирогах.
– Баба Лида, съешь конфетку, – как маленькой, предлагала бабушке внучка.
– Я смотрю, у вас денег много, – разглядывала большую конфету «Мишка на Севере» Лидия Семёновна. И возвращала конфету внучке: – Съешь её сама, доча.
Она пила чай по-татарски – без сахара. Сухой рукой в помеси рыжих и старческих пятен крепко держала стакан.
– Завтра вытаскаешь из погреба оставшуюся картошку, – говорила сыну. – Надо просушить её и отсортировать.
– Хорошо, мама, – отвечал Михаил. И дальше сидел возле матери скромненько, послушно, ухватив меж колен рукой руку. Казалось, напрочь забыл и про дочку и про жену – оставался преданным матери с самого детства.
Часов в десять вечера Лидия Семёновна всегда укладывала внучку сама. Раздевала её, стоящую на кровати. Голенькая Танюшка покачивалась с пылающими перед сном щёчками. С поднятыми руками, как сдаваясь, улетала в белый полотняный сон.
Лидия Семёновна возвращалась к столу, пила последний стакан. Несмотря на то, что десять лет уже как была на пенсии, по-прежнему оставалась членом жилищной комиссии Райисполкома. И Зинаида осторожно заводила один и тот же разговор, что хорошо бы маме похлопотать за Михаила. Чтобы ему дали однокомнатную квартиру.
– Не мне, мама, – Михаилу…
– Ещё чего! – всегда одинаково восклицала Лидия Семёновна. И говорила про сына, как про постороннего: – У него есть площадь в родительском доме… Вот если распишется, – на очередь поставим сразу!
Обе женщины, молодая и старая, поворачивались к упрямой, уже склонённой над книжкой голове.
– Эй, читарь! – говорила старая женщина. – О тебе ведь говорим…
…В высокой траве Танюшка шла за отцом к реке. В большой маминой штормовке походила на широкогрудого мужичка в сапожках. Одной рукой она прижимала к себе проволочные кольца садка, в другой руке был увесистый черпак.
Они сидели в лодке прямо на середине Дёмы. Лодку папка закрепил на тросу поперёк реки. Как бы перегородил ею реку.
Пока отец набивал сетку кошеля пареным овсом, Танюшка гладила водяные цветы, вспухающие за бортом лодки.
– Не наклоняйся к воде! Выпадешь!
Отец встал, покачал в руке тяжёлый кошель и кинул его на веревке в реку. Метров на десять вниз по течению. Вымыл руки, обтёр их тряпицей и сел на место. Достал папиросы, закурил.
Ожидая когда у кошеля на дне соберётся побольше рыбы, отец и дочь долго сидели на двух смежных скамейках, поставив ноги по обе стороны их. (Под Танюшкой была ещё навёрнута на доску телогрейка.) Они находились в самом устье Дёмы, где речка, широко расплываясь на стороны, сливалась с Белой. Слева, как тёмный доисторический динозавр, стоял в реке железнодорожный мост. Прямо через Белую тонули в туманах по горе домишки уфимской слободки. Из-за горы во всё небо било встающее солнце.
Наконец начали рыбачить. Михаил почти в каждую проводку подсекал. Вытаскиваемые рыбины казались Танюшке живыми бьющимися зеркалами. Она суетливо подсовывала под них подсачик.
– Михаил! Хватит! – всегда неожиданно прилетал с берега голос, заставляя рыбаков вздрогнуть.
– Да ладно тебе, Зина, – не сразу отвечал главный рыбак. – Рыба подошла…
– Ребёнка простудишь, – ознобливо запахивалась в плащик Зинаида.
И ведь не спится дома в тепле! Прибежала. Рыбаки недовольно начинали «сматывать удочки».
Жареные кусками лещи были очень вкусными. Танюшка будто держала в ручках золотистые острые клыки. Ротик её блестел от жира.
Идя на работу, Михаил заносил свежей рыбы и матери.
– Опять ребёнка на рыбалку таскал! – разглядывала Лидия Семёновна висящую в руке тяжёлую снизку рыбин.
– Да ладно тебе, мама, – уходил от матери сын по тропинке, обсаженной флоксами. Дальше шёл по улице. Возле дома матери оставался пышный, кипенно-белый сиреневый куст.
…В уфимском парке имени Якутова Михаил смотрел, как под гигантскими тополями проходил игрушечный поезд и из окна его махала ручонкой Танюшка. И всё было в этом поезде всерьёз: и настоящий, как седой барбос, машинист в кабинке паровоза, и девчонки-кондукторши в форменной одежде и с флажками, и как замолчавшие птичники – дети в вагонах.
Танюшка проплыла мимо два раза.
На озере, плотно окружённом деревьями, недвижно застыли два лебедя. Как неживые. Как на картине у старика Зяблина с первого этажа.
– Пап, а почему они не улетают отсюда? Здесь же город. Они привязаны за лапки, да?
– Что ты, доча! Просто прирученные. Их кормят тут…
Дав на себя посмотреть, лебеди быстро поплыли к своему домику на плоту, словно отобранному у Бабы-яги. Влезали на плот как люди – по очереди вытаскивая из воды длинные лапы. И сразу начинали есть заработанную еду. Из корчажки. Заглатывая, длинными шеями дергали как выдергами…
– Пойдём отсюда! – потянула за руку Танюшка отца.
В детском кафе под зонтами ели мороженое. Отец подкладывал из своей чашки в чашку дочери белых шариков.
– Не подкладывай! – как с неба упала Зинаида с сумками и связками пакетов. – Не подкладывай. Гланды. Забыл? – Навешивала всё на свободный стул.
– Да ладно тебе, Зина… – помогал Михаил.
В электричке ехали уже в восьмом часу вечера.
Как заветренный степной глаз, проглядывало солнце из облачка над Дёмой. Сквозь фермы на мосту Танюшкины глаза слепили солнечные пятна…
12. Лекция по теории перевода
«Первое и самое главное, – говорил Юрий Аркадьевич Котельников, планомерно вышагивая вдоль стола, – уметь распознать в тексте фразеологизмы, в отличие от свободных единиц…»
Останавливался у края стола. На небо в высоком окне смотрел как из церкви. Опять пропала. Не звонит. Когда это кончится? Этот женский садизм?.. Опомнившись, снова ходил вдоль стола.
«…Наиболее продуктивный путь – это новые выделения в тексте противоречащих общему смыслу единиц, поскольку, как правило, именно появление таких единиц и свидетельствует о присутствии переносного значения…»
Оськин, наконец, прочитал два моих новых раздела. Сегодня, кровь из носу, поймать его!
«…Немаловажное различие между письменным и устным переводом заключается в том, что, осуществляя каждый из этих видов перевода, переводчик имеет дело с неодинаковыми отрезками оригинала…»
На столе рылся в портфеле. Куда дел листки Кучеренки? Сегодня же надо показать их Оськину!..
Розе Залкинд надоел смурной Котельников:
– Что с вами, Юрий Аркадьевич? Вы заболели?
– Всё в порядке, товарищ Залкинд. Отвечу на ваши вопросы в конце. Далее: «Фразеологизмы имеют определённую стилистическую окраску. Это могут быть элементы высокого, нейтрального или низкого стиля, профессиональные или другие жаргонизмы…»
Опять с тоской смотрел в высокое окно. Потом что-то искал в портфеле…
С забытыми улыбками студенты боялись дышать. Залкинд фыркала.
Котельников пришёл в себя только на лекции лингвиста Ильинова, куда завёл Кучеренко. Сидели рядом, затерявшись в студентах.
Ильинов походил на очень полный скрипичный ключ, сидящий на стуле. Говорил тихо, короткими фразами. «Без всяких брызг». Но слушать его было страшно интересно.
Иногда он вставал со стула, переносил свои жиры к доске. Брал мел и, как из пригоршни, сыпал на доску Анафоры. Звуковые и морфемные. Из Пушкина и из Лермонтова. Возвращался на стул, ждал, когда студенты переварят написанное. Снова тихо говорил.
Студенты аплодировали ему бешено. Как будто избивали его аплодисментами.
Котельников и Кучеренко в общем потоке выходили как из театра. Восхищённые, красные, вытирались платками. «Да-а, вот бы к такому под крылышко попасть. А, Юра?» – говорил Кучеренко.
Профессор Оськин опять бодрил себя в коридоре. На сей раз аспиранток было три. Оськин длиннозубо улыбался, наклонялся к ним. Шейный платок его был богатым, попугайным. Таким же, как и малиновый с разводами пиджак, привезённый им из Братиславы.
Как всегда неожиданно для себя увидел Котельникова. Словно постоянно свербящую совесть свою. Сбивающую всегда всё очарование. Пропустив даже приветствие подопечного, недовольно сказал:
– Вам же передали – всё у Зубина.
– Но Леонид Соломонович! Хотелось бы услышать ваше мнение о моей работе.
– Юрий Аркадьевич, я сейчас очень занят. Как-нибудь на той неделе. Изучите пока мои заметки на полях. Думаю, этого будет вам для начала достаточно. Работайте, дорогой!
Повернулся к аспиранткам:
– Так о чём я, мои дорогие?..
– О Братиславе, Леонид Соломонович! О конференции в Братиславе! – с радостью напомнили аспирантки. И снова млели перед всем многоцветием профессора Оськина.
– Старик, – сказал Зубин, передавая папку Котельникову. – Вряд ли ты что-нибудь поймёшь. Шеф, как всегда, чудит на полях… А вообще неплохо. Молодец. Поздравляю! – Шейный платок был повязан на Зубине точно так же, как у шефа. Однако простой серый пиджак не шёл в сравнение с профессорским малиновым. К тому же стекла очков ассистента с очень большими диоптриями больше сгодились бы, наверное, для донцев банок, чем для очков. Да и аспиранток Зубин пока ещё побаивался.
Котельников не удержался, развязал папку в коридоре. На подоконнике… «Заметки» были накиданы на полях с тем китайским щегольством, с тем пиктографическим безобразием, с каким пишут только самодовольные профессиональные критики. Понять, о чём это, было невозможно… Ладно, дома всё. Через лупу. С въедливостью криминалиста.
Вечером Кучеренки повезли к себе на Речной, где уже три года снимали квартиру. В летящем вагоне Галя рассказывала последние слухи и сплетни От канцелярии деканата. Весёлые глаза её выглядывали из лисьей шапки как из стожка. Муж со своим ротиком печального окунька привычно грустил, держа её под руку. Шикарная осенняя кепка на нём была цвета льдистого снега.
По дороге к дому купили две бутылки хорошего вина.
В тесной квартирке ужинали, поднимали бокалы. Галя всё время подносила что-нибудь на стол. Готовить она умела. Мужчины говорили о диссертации Кучеренки.
– Может, тебе бросить Загорову и договориться с Оськиным? – спрашивал Котельников, обмакивая пельмень в острый соус в розеточке перед собой. – Хочешь, я с ним поговорю?
– Хрен редьки не слаще, – отвечал Кучеренко, кидая в ротик пельмени без всякого соуса. – Твой пример тому подтверждение.
– Тогда, может быть, плюнуть на всех и попытаться двинуть всё самому? Написать письмо в ученый Совет. Создать, так сказать, прецедент. А, Коля?
Кучеренко скосил свой окуньковый ротик набок. Точно неприемля наживку.
– Нет, Юра, не выйдет. – Отложил вилку. – Скажу тебе как «Кучер из деревни» («Кучер из деревни» – прозвище Кучеренки, прилипшее к нему ещё со студенческих лет.): – Мы, Юра, как пристяжные в русской тройке – норовим скакать в стороны. Шеи выгибаем, удила грызём. А без хорошего коренника – мы никто. Только кувыркаться будем по обочинам…
Галя, подкладывая мужу, тоже что-то втолковывала ему. С колокольни канцелярии деканата. Но «Кучер» уже задумался. Голова его с будто застрявшими в волосах белыми нитками сомнамбулически покачивалась. Слегка опьяневший гость, подпершись ладошками как баба, смотрел с печалью на супругов. Живут много лет на съемных квартирах. Своего жилья нет, и не светит. Ребёнок где-то у бабок у дедок. Галина с высшим образованием работает простой машинисткой в деканате. И всё ради Коли… А Коля вот – ни тпру, ни ну…
Когда уходил, Кучеренко тоже сразу собрался, чтобы проводить.
На улице мело. Слезливые фонари удерживали бьющиеся сарафаны снега. Кучеренко нёс свою шикарную кепку как пушистую поляну. Откинув капюшон, Котельников голову в летящем снегу остужал.
– Юра, как у тебя с Татьяной?.. – осторожно спросил Кучеренко.
Котельников весь вечер ждал этого вопроса и вот дождался.
– Да никак. Просто опять пропала…
– Забудь, Юра, её. Погибнешь. С дистанции сойдёшь… Вон уже что на лекциях с тобой стало происходить…
Котельников молчал. На голове словно нёс бараний жир.
У входа в метро крепко пожал руку друга.
В полупустом вагоне, согнувшись, покачивался у двери, будто поставленный в угол. За стеклом летел человек, нос которого роднился с обувной ложкой. Разве может нормальная женщина такого полюбить?
На голове у человека умирал снег.
13. Филармония
Она пришла к нему опять только через неделю после того дня, когда он подвернул ногу.
Он прерывисто дышал, приходил в себя на полу, а она уже как ни в чём не бывало сидела на диване, ритуально расчёсывала свои волосы. Однако оставалась с двумя предательскими пятнами на щеках. Как с двумя лепестками роз…
Словно разгадав её притворство, Котельников радостно смеялся. Опять лез обнимать её. И она сдавалась, снова сваливалась с ним на пол, на одеяло, пряча от него пылающее лицо.
Она, видимо, поэтому и любила его всегда на полу. Чтобы уползать от него. Медленно переворачиваться в своих волосах. Чтобы он не видел её развратного, как она, наверное, считала, лица.
И в то же время она, казалось, нисколько не стеснялась его после близости. Она спокойно расчёсывала свои волосы. Вся розовая, нежная, с сосками как земляника.
И Котельников опять смотрел на неё точно на золотого своего божка, исполняющего ему равнодушный многорукий танец. Любя её бесконечно, наивно стремился понять её женскую природу, её тайну.
Одетая, она вела себя в комнате как кошка, не имеющая своего места. Пока он метался в кухне, готовил что-то на скорую руку, она осторожно ходила по гостиной, робко трогала разные предметы. Часы в виде треуголки Наполеона, хрустальную вазу с конфетами на столе. Брала специальные журналы Котельникова, но сразу клала их на место. Потом садилась на самый край сталинского дивана, как будто ей совершенно незнакомого, смотрела на три портрета на стене. На мужчину с мосластым черепом и двух его женщин. Тоже как будто впервые видя их. У неё не было места в этом доме. Не было зубной щетки в ванной, не было домашнего халата.
Котельников уже бегал, одетый в треники и майку, носил на стол, а она так и сидела с ручками на коленях.
– Таня! Ну что ты сидишь? Помогай! – Он улетал обратно на кухню.
Как доброй хозяйке, ей нужно было стремглав бежать за ним на кухню, принимать от него всё, нести на стол, но она изображала жену, не сходя с места, в гостиной, быстро переставляя на столе тарелки и стаканы. (Так напёрсточник прячет шарик.)
Сидя потом за столом в шерстяном платье с коротким рукавом и тонком свитере, она словно разом отгораживалась и от полураздетого Котельникова, сидящего напротив и размахивающего вилкой. Впрочем, Котельников тоже сразу чувствовал этот мгновенно возникший забор, в спальне быстро переодевался и выходил к столу в приличной джинсовой рубахе и нормальных брюках. Получалось – выходил во второй раз.
В каком-то умопомрачении уже он ел и думал, чем ещё заинтересовать её, увлечь. Ведь после близости всё разом менялось. Напротив за столом всегда сидела отчуждённая женщина. Он понимал, что кроме постели нужно ещё что-то. Сколько бы он ни размахивал руками. Он даже цветов подарить ей не мог. Не покупать же их заранее и вручать здесь, в своей квартире…
Вдруг показалось, что нашёл выход:
– Таня, давай сходим на лыжах! Возле университета отличная лыжня! Если у тебя нет лыж – я достану. А? Таня!
– Я не люблю спорт, Юра, – ошарашила его женщина. Помолчала и сказала: – Если ты не против, можно сходить на концерт.
– Отлично! На какой? Куда?
– В филармонии завтра играет симфонический оркестр. Чайковский в первом отделении, во втором Шостакович. Если ты свободен после пяти – можем сходить.
Котельников раскрыл рот.
Татьяна рассмеялась:
– Вот билеты, Юра. Завтра в шесть у входа. Надеюсь, знаешь, где филармония в Москве?..
…После звонка не торопясь двинулись со всеми в зал. Котельников оберегал руку любимой как драгоценность – его впервые вели под руку. Татьяна была всё в том же платье и свитере, что и вчера, он же – в бостоновом выходном костюме, в белоснежной рубашке и бабочке. (Бабочку сумел отыскать у дяди Тоши в шкафу.)
Сам зал оказался очень просторным, сильно напоминающим цирк. Татьяна тут была как рыба в воде – уверенно прошла, прижимаясь к спинкам кресел, на нужные места в четвёртом ряду и помахала ему рукой.
Оркестра на сцене ещё не было. Пюпитры музыкантов напоминали какое-то скопище тонконогих птиц. Раздались аплодисменты – на сцену начали выходить молодые длинные скрипачки со скрипками. В облегающих концертных платьях – как сельди. Из-за тесноты мужчины с духовыми инструментами передвигались к своим местам боком. Когда все расселись, секунд на десять широко затрубил карнавал животных. И разом смолк. Теперь музыканты к игре были готовы.
Под новые аплодисменты покатился по сцене дирижёр. Он был как турок перепоясанный широким атласным поясом. На подставке намекнул на реверанс. Отвернулся к оркестру, поднял ручки.
От музыки Чайковского Котельникову почему-то хотелось плакать. Татьяна с опущенной головой окаменела. Пальцы её, сжавшие руку Котельникова, были ледяными.
Как по заданному кем-то уроку, в антракте гуляли в вестибюле со всеми по кругу. Неторопливо, самодовольно. Котельников снова носил руку Татьяны как драгоценность, оберегая. После звонков вернулись в зал на свои места.
В Первой симфонии Шостаковича пригнувшийся пианист всё время наяривал. А трубач, солирующий с ним, в паузах удерживал трубу очень нежно – как амфору.
После концерта медленно шли в сторону Пушкинской. Словно в благодарность за вечер, за музыку, Татьяна взяла его под руку обеими руками. В витринах по-цыгански развешенные женские ткани были уже в новогодней блёсткой мишуре. Кое-где стояли небольшие искусственные ёлки, как сокращённые сказки с одними только большими слезящимися шарами. Навстречу, курясь морозцем, текли и текли весёлые люди. Один за другим проносились троллейбусы, полупустые и ярко освещённые внутри, как вымерзшие к ночи праздники.
– Тебе не холодно? – спросил он, одетый в свой импортный мягкий реглан и шапку.
– Нисколько, – планомерно покачивала она капюшоном в песцовой опушке. – Понравился концерт, Юра?
– Да, очень! Особенно музыка Чайковского.
– А Шостакович?
– Тут не совсем. Это какая-то музыка, исполненная на табуретках. (Она рассмеялась.) Я просто до неё, видимо, не дорос. За все годы, что живу в Москве, я ни разу не был на концерте серьёзной музыки. Ни разу, Таня. Ни в консерватории, ни вот в филармонии. Так что тут я полный профан. К стыду своему.
Она прижала его руку к себе, как бы говоря: ничего, Юра, это дело мы поправим. Будешь ходить на концерты как миленький.
Он смеялся после своих признаний. Он вдруг почувствовал, что сейчас самый подходящий момент, чтобы задать ей свои вопросы. Она, оттаявшая после концерта, не сможет как обычно уйти от них, увильнуть. Не получится у неё сейчас.