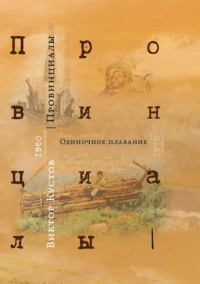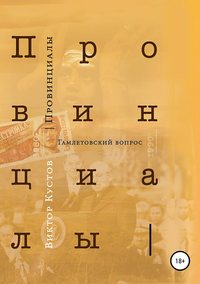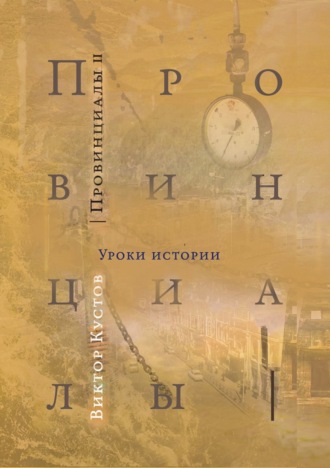
Полная версия
Провинциалы. Книга 2. Уроки истории
– Понимаешь, старичок, не могу туда найти толкового редактора, а там учится несколько тысяч молодых людей, у которых черт знает что в голове… Предыдущий редактор, женщина, там такую демократию развела, что до тайного общества дело дошло… Мы ее перевели на другую работу. А в газете сейчас молодой литсотрудник. Но он слабоват, партком никого подобрать не может… Давай, на время.... Я понимаю, после центральных газет и журналов тебе это неинтересно, но выручи товарища, а то мне выговора не избежать…
– Признаться, я не думал, – неуверенно начал Черников, еще не решив до конца, отказываться от неожиданного предложения или нет.
Но Коростылев уже звонил в партком политехнического института и расхваливал сидящего напротив товарища, который рекомендовался горкомом на место редактора многотиражки.
– Мне жить негде, – вставил Черников, уже примеряясь к новой должности. И Коростылев тут же передал это невидимому секретарю парткома и повторил слова того, что комната для редактора в общежитии найдется.
– Устроит на первое время? – спросил, закрыв трубку ладонью. —
Ты без семьи?
Черников кивнул, одновременно соглашаясь на комнату и отвечая на вопрос.
– Он согласен, – озвучил этот жест Коростылев и добавил: – Сейчас подъедет…
Он торопливо вывел Черникова из серого серьезного здания, то ли опасаясь, что тот передумает, то ли торопясь на обед, просил заходить без всякого и делиться проблемами, на прощанье заметил, что зря тот не пошел по комсомольско-партийной линии, потому что вполне мог бы уже сидеть в Москве если не в главном, то уж в комсомольском ЦК точно.
Черников не стал возражать, а тем более вводить того в курс своих непростых отношений с партией, из которой его уже обещали исключить, но в которой он еще продолжал состоять и платить взносы, до конца не понимая, зачем это теперь ему нужно.
…Секретарь парткома института Цыбин был уже немолодым, седоволосым, сутулым из-за своего немалого роста и чем-то напоминал классические портреты пролетарского писателя Максима Горького.
Он курил крепкие сигареты без фильтра, все время о чем-то глубокомысленно думал, спрашивал отточенными формулировками, ответы на собственные вопросы, казалось, совсем не слушал. Только взглянул на партийный билет, заметил, что уже два месяца не выплачены взносы, на что Черников ответил, что находился в творческом отпуске, зарплату не получал, но теперь, как и положено, будет платить.
Цыбин велел написать два заявление (и на работу, и в партийную организацию), сказал, что через день состоится заседание парткома, на котором его утвердят, а пока он может ознакомиться с газетой и своим коллективом.
Коллектив состоял из единственного литсотрудника Димы Лапшакова, год назад закончившего университет, и, похоже, не самого успевающего студента. Кабинет, где размещалась редакция (два стола, пишущая машинка и книжный шкаф с перегнутой подшивкой и чайными чашками), был раз в пять меньше кабинета Цыбина. Газета неожиданно оказалась вполне грамотным, приличным по верстке и не занудным по содержанию четырехполосником. Черников спросил у Лапшакова, есть ли что-нибудь в запасе в редакционном портфеле и наличествует ли актив рабкоров. На удивление, и то, и другое было.
Это вселяло оптимизм и в какой-то мере компенсировало скудный оклад, размеры которого сразу же вызвали желание как можно быстрее покинуть город юности (он запоздало пожалел, что не поинтересовался этой немаловажной стороной бытия у Коростылева).
Правда, Цыбин пообещал регулярные премии, а также не возражал, если он будет пописывать и в другие газеты.
Посидев в довольно жестком редакторском кресле, выкурив пару сигарет, чтобы перебить все еще оставшийся от предыдущего редактора запах то ли духов, то ли пудры, устроив несложный экзамен явному троечнику, но старательному литсотруднику, Черников пошел устраиваться в студенческое общежитие, где один этаж был отдан молодым бесквартирным преподавателям и аспирантам и напоминал некий филиал неорганизованного детского сада. Свободная комната оказалась самой дальней и крайней, по этой причине имела соседей лишь с одной стороны, и, как он понял несколько позже, это было большим преимуществом.
Устроившись в общежитии, он пару дней (до заседания парткома, на котором его должны были утверждать) посвятил походам по памятным местам славной юности, предаваясь щемящему чувству необратимости времени. Сходил в театр, посмотрел пьесу Вампилова «Валентина», послушал мнение театралов и о гениальности так рано ушедшего таланта, и о том, с чьей помощью или благодаря чьему бездействию (товарища в лодке) это произошло.
В буфете столкнулся с задумчивым Валей Распутиным. Они не были знакомы накоротке, так – несколько встреч, Черников был слишком активен в студенческие годы, а Распутин в активистах не ходил. К тому же теперь тот уже был членом Союза советских писателей, подающим большие надежды. Черников не без зависти с карандашом в руке прочел его повесть «Деньги для Марии» в «Юности», найдя немало стилистических погрешностей, но тем не менее должен был признать, что Валя и вправду талантлив.
Хотя Вампилов был явно талантливее…
Распутин не сразу его узнал, но поздоровался и потом охотно стал припоминать компании, в которых им случалось вместе бывать в уже прилично отдаленном прошлом.
– Как же так… – разводил руками Черников, имея в виду судьбу человека, замечательную пьесу которого они теперь смотрели, сидя в бархатных креслах.
Распутин развел руками, заметив, что, конечно, могло бы быть все иначе, если бы… Потом поинтересовался, пишет ли что Черников, он ведь вроде что-то пописывал…
Черников не стал обижаться на «пописывал», потому что уже знал – у Распутина вот-вот новая повесть выйдет в «Нашем современнике» (ему там отказали), и назвал несколько своих очерковых публикаций в «Юности», умолчав о рассказе, который увидел свет гораздо раньше повести Распутина.
– Да-да, помню… Гена Машкин говорил – интересные очерки…
(О Машкине, кажется, выпускнике геологоразведочного факультета политеха, Черников слышал. И даже читал его повесть в той же «Юности» – «Синее море, белый пароход». Вполне приличная вещица… )
Они расстались почти друзьями. Распутин приглашал заглядывать в Дом Союза писателей, хотя тут же сказал, что он не очень-то любит там бывать. Но тем не менее бывает…
И отошел к ожидавшим его друзьям или поклонникам…
«Не мечите бисер…»
Приглашением Распутина заглядывать в Дом Союза писателей в Иркутске Черников не преминул воспользоваться, тем более, что время свободное у него было. При редакции институтской газеты крутились несколько старшекурсников, внештатных корреспондентов (предыдущий редактор сумела их завлечь возможностью бесконтрольно засиживаться в редакции допоздна), с подготовкой очередного номера он справлялся за пару вечеров, поручая литсотруднику Диме Лапшакову контролировать печать в типографии, и в свободное время подрабатывал, выполняя заказы «ВосточноСибирской правды» и «молодежки», выдавая по паре материалов в месяц, относящихся либо к культуре, либо к образованию.
Публикации эти были замечены (все-таки перо у него было), имя вспомнили (а кто и узнал заново), и он стал своим среди пишущих.
…Это, конечно, не тот круг, который Черников знал в Москве, но все же богема, с которой в студенческие годы он не часто соприкасался, и поэтому теперь ему было интересно посещать шумные и дымные заседания писательской братии, театрализованные сборища молодых и не очень (но ощущавших себя молодыми ) актеров двух иркутских театров (драматического и ТЮЗа), наблюдая похожую и чем-то все же отличающую от столичной суету. Дух декабристов оказал свое влияние на творческую прослойку местного общества, оно было пропитано революционным задором и высокими помыслами. Казалось бы, далекие от архитектуры литераторы на одном из заседаний отделения Союза писателей с такой горячностью обсуждали проект генеральной застройки набережной части города, что чуть не порвали представленные эскизы, горячо отстаивая свое видение. На обсуждении только что вышедшего в Москве романа Геннадия Машкина от критики и споров со стены сорвался огнетушитель и щедро полил разгоряченных писателей. Обсуждение еще не поставленных пьес Вампилова было дополнено не менее длительным высказыванием полярных мнений по поводу дуэли двух актеров ТЮЗа (мужа и любовника), за неимением пистолетов стрелявшихся из охотничьих ружей, закончившейся легким ранением одного из дуэлянтов.
Так же интересно ему было бродить по коридорам огромного и многолюдного политехнического института, наблюдая новую молодежь, поколение следующее, отличающееся от них большей раскованностью, не говоря уж об ином облике (особенно девушек, позволяющих себе ходить в брюках и откровенных блузках…). Оно ему казалось инфантильно-послушным, хотя у этого поколения были грандиозные стройки, неведомые прежде студенческие строительные отряды, высочайший спрос на их головы и руки. Может быть, его раздражала бездумная вера молодых, что они живут в самой большой и сильной стране мира, несмотря на то, что в магазинах все реже появлялось мясо и колбасы, все длиннее и злее становились очереди, а понятие «дефицит» породило и сделало повседневным новый смысл слова «достать».
В этом новом поколении (в числе тех, кто приходил в редакцию, приносил свои заметки, а чаще стихи), он не увидел желания понять, что же происходит с их страной, куда они все так целеустремленно бегут, завороженные кумачом революционных праздников, и однажды собрал самых активных вечером в кабинете, уже догадавшись, что за тайное общество, о котором его предупреждал Цыбин (а потом и неожиданно нашедший его Дробышев), существует в институте.
Это были две девчонки и четверо ребят, периодически собиравшиеся вместе, чтобы почитать свои сочинения друг другу и поспорить о смысле жизни. Они прозвали свое литературное общество «Хвостом Пегаса» (тем самым придав побочному от освоения основной профессии делу ироничный смысл), а каждому придумали псевдонимы.
Леша Золотников был Пересмешником, Саша Жовнер – Президентом (он был инициатором общества и чаще остальных писал в газету), Володя Качинский – Маэстро, Лена Ханова – Химуля, Люда Миронова – Барышня. Наособицу был немногословный бурят Баяр Согжитов. Он был просто Баяром, внимательно слушал всех, редко читал свои странные стихи, в которых европейский деятельный ритм пытался ужиться с азиатской созерцательностью.
Они сидели за длинным, натертым до блеска локтями редакционным столом, глядя на него так, как привыкли смотреть за эти годы на преподавателя в аудитории, уже пропитанные иронией по отношению ко всему, что скажет (он это физически ощущал), поэтому жалеть их не стал.
– Вы поразительно инфантильны и безграмотны…
Сказал и выдержал паузу, наблюдая, как меняется выражение лиц, привыкших к похвалам в этом кабинете. Улыбнулся, смягчая сказанное и перекидывая мостик к тому, что произнесет дальше.
– Мы были другими в вашем возрасте…
И понял, что они вспомнили Базарова, естественное противостояние поколений, но не стал торопиться разъяснять, что он имел в виду, давая им возможность ощутить свое единство.
– Нам в голову не пришло бы создавать какой-то «Хвост Пегаса» (как они удивились!) – шутейную организацию лишь для того, чтобы тратить время на пустые разговоры. Кстати, такие же ребята, как вы, может, чуть постарше, в Одессе, собираясь вместе, издают журнал, в котором публикуют интересные исследования… Нет, мы журналов не издавали, но мы много читали, понимая, что диплом – это никак не свидетельство об интеллигентности.
– Откуда вы знаете о «Хвосте Пегаса»? – врезался в паузу Жовнер, невысокий, смуглый юноша с выразительными глазами.
– От товарищей… Которым, кстати, не нравится ничего тайное…
– А мне не нравится ваша безграмотность.
Черников вытащил из папки листки бумаги, исписанные его размашистым почерком, бросил их на стол.
– Это список книг, которые должен прочесть каждый интеллигентный человек. Скажите мне, что из этого списка вы прочли?
Листки разошлись по рукам.
Черников сидел, откинувшись в вытертом предыдущими редакторами кресле, с улыбкой наблюдая за разрозненными (как на экзамене), пытающимися каждый в одиночку решить подброшенную им задачку молодыми людьми.
Они обменивались листками, вчитывались в его не выстраивающийся в удобочитаемый текст даже перед редакторами почерк.
Наконец, Жовнер произнес:
– Кое-что читали… Но не все…
– Половину прочел?
– Я?.. Нет.
– А кто прочел с десяток?
Черников обвел взглядом растерянных ребят, остановился на миловидном лице Люси, которая действительно напоминала романтическую барышню из тургеневских романов. Подождал, что скажет она, но та лишь опустила глаза.
– Мы вообще-то учимся в политехническом институте, – негромко произнес Баяр. – У нас нет в программе литературы.
– Ты считаешь, что инженеру необязательно быть интеллигентным, грамотным человеком?
– Почему грамотным не может быть просто хороший специалист?
– Потому что культура, мой юный друг, – это не специальность, которой можно обучить. Культура – это образ мышления, этикоэстетический облик личности.
Он обвел взглядом явно растерянных ребят, мысленно похвалив себя за неожиданно выдуманную им формулу:
– И облик этот складывается из усвоения накопленного человечеством знания и опыта, который хранится, прежде всего, в книгах…
Это список того минимума знаний, которым должен обладать образованный человек, интеллигент…
– Понятно, займемся самообразованием, – произнес Жовнер и стал собирать листочки. – Вы говорили о том, что нашим обществом интересуются…
– Это мы с тобой отдельно обсудим, – сказал Черников. – Хотите собираться вместе – собирайтесь, я не возражаю. Но мне не нравится, что ваши тайны становятся известны другим…
Черников задержал взгляд на Жовнере, надеясь, что он поймет его намек.
И ему показалось, что тот понял, хотя, может быть, только показалось…
Он смотрел на них через пару лет, получающих дипломы, начинающих самостоятельный жизненный путь, и поражался инфантильности, которую они сами почему-то считали детскостью и даже гордились подобным отношением к жизни. Может быть, тому виной отдаленная провинциальная жизнь в центре Сибири? В свое время и он был таким, хотя ему сегодня кажется, что не был… Но одно было очевидно: они еще не знали, что взрослые игры гораздо жестче детских… Власть для них существовала только в лице заведующего кафедрой или декана, недосягаемого и оттого словно несуществующего ректора да нарочито серьезных сверстников, отягощенных комсомольскими суетными обязанностями.
В столице – там другое дело, там юные вольнодумцы уже имеют опыт взаимоотношений с властью, знают, кто такие сексоты, а здесь заповедник чистых умов и бесхитростных сердец. Даже сотрудники грозного комитета не стараются держать дистанцию со старыми знакомыми.
Вот и с Дробышевым, бывшим однокурсником, поговорили по душам.
Конечно, построжевший и почему-то поседевший за эти годы Вася не все сказал, что знал, но тем не менее предупредил, что досье на него уже в их контору из столицы пришло и бдеть его здесь будут. И ребят посоветовал поостеречь от глупостей, тем более что сотрудник их, курирующий институт, молодой и старательный, озабочен карьерой, так что при любой возможности постарается из мухи слона раздуть.
Черников ему попытался высказать свое искренне непонимание такого внимания к его персоне со стороны столь тайной и мощной организации, которая, на его взгляд, должна была ловить шпионов и диверсантов, а не вычитывать невесть что между строк в его публикациях и тем более не видеть в его лице врага своей страны. Да, он иначе видит пути ее развития. Да, ему не нравится нынешняя власть. А кому может нравиться (кроме тех, кто при этой власти), когда в магазинах становится все больше и больше пустых прилавков, а с трибун звучат победные реляции… Кому может нравиться бровастый генсек, который более всего любит себя… Если он просто высказывает свое мнение, он враг?.. Или ребята, которые встречаются вместе, но не нажираются до чертиков, а рассуждают о жизни, сочиняют стихи?
Дробышев выслушал молча, лицо его оставалось неподвижным, словно маска. Проводил по длинному и пустынному коридору до дежурного у входной двери, пожал на прощанье руку, гостеприимно приглашая позванивать и заглядывать, не стесняясь, в любое время и по любому поводу.
Он тогда в ответ только улыбнулся, слишком двусмысленно звучало это приглашение в неуютном сером, имеющем мрачную историю здании. Вышел и первым делом глубоко вдохнул весенний, пахнущий талым снегом воздух, а потом стал анализировать их разговор, запоздало понимая, что Дробышев уже не тот покладистый Васек, который по вечерам охотно бегал из общежития за Ангару в буфет железнодорожного вокзала за «Жигулевским» или вином и у которого можно было без проблем взять напрокат рубашку или туфли. Эти десять лет они жили в разных измерениях, если не мирах. Для Дробышева это серое здание – дом родной, генсек – звезда путеводная, а он уже и не друг, и не однокурсник даже, а гражданин, находящийся под зорким оком организации, в которой дослужился до майора. И ребята из некоего тайного общества (по докладной усердного куратора, недавнего комсомольского активиста) являются не несмышленышами, продолжающими играть в детские игры на взрослый лад, но овцами, если не заблудшими, то уже ступившими не в ту сторону…
Жаль будет, если он по-дружески, растаяв от встречи, выболтал бывшему сокурснику, что не надо…
А ребята толковые. Не одесситы, конечно, которые так в свое время его поразили и, можно сказать, изменили его жизнь, но и не безмозгло-послушные, как большинство. Нынешнюю идеологическую мишуру на веру не берут, пытаются разобраться…
Он обвел их взглядом, все еще перекладывающих листочки со списком той литературы, которую им следует прочесть, чтобы наконец-то стать взрослыми. Хорошие лица, открытые… И некстати подумал: вполне может быть, что кто-то из них стучит на товарищей… Кто же?.. Замечательный сюжет для рассказа, который никогда не опубликуют… Разве что самиздат… Или за границей…
Усмехнулся своим мыслям и стал вглядываться в явно озабоченные лица.
Саша Жовнер, самый авторитетный из них, хорошо пишет, ему надо журналистом быть, а не геологом… Когда знакомились, рассказал, что пришел в редакцию на втором курсе, было желание писать.
К четвертому курсу научился, почти в каждом номере газеты что-нибудь публикует. Он, понятно, вне подозрений – организатор этого общества, его душа, в случае чего, больше всех пострадает. Если, конечно, не талантливый провокатор.
Леша Золотников… Немногословный, улыбчивый, с романтическим взглядом, коренной сибиряк из Красноярского края… У Черникова остались в памяти звонкие и легкие строки из стихотворения, которое тот прочитал при первом знакомстве:
Натали, Натали, мой свет,
лучшей женщине —
право бала!
И кружится,
и кружит свет,
и кружится,
и кружит зала…
Трудно поверить, что он может писать доносы…
Володя Качинский… Тот уже настоящий поэт, подборку его стихов Черников отнес в «молодежку», скоро должна выйти с его предисловием… Непоседливый, резкий в суждениях, любящий быть на виду… И почти земляк, забайкальский. Отец – директор школы в рабочем поселке. Начитанный, острый на словцо… Вряд ли он способен на подлость…
Баяр Согжитов… Нет, этот точно стучать не станет, мировоззрение не позволит…
Люся Миронова априори отпадает, она слишком большая идеалистка, чтобы жить двойной жизнью… Лена Ханова попроще, но тоже не тянет на секретного сотрудника…
Тем не менее, подробности о тайном обществе, что поведал ему Дробышев, мог знать только человек из этого круга…
Если и этот разговор станет известен в сером здании, сомнений, что это именно так, не останется…
Черников еще раз оглядел вопрошающие лица и решил пока ничего не говорить: брошенное семя подозрения, естественно, оттолкнет их друг от друга. И, возможно, испугает. Не всегда знание правды – благо…
– Так согласны учиться, учиться и еще раз учиться? – произнес он с пафосом и одновременно отвергая этот пафос ироничной улыбкой.
– Мы прочтем эти книги, – ответил за всех Жовнер.
– Только у нас в библиотеке таких не найти, – разумно заметил Баяр.
– Ну, кое-что у меня найдется, я принесу. А остальные ищите в университетской или областной… Я запрещенного ничего не рекомендую, – закончил Черников и окинул взглядом всех сразу, надеясь догадаться, кто же стучит, но, похоже, эта фраза никого не задела. – Только читайте вдумчиво, по этим книгам экзаменовать вас будет жизнь…
Понял, что напрасно так сказал, на громкие фразы, похоже, у этого поколения иммунитет. И понятно, с малых лет слышали… Его поколению еще достались речи хоть и грубые порой, но не праздные, еще память о войне жива была, работы непочатый край, хрущевские прожекты и развенчивание культа отца всех народов… Проблемы его поколения шестидесятников нынешних ребят минули, они взрослели в эпоху грандиозных социалистических строек и гигантских задач, успешно реализуемых авангардом рабочего класса, в котором он и сам по сей день еще пребывает, хотя вроде бы и пора уже давно по-честному сдать партбилет… Но чувствовал, да что там чувствовал – наверняка знал, что партбилет сегодня как раз является последним поплавком, который хоть и в притопленном состоянии, но еще поддерживает его на плаву.
Не будь оного, разве пристроил бы его Коростылев вот в эту многотиражку? Да и в конторе его однокурсника с ним, скорее всего, разговаривали бы не так… А там и двери редакций закрылись бы, в которых худо-бедно, но еще почти оклад на гонорарах и выкручивает, чтобы сберкнижку Петькину пополнять…
Ребята уже ушли, а он все сидел за столом, то о них думая, то размышляя о собственной жизни, которая разумной логике не поддается. Об этом и Дробышев не преминул сказать, которому все о нем известно, вплоть до отношений с Ниной (и про Галочку все знает).
Вот только про их отношения с Асей Зеленцовой, наверное, еще не донесли, хотя, может, он и не прав, две недели прошло…
Две недели назад он вдруг ни с того ни с сего напросился к ней в гости. Жила она в однокомнатной квартирке, в новом микрорайоне, бурно строившемся на мыске, выступающем в водохранилище, прозванном «на семи ветрах» из-за практически постоянного ветра, тянущего то с водохранилища, то к нему. Квартирка была кооперативной, Ася приобрела ее не без помощи родителей, все еще надеющихся, что это поможет устроить жизнь их ученой дочери. Но у Аси уже был опыт почти двухлетней семейной жизни с человеком, который за эти годы прошел путь от подающего большие надежды хирурга (из-за этих обоюдных надежд она тоже училась в аспирантуре, они и не завели в свое время ребенка) до законченного алкоголика. Теперь, по ее словам, он жил где-то в отдаленном районе, работал там в больнице, но уже не хирургом, а чуть ли не санитаром, продолжая пить, хотя пару раз и лечился в областном диспансере.
(Она даже приняла его после первого курса лечения и уже собралась забеременеть, два месяца он не пил, но не успела, он «развязал», и вот тогда она рассталась с ним окончательно.)
– Давай не будем о нем, – попросила Ася, когда они выпили за встречу, закусили и предались воспоминаниям, попутно восполняя пробелы познаний друг о друге.
И в свою очередь поинтересовалась его семейными делами, все еще считая, что он по-прежнему живет с Ниной, о которой она была наслышана от их общих знакомых еще в те давние годы. Московская жизнь Черникова, которую он расписал не столько реалистично, сколько иронично, произвела на нее впечатление. Называемые им имена известных людей, с которыми он общался, вызывали хотя и тихий, но с трудом скрываемый восторг, а имя Галочки, о которой он невзначай проговорился, породило откровенное женское любопытство. Но он не стал даже на расстоянии из нее лепить идеал любимой женщины, наоборот, сказал, что она весьма неказиста и лицом, и фигурой, правда, добра и по-христиански беззлобна.
– А как женщина? – поинтересовалась Ася, допив вино и то ли от него, то ли от этого несвойственного ей вопроса, краснея.
– Как женщина? – переспросил Черников и задумался, потому что не знал, что ответить.
Их ночи запомнились ему больше разговорами или даже бурными диспутами в большей мере, чем любовными утехами, и теперь, попытавшись вспомнить Галочкино тело, он никак не мог четко представить самые привлекательные места в нем, понимая, что в свое время просто не обращал особо внимания, быстренько утолял свое желание, которое не столько радовало, сколько раздражало, потому что напоминало о низменности плоти.
Похоть собственной плоти он ощутил и сейчас, вдруг заметив в Асиных глазах нечто тайно-порочное, прочтя в них такой же животный, как и его ощущения, призыв и ничего не отвечая, перегнулся через стол, роняя по пути пустые фужеры, пригнул ладонью ее тонкую шею и впился в губы. Потом, еще более возбуждаясь от ее притаенно-ожидающего вздоха, подхватил на руки, пронес в комнату, опустил на узкий диван…