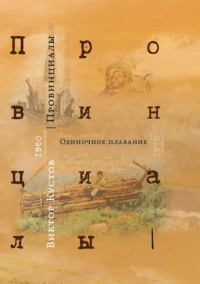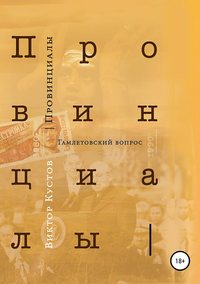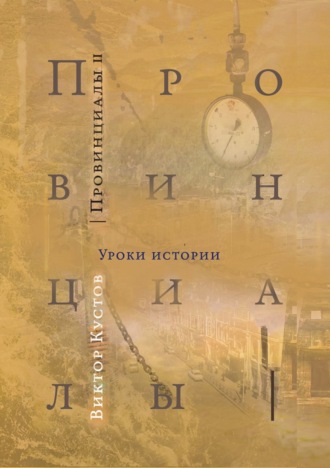
Полная версия
Провинциалы. Книга 2. Уроки истории

Страсть к революциям
В свои тридцать пять Борис Иванович Черников уже исколесил почти всю страну. Родившись и проведя самые беззаботные годы на берегу Амура в небольшом городке, где главной достопримечательностью было номерное предприятие (оно же и главным работодателем), а отрадой – могучий Амур-батюшка, он, единственный из числа всех своих сверстников, умудрился нарушить традиции, по окончании школы не войдя ни в проходную предприятия, на котором зарабатывали неизлечимые болезни его родители и соседи, ни в тюремные ворота (тюрьма немного уступала «ящику» и по размерам территории, и по гостеприимству), а уехал в Иркутск, где не только поступил в университет, но и закончил его исторический факультет.
Еще на студенческой скамье он проявил себя активным членом общества, был избран в комитет комсомола университета, нес общественную нагрузку и исправно выполнял поручения (что не мешало ему пописывать стишки и на этой почве сойтись с неполитизированной молодежью, к которой принадлежал и писавший пьески Саша Вампилов, и творящий нечто в прозе Валя Распутин). На четвертом курсе он был принят кандидатом в члены Коммунистической партии Советского Союза, а после университета вместо направления в глушь, в таежную даль, оставлен на комсомольской работе, уже оплачиваемой, сначала в своем же университете, а через пару лет стал инструктором райкома комсомола.
Жизнь складывалась вполне успешно, с перспективами роста и приличного оклада, но память об амурских просторах напоминала порой о себе жесточайшей тоской и неприятием того, что его окружало и что приходилось делать. Хотелось раздолья, такого же движения, как неостановимое течение реки; ежедневное мельтешение бумажек перед глазами начало раздражать, вызывая необъяснимые приступы злости на все вокруг, которую он выплескивал на подчиненных и общественников. И, наконец (благо был все еще холост и свободен), он добился, чтобы его направили на горячее государственное дело – начавшееся строительство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
В забытом поселке, которому выпало познать славу индустриального чуда, он стал секретарем только-только нарождающейся комсомольской организации и руководил ею до того момента, как стройка стала Всесоюзной комсомольской (в этом и его немалая заслуга). Это было замечательное время, когда он спал на разостланных газетах в маленькой комнатке кабинета, отделенного в деревянном здании управления строительства, от темна до темна мотался по разбитым грузовиками дорогам, наслаждаясь безразмерьем байкальской шири, и знал всех встречных, а все знали его. Это было время открытых улыбок, счастливого смеха, трудового азарта, неслышного стона тайги и грандиозных замыслов.
Здесь он встретил Нину, приехавшую начинать новую газету, выпускницу своего же университета (он не мог там видеть ее прежде, потому что она поступила как раз в тот год, когда он защитился), которая стала его женой. Естественно, что делали газету они вместе, согласовывая гранки с секретарем парткома, вместе отстаивали интересы молодежи на стройке, засиживались допоздна в кабинете и, рано или поздно, неизбежно должны были уснуть в объятиях другу друга все на тех же расстеленных газетах.
Рождение сына и получение стройкой статуса Всесоюзной совпали во времени. Черников готов был раздвоиться, чтобы успевать и там и там (сын получил родовую травму, Нина чувствовала себя неважно, на стройку вагонами прибывали комсомольцы-добровольцы, с которыми надо было работать), но увы, физически это невозможно, нужно было выбирать. Он выбрал жену и сына, получил строгий выговор, потерял перспективу стать начальником штаба, глубоко обиделся, не постигая такую несправедливость, и задумался…
Став одним из заместителей начальника штаба (присланного из Москвы), он перестал мотаться по разрастающейся стройке, предпочитая сидеть в новом и теплом кабинете, исправно исполняя свои функции, и весь инициаторский зуд вложил в чтение первоисточников марксизма-ленинизма, вдруг осознав необходимость разобраться в некоторых социально-нравственных категориях.
Когда сыну исполнился год, а с Черникова сняли выговор, он стал проводить свою линию, отличающуюся от генеральной линии начальника штаба (а по мнению некоторых, и генеральной линии партии), критикуя направо и налево все, что не придется, включая само строительство комбината, который нанесет непоправимый урон уникальному озеру. Он не был одинок, в столице тоже нашлись довольно именитые люди, которые выступали против строительства, и Черников скоро стал их глазами и ушами на берегу Байкала. Его статьи стали появляться сначала в областных, а потом и центральных газетах, и, наконец, он выступил на отчетно-перевыборном собрании с ожесточенной критикой идеи комбината и работы комсомольского штаба по воспитанию молодежи в духе истинных строителей коммунизма.
Выступление это не было ни с кем согласовано, прозвучало диссонансом общему тону и доклада, и всех прочих выступлений, но членами собрания неожиданно было встречено одобрительными выкриками. Может быть, поэтому его не уволили и даже не предложили написать заявление, а, пригласив в райком партии, направили директором новой, только что введенной в строй школы…
Назначение это можно было расценить как действительно важное партийное поручение (хотя это, несомненно, ставило крест на комсомольско-партийной карьере) и даже отнестись к нему с должной ответственностью, но рамки не только школы, но и Всесоюзной стройки ему уже стали тесны, московские однодумцы (с которыми он уже успел познакомиться не только заочно, но и очно) звали его в столицу, без всякой лести заверяя, что его знания и опыт могут быть востребованы в полной мере только там и что провинция со временем превратит его в брюзгу или партийного функционера. С женой у него начались нелады, она его не понимала и не хотела понимать, настаивая на том, что главное в жизни – это сын и семья, одновременно не одобряя его поведение (хотя выбор-то он в свое время сделал именно в пользу семьи…). Официально не порывая отношений, тем не менее он написал заявление по собственному желанию, выстоял против нелицеприятного и даже угрожающего напора секретаря райкома (была середина учебного года), также выстоял перед слезами и обвинениями со стороны Нины, смягчив расставание только твердым заверением, что будет регулярно высылать львиную часть заработанных (правда, неизвестно еще – где) денег, и улетел в Москву.
Обещавшие золотые горы столичные знакомые действительно приютили его на первые дни и предложили несколько мест работы, из которых самой привлекательной была должность дворника, потому что она подкреплялась служебной комнатой. Пометавшись несколько недель по гостеприимной и одновременно необязательной столице, почти растратив весь денежный запас, он плюнул на предложение «еще потерпеть» и обещания знакомых и устроился дворником, сразу же наметив перспективу – место дежурного истопника в котельной. (Комната плюс заработок побольше и возможность во время дежурств читать и писать.)
На зарплату дворника содержать семью он, естественно, не мог и поэтому стал искать дополнительный источник доходов. И совершенно неожиданно открыл золотую жилу там, где даже не думал. Центральные газеты и журналы охотно брали размышления по разным поводам пусть и бывшего, но все же самого первого комсомольского вожака на ныне всем известной стройке на берегу Байкала, неплохо платили, а тут кстати поднялась новая волна борьбы за сохранение чистоты Байкала. Его стали нарасхват приглашать на всяческие конференции, симпозиумы, совещания…
Круг знакомых расширился и пополнился именами, известными всей стране, что в свою очередь повышало спрос на его выступления в прессе. Основная работа стала мешать, да и нужда в ней отпала, потому что в редакции «Комсомольской правды» он встретил Галочку, замечательного человечка, она сначала щедро предложила жить в ее однокомнатной квартире на кухне на раскладушке, а потом и на довольно широком диване с ней вместе.
Предложение это было вовремя и кстати, гонорары позволяли отказаться от всяких иных приработков, а в провальные дни выручала зарплата Галочки. Он продолжал исправно высылать переводы жене и сыну (кстати, о том, что женат, он сказал Галочке в первый же день их знакомства) и, протежируемый многочисленными знакомыми, скоро был зачислен в штат «Комсомольской правды». Но буквально через пару месяцев стало очевидно, что он не привык к рутинной работе, не умеет делать строки, отчего не справляется с планом, да и не всегда соглашается с заведующим отделом. И он ушел из газеты и перешел в совсем юный, как и само название, журнал «Юность», потому что сам вдруг начал пописывать рассказы, один из них даже было обещано в той же «Юности» опубликовать (так оно скоро и случилось), а стихи, выданные им за творчество своего друга, уважаемый им столичный литератор назвал графоманией, и он с ним согласился.
Здесь у него не было оклада, не было плана и рабочего распорядка, но были командировки, поездки в любой конец страны и вполне приличные гонорары. Из всех сотрудников журнала он был единственный, кому не сиделось на месте (остальные были обременены семьями и московской жизнью), поэтому из командировок он появлялся затем только, чтобы отписаться, и почти в каждом номере выходили его очерки или репортажи. Попутно из командировок он привозил множество фактов и наблюдений, которые затем тиражировал в иных изданиях и газетах, что позволяло жить безбедно, но в заботах.
Вышедший в журнале рассказ критикой не был замечен, но знакомые его поздравили о вступлением на писательскую стезю и пожелали восхождения до вершин отечественной или даже мировой литературы. Он написал еще несколько рассказов и пристроил их в других молодежных изданиях (правда, с исправлениями и уступками в пользу редакторов).
Из всех командировок самой неудачной (с точки зрения набора материала) и самой интересной (с мировоззренческой точки) была поездка в Одессу, где он совершенно случайно познакомился с группой молодых ребят, которые издавали свой рукописный журнал. Ему позволили его прочесть. Он поразился столь высокой плотности умных (хотя и не бесспорных) мыслей в небольшой тетрадке. Особенно ему понравилась статья некоего Глеба Пабловского, в которой автор безоглядно критиковал комсомол, делая вывод, что он не только не воспитывает строителей коммунизма, но под тот самый коммунизм подкладывает мину в виде обюрокраченных, настроенных иждивенчески, заботящихся исключительно о собственной карьере и равнодушных к проблемам страны людей. И эти люди со временем через партийные органы войдут в высшие круги, будут управлять страной, которую не понимают, да и не любят, а значит, и дальше думать они будут прежде всего о себе…
Со многим в этой статье он мог бы поспорить (и даже хотел, но так и не встретился с автором), но эту мысль об иждивенчестве воспринял как свою собственную и даже попытался ее провести (пусть и в спорном, полемическом виде) в своем материале. Но она была безжалостно вычеркнута редакторским красным карандашом.
Эта поездка, такая безоблачная на первый взгляд, неожиданно оказалась для него судьбоносной. Отчеркнутое красным карандашом начало свое путешествие из редакторского кабинета все выше и выше и даже в сторону. Там заинтересовались одесскими настроениями.
Черникова пригласили на знаменитую площадь, озираемую строгим памятником в аскетичной шинели, побеседовали, выяснили, где и с кем он встречался (про журнал Черников ничего не сказал и про студентов тоже, фразу эту приписал себе), и посоветовали не загружать голову подобными мыслями. Потому что в стране и так дел невпроворот, есть куда приложить руки, но находятся всякие тунеядствующие элементы, к примеру, так называемый поэт Бродский… На тех же самых лесозаготовках людей не хватает.
Черников намек понял, но не успокоился, а наоборот, почувствовал некий необъяснимый зуд, который стал материализовываться всяческими ироничными и двусмысленными абзацами в статьях и очерках, и радовался, когда бдительное око редактора или изощренный ум цензора не улавливали вложенный им, Черниковым, потаенный смысл…
После Одессы думающих так же, как Пабловский, людей он встречал в Ярославле, Новосибирске, Томске, Красноярске и даже в близком ему Иркутске (куда он слетал в командировку и написал материал о байкальской нерпе и опять же о вреде уже действующего комбината).
Но больше всего таких людей было в Ленинграде (где незнакомого ему Бродского, осужденного за тунеядство, считали настоящим поэтом, и ему негромко прочитали его стихи, они понравились) и в самой Москве. В Ленинграде он увидел уже настоящий самиздат – отпечатанные и сброшюрованные журналы и книги, выходящие за границей на русском языке. Потом в Москве он стал одним из звеньев цепочки, через которую путешествовали новинки подобной литературы, все более ощущая себя революционером и убеждаясь в том, что нынешние вожди во главе со звездоносцем Леонидом Ильичем Брежневым завели страну не в ту сторону, которую указывали классики марксизмаленинизма, и все более ощущая себя Прометеем или Данко, или просто Революционером, предсказывающим верное направление…
Он изучил секретный доклад Хрущева, развенчивающий культ личности Сталина, собрал все тома «Нового мира» Твардовского, на одном дыхании проглотил «Один день Ивана Денисовича» Солженицына и не смог сдержаться: единственному слушателю, аполитичной и испуганной Галочке, высказал все, что думает о людях, которые заставили уехать из страны такого автора.
Если бы Галочка передала эти слова куда следует, вполне возможно, он отправился бы следом и за автором поразившей его повести, и за другими, оставившими на родине не менее значительные произведения. Но Галочка многие годы писала о здоровой и задорной молодежи, зараженной энтузиазмом гигантских строек, свято верила в светлое будущее, считала подобные сочинения выдумкой плохих людей и не сомневалась, что все эти слова вырываются у Черникова только оттого, что у него больше никто не берет рассказы.
Но красные карандаши с каждым годом становились все острее и безжалостнее. Галочка – старше и нетерпеливее, требуя наконец разорвать прежние семейные отношения и узаконить постельную близость с ней и даже порой декларируя свой протест по поводу очередного аборта. Писательская слава была расхватана другими, и те ни за что не хотели делиться. Мотания по стране стали тяготить, а иначе он заработать не мог.
И все это вкупе (да бездарнейшая правка последнего очерка о Соловецкой обители) заставило его грохнуть кулаком по редакторскому столу, подхватить свой плащ (на дворе был дождливый апрель), собрать невеликие пожитки, попрощаться с Галочкой, пообещав обязательно вернуться свободным (уладив все дела с бывшей), готовым к новым узам Гименея, и уехать в свой родной городок.
Родители еще были живы, но уже совсем старенькие и слабые, к тому же оба в своем «ящике» заработали множество болячек. Он попытался подлатать старенький домик, окультурить огородик, но и то и другое у него получалось как-то совсем плохо, гораздо хуже, чем писать, и, погостив несколько недель, он поехал по Транссибирской магистрали обратно в сторону Европы, планируя по пути задерживаться там, где ему приглянется. Но до Байкала ничего нигде не приглянулось (не зря декабристов ссылали в Забайкалье), и он сошел на перроне разросшегося городка, бывшего некогда Всесоюзной комсомольской стройкой, с щемящим чувством былых и таких сладких воспоминаний, прошел по улицам и отыскал дом, в котором жили его жена и сын.
Правда, жена уже была не его. На пороге встретил высокий мужик в майке, обтягивающей налитое тело с выпирающим домашним, уютным животиком, радушно пригласил в дом, и, пока они ждали с работы Нину, а Петьку из хоккейной секции, Лев Богданович, а по-простому Лева, не таясь, обсказал, что живут они ладно уже третий год, что пацан хороший, послушный, учится нормально и все у них с Нинулей тип-топ…
– Как ты мог такую бабу упустить? – удивлялся он после третьей стопочки, искренне жалея пока еще законного мужа той, которую, судя по всему, считал исключительно своей.
После этих слов и появилась Нина.
За прошедшие годы она ощутимо поправилась, утратив былую талию и фигуру и сохранив только круглое, гладкое, не поддающееся возрасту лицо. Появлению Бориса она нисколько не удивилась, обыденно накрыла на стол, присела между двумя мужьями (бывшим и настоящим), не жеманясь, выпила стопку, а потом и вторую, вскользь поинтересовалась, женат ли ее бывший, и тут же всплеснула руками.
– Господи, я совсем забыла, мы ж еще не развелись…
И залилась жизнерадостным смешком, раскачиваясь на табурете и касаясь налитыми округлыми плечами то одного, то другого.
И Черникову стало как-то неприятно это веселье все еще его законной жены и такое вот уравнивание его с сидящим по другую сторону стола смешливым мужиком. Он решил, что больше не будет отрывать от себя последнее, а заведет сберкнижку и будет на нее откладывать свои добровольные алименты, пока Петька не станет совершеннолетним, и потом эту книжку ему вручит.
Нина сказала, что надо бы оформить развод, потому что Лев Богданович хочет официально зарегистрировать их отношения, и тот закивал головой, не к месту заявив, что они еще планируют настругать пару-тройку своих детишек, вот только Ниночка подлечится…
Та его остановила, сказав, что это Борису совсем неинтересно и его не касается, потому что с ним детей она уже строгать не будет… Черников сказал, что против развода, естественно, не возражает, но при условии, что Петька будет носить фамилию отца и его не будут притеснять в новой многодетной семье.
Нина на это вдруг сморщила лицо, скривилась в беззвучном плаче, стала обвинять его в эгоистичности, корить тем, что за все эти годы он ни разу не поинтересовался, как живет его сын, ни разу не навестил (хотя это было ложью, однажды он был здесь в командировке и виделся с Петькой целую неделю, но, правда, это было еще до того, как тот пошел в школу).
Он понял, что лучше сейчас сменить тему, стал интересоваться, где она работает. Оказалось, что она все так же редактор газеты, только теперь большей по объему, что у нее есть и подчиненные, и служебная машина. Тут Лев Богданович громогласно изрек, что Ниночка – человек уважаемый, член бюро райкома партии. И та, согласно кивнув, в свою очередь сообщила, что и Лев Богданович, несмотря на такой домашний вид, возглавляет профсоюзную организацию комбината, самую большую в городе, имеет немало грамот и прочих поощрений и на хорошем счету.
Черникову все это было неинтересно, он уже составил свое представление об этой паре, в которой его бывшая любовь была столь же чужой, как и этот впервые увиденный сегодня мужик, и, слушая их оживленный рассказ друг о друге, он выстраивал сюжет настоящего рассказа, в котором без жалости отдавал им главные роли, и почти выстроил до прихода сына.
Петька почти доставал ему до плеча, был еще по-пацанячьи худ и угловат, но уже умел сердито надувать губы и осторожничать, поэтому к появлению отца (которого немножко помнил и почему-то чуть-чуть побаивался) отнесся спокойно и отстраненно, навалившись на наложенные матерью в тарелку котлеты с вермишелью, привычно отвечая на необязательные вопросы Льва Борисовича о тренировке и школьных успехах.
Черников сына изучал так же, как привык изучать всех людей (прообразы если не литературы, то публицистики), но одновременно где-то в глубине своего существа понимал, что с этим вихрастым мальчишкой, чем-то похожим на него, их связывает нечто более глубинное, прочное, чем связывало с той же Ниной, что надо бы, по-хорошему, жить если не рядом с ним, то хотя бы недалеко, чтобы можно было встречаться. Тем более в приближающиеся его отроческие годы, когда, собственно, человек и делает выбор – идти через проходную в одно из учреждений его родного городка или же поискать иные пути…
Он оставил Петьке приличную сумму денег, велев распорядиться ими по своему усмотрению и не отдавать матери. Договорился с Ниной, что, как только она подаст заявление на развод, немедля даст согласие, но сам подавать не будет, потому что ему штамп в паспорте не мешает. Сказал, что как только доберется до своего нового места жительства (куда, пока не знает), тут же сообщит.
И уже за полночь (когда Лев Богданович храпел на супружеском ложе, а Петька тихо посапывал в своей комнате), сидя на постеленном для него диване и наблюдая за все суетящейся Ниной (теперь уже не столь краснощекой и жизнерадостной, а ощутимо уставшей, мечтающей побыстрее прижаться к теплому и мягкому Льву Богдановичу и заснуть), завел речь о том, что хотел бы накопить для сына сколько сможет, а поэтому посылать денег больше не будет.
Нина на это отреагировала неожиданно спокойно, сказав, что, может, он и прав, потому что его переводы существенно не влияют сейчас на их семейный бюджет, потому что и она, и Лев Богданович хорошо зарабатывают, Петька ни в чем отказа не знает, хотя, конечно, с каждым годом расходов на него становится все больше и больше.
Договорились, что определенную сумму (но не меньше той, что присылал последнее время) он ежемесячно будет откладывать на открытую на имя сына книжку (и Нина будет тоже вести свой счет), но если вдруг деньги понадобятся, она ему сообщит, и он тут же перешлет сколько потребуется.
Нина, довольно зевая, ушла после этого в спальню, откуда тут же донесся жалобный стон кровати и невнятный шепот, после которого кровать еще некоторое время притаенно-ритмично поскрипела, наконец, ухнула напоследок, и спустя некоторое время тишину ночных комнат нарушал только мерный, но не очень назойливый храп…
…Он не мог проехать мимо города своей юности, бурного студенчества, волнующих воспоминаний, мимо сокурсников, которые уже десяток лет созидали будущее страны в различных учреждениях (в том числе один из них, Вася Дробышев, в неуважаемом последнее время Черниковым комитете государственной безопасности).
Он остановился в гостинице «Сибирь» (в ресторан которой, своей помпезностью напоминающий о дореволюционных загулах золотоискателей да купцов, в студенческие годы любил заходить в зимние морозные вечера), потому что не знал практически ничего о своих знакомых, ибо последние годы не интересовался ничьей жизнью (про Дробышева узнал случайно от его московского коллеги, когда ему, Черникову, предлагали обоюдополезное сотрудничество, от которого он категорически отказался).
Первым делом заглянул в альма-матер, порадовал бывших преподавателей, очевидно постаревших (кое-кто уже покинул этот мир), своими творческими успехами, попутно ругая столицу и восторгаясь чистотой и мерным током жизни провинции. От все так же озабоченного, рассеянного и все еще не дописавшего докторскую диссертацию заведующего кафедрой Забелина узнал, что тому было известно, о сокурсниках. Большинство из них уехали по распределению в другие города и даже села, там и прижились. В Иркутске остались только Ася Зеленцова, преподававшая тут же в университете, кандидат наук; Андрей Желтков, директор одной из школ; Павлик Коростылев – инструктор горкома партии (большой человек!) и тот же Вася Дробышев.
Очкастая и строгая Ася, нисколько не удивившаяся его появлению, поведала кое-какие подробности в университетском коридоре, торопясь на занятия. Они были так скудны, что Черников даже растерялся от такого ограниченного круга его знакомых и стал спрашивать о тех, кого просто запомнил и с кем в какой-то степени теперь был профессионально близок, о Распутине, Вампилове…
– Саши Вампилова уже нет, – скорбно произнесла Ася, еще сильнее прижав к незаметной груди стопку брошюр. – Он утонул в Байкале… А между прочим, в театре идет его пьеса…
– Надо же… – выдохнул он свое удивление сразу по двум поводам. – Как он так…
И опять же непонятно было, к чему относятся эти слова, к известию о смерти Вампилова или о пьесе…
В той, теперь уже далекой, юности Вампилов писал рассказики, смешные и, как ему помнится, не очень интересные. Но уже в Москве он услышал о талантливом молодом драматурге, сумевшем отобразить метания современников, но прочесть ходившую по Москве рукопись пьесы своего знакомого так и не удосужился.
– Темная история, – сказала Ася. – Они вдвоем в лодке были… Как Моцарт и Сальери… Ну, я побежала, пятнадцать минут кончаются, смоются мои студенты…
– Давай…
Он постоял, глядя ей вслед, костистой, непривлекательной, как и должны выглядеть незамужние ученые дамы, и пошел к Коростылеву.
Коростылев оказался не только инструктором горкома, но еще и работником отдела пропаганды, который курировал таких, как Черников, творческих людей.
Хоть он и сделал паузу, разглядывая бывшего однокурсника, но тем не менее признал и даже руку пожал с определенной долей воодушевления. И тут же сослался на большую занятость, предлагая встретиться по возможности в другое время и в другом месте. Но когда Черников коротко ввел его в курс своих громких публикаций и вскользь назвал несколько известных всей стране имен, располневший и начавшей лысеть с затылка Коростылев стал слушать его более внимательно, уточняя, где и кем он работал, какие публикации были, и, услышав, что Черников, возможно, задержится в городе, неожиданно оживился, предложив ему поработать первое время редактором многотиражной газеты политехнического института.