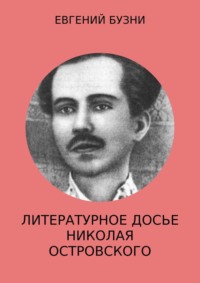полная версия
полная версияТраектории СПИДа. Книга вторая. Джалита
Словом успехи были, но отмечались и недостатки. Оказывается, тридцать девять промышленных предприятий столицы не выполнили план по реализации промышленной продукции. Многие районы города не выполнили взятые социалистические обязательства и только пять районов справились полностью с условиями социалистического соревнования.
Ельцин счёл нужным устроить разнос и поставить на вид первому секретарю Бауманского райкома партии Николаеву за невыполнение постановлений ЦК КПСС по преодолению пьянства и алкоголизма. Разнос был как бы предупреждением к предстоящему увольнению. Да, скорее всего, уволен был бы этот секретарь уже сейчас, если бы не знал Ельцин о неминуемо надвигающемся Пленуме горкома партии, где ему самому не придётся есть пряники, а пить полынную горечь изменившихся отношений.
Мне не хочется водить уважаемого мной читателя вокруг да около событий. Ему, конечно, понятно, что празднование крупного юбилея советской власти не позволило руководству страны решить проблему с ослушником Ельциным немедленно после того, как он фактически, хоть и неуклюже, но бросил перчатку вызова Горбачёву. Несомненно, подготовка к знаменательному юбилею требовала сил и энергии. Но я подозреваю, что, если бы очень захотели на Старой площади Москвы немедленно расправиться с любым человеком любого ранга, то и трёх дней хватило бы. Поэтому я предлагаю моему читателю самому задуматься над этим вопросом, а для получения дополнительной информации к размышлению, давайте зайдём с вами в зал заседаний, куда лишь одиннадцатого ноября описываемого года собрались члены Пленума Московской городской партийной организации, и послушаем кое-что из их выступлений. Почувствуйте, пожалуйста, себя членом одним из присутствующих в зале. Усядьтесь поудобней в кресло – выступлений будет много, их все надо выдержать – и приготовьтесь понимать не только то, что произносят уста оратора, но и то, что может за его словами скрываться.
Уникальность этого Пленума, как заметит уже устроившийся в кресле читатель, заключается не в том, что на нём сняли с высокого поста Ельцина, а в том, что многие позволили себе говорить искренне то, что думали о своём бывшем боссе, и о наболевших проблемах, которые относились не всегда только к Ельцину, но порой и ко всей партийной номенклатуре. Они высказывали боль, о которой прежде молчали. Послушаем же их, но сначала выступил Горбачёв. Напоминая собравшимся об Октябрьском Пленуме ЦК КПСС, он говорил:
– Политбюро ЦК видело задачу в том, чтобы показать историческое значение Октября, сделать обстоятельный анализ всего, что совершено за семь послеоктябрьских десятилетий. Важно было во всей полноте раскрыть непростой первопроходческий путь советского народа и ленинской партии, соотнести его с нашими современными заботами и делами, всесторонне осмыслить уроки пройденного…
Главным сейчас становится практическая реализация выработанной программы. С этой точки зрения, говорилось на Пленуме Центрального Комитета партии, предстоящие два-три года будут решающими и в этом смысле критическими. По сути, это будет испытание способности партии, её ЦК, всех партийных, советских, хозяйственных кадров, да и трудовых коллективов обеспечить успешное проведение в жизнь выработанных решений по коренным вопросам перестройки.
Хочу обратить внимание тех, кто любит анализировать, на тот факт, что прежде мы никогда не сомневались в способности партии выполнять свои решения, а тут Горбачёв сообщает, что предстоящие годы будут “испытанием способности партии, её ЦК”. Стало быть, Горбачёв сам не был на сто процентов уверен в способностях партии и самого себя во главе. Но послушаем его дальше. Теперь он говорил о реакции Ельцина.
– Диссонансом прозвучало заявление, с которым на Пленуме выступил товарищ Ельцин Борис Николаевич. Он заявил, что не имеет замечаний по докладу и полностью его поддерживает, однако хотел бы затронуть ряд вопросов, которые у него накопились за время работы в составе Политбюро. Следует сказать, что в целом выступление товарища Ельцина было политически незрелым, крайне запутанным и противоречивым. Выступление не содержало ни одного конструктивного предложения и строилось не на анализе и фактах, а на передержках, и по сути, как расценили его члены ЦК, было демагогическим по своему содержанию и характеру.
…Разумеется, сам по себе факт выступления члена Центрального Комитета на Пленуме с критическими замечаниями в адрес Политбюро, Секретариата, отдельных товарищей не должен восприниматься как нечто чрезвычайное. Это нормальное дело… Мы и дальше будем развивать критику и самокритику на всех уровнях.
Мне бы очень хотелось прокомментировать эту фразу Горбачёва относительно критики и самокритики в партийном руководстве, но думаю, что об этом ещё скажут другие. Не будем же пока мешать Генсеку продолжать.
– …намерение товарища Ельцина подать в отставку мне было известно до Пленума ЦК. Еще, будучи в отпуске, я получил от него письмо, в котором содержалась просьба решить вопрос о его пребывании и в составе Политбюро, и на посту первого секретаря Московского городского комитета партии.
Так вот в чём дело? Оказывается, Горбачёву давно было известно о желании Ельцина выйти не только из Политбюро, но и уйти от руководства городским комитетом. Почему же Ельцин о последнем сам не сказал на Пленуме ЦК? Но вопрос пока риторический. Продолжаем слушать Горбачёва.
– После возвращения из отпуска у меня был разговор с товарищем Ельциным, и мы условились, что сейчас не время обсуждать этот вопрос, что встретимся и всё обговорим после октябрьских праздников. Тем не менее, товарищ Ельцин (прошу обратить внимание и на постоянное слово “товарищ”), нарушив партийную и чисто человеческую этику, решил поставить этот вопрос непосредственно перед Пленумом, минуя Политбюро.
… Естественно возникает вопрос: почему так произошло? В чём причины такого поведения товарища Ельцина?
Но я позволю себе добавить к этому вопросу ещё один: В чём причина такого поведения и самого Горбачёва? А вопрос это возникает вот почему. Года через два после этих событий Ельцин выпустил свою книжку под названием “Исповедь на заданную тему” и вот что он там писал в редакции верного помощника Юмашева:
“По сути, последний, как говорят в театре, третий звонок прозвенел для меня на одном из заседаний Политбюро, где обсуждался проект доклада Горбачёва, посвящённого 70-летней годовщине Октября. Нам, членам, кандидатам в члены Политбюро и секретарям ЦК, его раздали заранее. Было дано дня три для внимательного его изучения.
Обсуждение шло по кругу, довольно коротко. Почти каждый считал, что надо сказать несколько слов. В основном оценки были положительные с некоторыми непринципиальными замечаниями. Но когда очередь дошла до меня, я достаточно напористо высказал около двадцати замечаний, каждое из которых было очень серьёзным. Вопросы касались и партии, и аппарата, и оценки прошлого, и концепции будущего развития страны, и многого другого.
Тут случилось неожиданное: Горбачёв не выдержал, прервал заседание и выскочил из зала. Весь состав Политбюро и секретари молча сидели, не зная, что делать, как реагировать. Это продолжалось минут тридцать. Когда он появился, то начал высказываться не по существу моих замечаний по докладу, а лично в мой адрес. Здесь было всё, что, видимо, у него накопилось за последнее время. Причём форма была явно критическая, почти истеричная. Мне всё время хотелось выйти из зала, чтобы не выслушивать близкие к оскорблению замечания.
Он говорил и то, что в Москве всё плохо, и что все носятся вокруг меня, и что черты моего характера такие сякие, и что я всё время критикую и на Политбюро выступаю с такими замечаниями, и что он трудился над этим проектом, а я, зная об этом, тем не менее позволил себе высказать такие оценки докладу. Говорил он довольно долго, время я, конечно, не замечал, но, думаю, минут сорок.
Безусловно, в этот момент Горбачёв просто ненавидел меня. Честно скажу, я не ожидал этого. Знал, что он как-то отреагирует на мои слова, но чтобы в такой форме, почти как на базаре, не признав практически ничего из того, что было сказано!.. Кстати, многое потом в докладе было изменено, были учтены и некоторые мои замечания, но, конечно, не все.
Остальные тихо сидели, помалкивали и мечтали, чтобы их просто не заметили. Никто не защитил меня, но никто и не выступил с осуждением. Тяжёлое было состояние. Когда он кончил, я всё-таки встал и сказал, что, конечно, некоторые замечания я продумаю, соответствуют ли они действительности, то, что справедливо, – учту в своей работе, но большинство упрёков не принимаю. Не принимаю! Поскольку они тенденциозны, да ещё высказаны в недопустимой форме.
Собственно, на этом и закончилось обсуждение, все разошлись довольно понурые. Ну а я тем более. И это было началом. Началом финала. После этого заседания Политбюро он как бы не замечал меня, хотя официально мы встречались минимум два раза в неделю: в четверг – на Политбюро и ещё на каком-нибудь мероприятии или совещании. Он старался даже руки мне не подавать, молча здоровался, разговоров тоже не было.
Я чувствовал, что он уже в это время решил, что надо со мной всю эту канитель заканчивать. Я оказался явным чужаком в его послушной команде”.
Вот ведь какие признания были у Ельцина. Почему же тогда, сразу же после злополучного заседания Политбюро, а не Пленума ещё, Горбачёв не расстался с Ельциным? Ведь плёвое дело для главы партии. И для чего Горбачёв выскочил из зала заседаний? Не выдержал проблемы аденомы и – в туалет, или не выдержали нервы, но не хотел показывать? А через тридцать минут накричал на непокорного члена Политбюро, который уже упреждал в своём письме о несогласии с политикой, но тут, согласившись с частью замечаний, всё же не принял их полностью. Как же мог он, генеральный секретарь, после всего этого, когда даже руки не подавал проклятому Ельцину, вдруг снова позволить выступить да на Пленуме, на который теперь собралось гораздо больше слушателей, благодаря чему каждое произнесенное слово крамолы невозможно было удержать в стенах партийного здания? А может, никто и не хотел удерживать крамолу? Может, дело совсем в другом?
Когда смотришь в лесу на кусты, то в их тени часто не замечаешь паутины, что схватила муху. И кажется, будто муха бьётся бессильно в воздухе. Ан нет, крепко держат её невидимые, но крепкие нити паутины. Что же за нити удерживали Горбачёва, какой паук заставлял его отступать перед начинающим переть против горы Ельциным?
Но проследим дальше за ходом истории. Подставим наши внимательные уши тому, что продолжал говорить Горбачёв о причинах оппозиционного выступления Ельцина.
– …Бюро горкома под влиянием товарища Ельцина пыталось достичь необходимых изменений наскоком, нажимом, окриком, голым администрированием. А это, как известно, приём из старого арсенала.
… к тому же, втянувшись на начальном этапе в широковещательные заявления и обещания, что в значительной мере питалось его непомерным тщеславием, стремлением быть всегда на виду, товарищ Ельцин упустил, ослабил руководство городской партийной организацией, работу с кадрами.
Видя, что дело начало стопориться, обстановка в столице не улучшается, а в чём-то даже ухудшилась, товарищ Ельцин попытался переложить ответственность за собственные крупные недостатки в работе на других – и прежде всего на руководящие кадры. Горком партии по инициативе товарища Ельцина, при его самом активном участии, по сути дела, начал по второму кругу перетряску кадров, о недопустимости которой ему ранее говорили. На одном из заседаний Политбюро перед Январским пленумом ЦК он был предупреждён, что если за словами о перетряске скрывается его практический замысел в отношении Московской городской партийной организации, то он поддержки не получит. На это товарищ Ельцин отреагировал тогда правильно. Он сказал буквально следующее: “Я молодой человек в составе Политбюро. Мне преподнесен сегодня урок. Он мне нужен. Он не опоздал. И я найду в себе силы, чтобы сделать вывод”.
Однако должного вывода он так и не сделал.
Пленум ЦК КПСС принял следующее постановление:
1.
Признать выступление товарища Ельцина Бориса Николаевича на Октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК политически ошибочным.
2.
Поручить Политбюро ЦК КПСС, Московскому горкому партии рассмотреть вопрос о заявлении товарища Ельцина Бориса Николаевича об освобождении его от обязанностей первого секретаря МГК КПСС с учётом обмена мнениями, состоявшимися на Пленуме ЦК КПСС.
На этом выступление Горбачёва закончилось. Не будем уточнять, взорвался ли зал аплодисментами. Прошу только внимательнейшим образом вслушаться в дальнейшие выступления. Что же скажут теперь уже бывшие соратники по партийной работе. Бывшие, так как всем стало ясно, что Ельцин теперь только бывший первый секретарь. Кем будет дальше, никто и не предполагал. Слушаем же.
Ф.Ф. Козырев-Даль – Когда меня утвердили председателем Московского Агропрома, я искренне верил в слова и обещания секретаря Московского городского комитета партии товарища Ельцина о поддержке в работе, а уже через десять месяцев был вынужден начать личное письмо товарищу Ельцину словами: “В связи с отсутствием всякой перспективы быть Вами принятым, вынужден и считаю долгом коммуниста обратиться к Вам письменно”.
… Не был я принят и после прочтения моего письма.
Ю.А. Прокофьев – Секретарь исполкома Моссовета – Есть люди, которые создают себе пьедестал своими делами, а есть люди, которые строят себе пьедестал, принижая тех, кто стоит рядом. Вот чем отличается позиция подлинного коммуниста от позиции Бориса Николаевича Ельцина. Для вас характерно всё время состояние борьбы. Вы всё время купаетесь в борьбе, напоре и натиске, всё время кого-то разоблачаете, и тогда вы на коне перед обывателем. И какие бы провалы ни случались, вы всё равно хорошо выглядите, потому что вы боролись, вы предупреждали, вы снимали с должности.
А если говорить о политической грамотности товарища Ельцина, то я был свидетелем его встречи с обществом “Память”. Что из себя представляет это общество, вы знаете.
Позволю себе сделать небольшое пояснение для тех читателей, кто, хоть и слышал о “Памяти”, но возможно не знает, что этот народно-патриотический фронт активизировал свою деятельность именно в период городского партийного лидерства Ельцина. Это движение возникло на стремлении защитить русских от всех остальных наций и в первую очередь от евреев.
Думаю, что мой всеведущий читатель согласится с тем, что русская нация всегда отличалась интернациональностью и радушием по отношению к любой национальности. Особенно это относится к советскому периоду, что, несомненно, связано с отношением к национальному вопросу революционеров-коммунистов и в первую очередь, конечно, их лидера В.И. Ленина, который писал в 1922 году в своих записках “К вопросу о национальностях или об “Автономизации”:
“…Необходимо отличать… национализм большой нации и национализм нации маленькой.
По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже больше того – незаметно для себя совершаем бесконечное число насилий и оскорблений, – стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас третируют инородцев, как поляка не называют иначе, как “полячишкой”, как татарина не высмеивают иначе, как “князь”, украинца иначе, как “хохол”, грузина и других кавказских инородцев, – как “капказский человек”.
Поэтому интернационализм со стороны угнетающей или так называемой “великой” нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически. … ничто так не задерживает развития и упроченности пролетарской классовой солидарности, как национальная несправедливость, и ни к чему так не чутки “обиженные” националы, как к чувству равенства и к нарушению этого равенства, хотя бы даже по небрежности, хотя бы даже в виде шутки, к нарушению этого равенства своими товарищами пролетариями. Вот почему в данном случае лучше пересолить в сторону уступчивости и мягкости к национальным меньшинствам, чем недосолить”.
Этого и придерживались партийные руководители и политагитаторы, не позволяя разжигание в стране межнациональной розни. Между тем идеи национально-патриотического фронта “Память”, ставя перед собой на первый взгляд хорошие цели развития и сохранения русской культуры и самобытности, по своей сути оказались шовинистическими и потому сразу не понравились великому множеству людей, как принадлежащих малым нациям, так и большой русской. Незадолго до описываемых партийных событий в Москве состоялся первый несанкционированный митинг общества “Память”. Он положил начало митингованию в Москве, а затем и по всей стране.
В прежние времена никакого митинга не допустили бы. Но я очень прошу читателя, не обвинять меня в выступлениях против демократии. Я за свободу слова, если это слово не направлено против народа. До появления общества “Память”, у нас в стране никто не имел права оскорблять или унижать какую бы ни было национальность. С появлением “Памяти” или чуть раньше такая возможность появилась, то есть наказывать и пресекать по-настоящему подобные явления перестали, и они начали расцветать, словно кому-то это нужно было.
Примером тому и явилась встреча участников несанкционированного митинга “Память” во главе с её первым лидером Васильевым с товарищем Ельциным, который не сумел или не хотел практически выставить ни одного контраргумента выступавшим, а лишь порекомендовал зарегистрировать официально общество у городских властей, что и было сделано. Именно об этом и говорил на Пленуме горкома партии секретарь исполкома Моссовета:
– Их (участников митинга “Памяти”) пригласили в Моссовет, и перед ними выступил товарищ Ельцин. И одну позицию за другой сдавал. Это кому? Кликушам и черносотенцам!
А какие восхваления допускались лично в ваш адрес на страницах “Московской правды”, – вы и прекрасный, и смелый, и чуткий… это же просто пропаганда себя.
А.И. Земсков – Первый секретарь Ворошиловского райкома партии:
– …Это безобразие, когда в течение двух лет, по-моему, ни один первый секретарь райкома не мог напрямую позвонить секретарю горкома. В течение двух лет мы должны были помощнику докладывать, зачем первый секретарь райкома хочет обратиться к первому секретарю горкома.
В.С. Семенихин – Генеральный конструктор НИИ, академик:
– …Через восемь месяцев я пробился к нему (Ельцину) на приём и сказал, что члены горкома – это свадебные генералы, никакие вопросы с нами перед тем, как их выносить на Пленум, никто не обсуждает. Собирают нас раз в квартал. Я, например, ни разу не был за два года ни по одному вопросу на бюро горкома.
А.Н. Николаев – Первый секретарь Бауманского райкома партии (Тот самый, которого Ельцин готов был снять на предыдущем бюро горкома):
– …Революционный характер перестройки очень чётко высвечивает, кто есть кто. Кто есть истинный лидер перестройки, кто есть политический боец, а кто стремится на волне перестройки решить свои амбициозные проблемы и достичь своих амбициозных целей. Очень быстро товарищ Ельцин обрёл тот самый начальственный синдром, против которого он гневно выступал на съезде партии. Вот разрыв между словами и реальными делами.
Ельцин слушал Николаева, скрипя зубами, и казалось, что все это слышат. Он даже посмотрел искоса на Горбачёва, слышит ли тот?
Нет, разумеется, с Горбачёвым у него всё пока складывалось нормально. И на двадцать седьмом съезде, о котором всуе упомянул Николаев, Ельцин выступил критически, но с согласия Горбачёва. Тогда у всех была установка в своих выступлениях делать критические замечания. Так что тогдашняя речь Ельцина была как бы прелюдией к его последующим действиям.
О, конечно, этот съезд был памятным. Своей критичностью он отличался резко от всех предыдущих. У Горбачёва были хорошие советники, которые доказали ему, что открытую критику можно позволять, как делается в ведущих капиталистических странах. Там сколько ни критикуй президента, он всё равно будет делать по-своему, но выглядеть при этом демократом. Так, собственно, и стал поступать Горбачёв, объявив гласность всеобщей политикой. Люди шумят себе, пар выпускают, а делать-то ничего и не делают. Но все довольны, что смелыми стали.
Ельцин должен был показать пример и показал. Правда, выйдя на трибуну, знал, что всё должно быть в пределах определённых рамок, потому в заготовленном заранее выступлении начало было бравурным, как и у всех выступавших на съезде, но в то же время отличалось оригинальностью:
– Товарищи! На одном из съездов партии, где были откровенные доклады и острые обсуждения, а затем делегаты выразили поддержку единства, Владимир Ильич Ленин наперекор скептикам с воодушевлением воскликнул: “…вот это я понимаю! Это – жизнь!” Много лет минуло с тех пор. И с удовлетворением можно отметить: на нашем съезде снова атмосфера того большевистского духа, ленинского оптимизма, призыва к борьбе со старым, отжившим во имя нового.
Слова понравились, и зал зааплодировал. Все вдруг с удовольствием почувствовали свою сопричастность к ленинскому времени. Начало получилось эффектным, и Ельцин продолжал теперь уже о дне сегодняшнем:
– Апрельский, тысяча девятьсот восемьдесят пятого года Пленум ЦК КПСС, подготовка к Двадцать седьмому съезду, его работа идут как бы по ленинским конспектам, с опорой на лучшие традиции партии. Съезд очень взыскательно анализирует прошлое, чётко намечает задачи на пятнадцать лет и даёт далёкий, но ясный взгляд в будущее.
… мы, делегаты съезда от миллиона и ста двадцати тысяч коммунистов города (мне поручили это сказать), заверяем Центральный Комитет, что за словом последует дело. Таков наш долг, так требует время, так требует наша партийная совесть.
И снова звучат аплодисменты в ответ на эмоциональные короткие рубленые фразы. Перечень успехов – это обычно дело техники и мало кем слушается. Но главная заготовка на сегодня – негатив. Его надо преподнести особенно чётко, как свои собственные мысли и так, чтоб все уснувшие было, проснулись и разнесли завтра слова Ельцина по всему городу и стране. Негатив пошёл:
– Хочу откровенно высказать беспокойство по ряду вопросов. Много возникает “почему”. Почему из съезда в съезд мы поднимаем ряд одних и тех же проблем? Почему в нашем партийном лексиконе появилось явно чужое слово “застой”? Почему за столько лет нам не удаётся вырвать из нашей жизни корни бюрократизма, социальной несправедливости, злоупотреблений?
Что вы, что вы, милый читатель? Только не думайте, что выступавший с такими словами был совсем уж глуп и не смог бы сам ответить на эти вопросы правильно, будто он не знал, что бюрократизм и социальное неравенство существуют сотни, а последнее даже тысячи лет, а потому устранить их за какие-то семьдесят лет являлось чрезвычайно трудной задачей. Конечно, Ельцин это знал, но в тот момент, как, впрочем, и во все последующие, для него важна была не суть вопроса, а суть его произнесения с целью создания впечатления борца за народное благо, чтобы выглядеть защитником народа, его верным заступником, а потому он уверенно продолжал свой трибунный монолог:
– Почему даже сейчас требование радикальных перемен вязнет в инертном слое приспособленцев с партийным билетом? Моё мнение: одна из главных причин – нет у ряда партийных руководителей мужества своевременно, объективно оценить обстановку, свою личную роль, сказать пусть горькую, но правду, оценивать каждый вопрос или поступок – и свой, и товарищей по работе, и вышестоящих руководителей – не конъюнктурно, а политически.
Какая глубокая мысль? Поди, докажи, что Ельцин не прав и все партийные руководители имеют мужество своевременно и объективно оценить обстановку. Докажешь это, так он спросит, а как насчёт своей личной роли? Докажешь, что и это учли, а он спросит относительно горькой правды. Найдёшь и её в оценке руководителей, так появится вопрос об оценке поступков своих, товарищей и вышестоящих руководителей да ещё не просто как-нибудь конъюнктурно, а политически. С таким набором политических талантов можно ни одного руководителя не найти, да и сам Ельцин вряд ли подошёл бы, что он сам вскоре и подтвердит в своей речи. Но сначала ему важно обругать других и даже конкретно одного, чьё имя он пока боится открыто называть, но подкоп под него начал, вынося на обсуждение свои конкретные предложения по улучшению работы центрального аппарата партии: