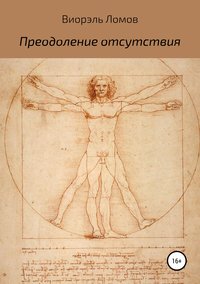Полная версия
Кровь страсти – какой ты группы?
Вдруг до слуха его…под собой? ! хм…донеслось невнятное: «…Нелепо…да-да…Нелепо…»
«Что такое!» – нахмурил брови царь. Он кашлянул, и тугой звук, как гимнастический мяч, а еще вернее ядро, улетел за портьеру. Там он попал в цель, и голоса только два раза произнесли«Ой!» Подданные склонились в приветствии, и в них появилось что-то змеиное, неуловимое и столь же опасное. «Любопытно…весьма любопытно, – подумал Николай Павлович. – У моих детей…»
– А-а, это вы, мои друзья! – произнес он, и густой его голос, казалось, согнул его друзей совсем уж в неприличную дугу. – Продолжайте, вы мне не мешаете. О чем, позвольте полюбопытствовать, речь? О дамах или о турках? Кхм!
Царь застыл в раздумье. «Что же тогда мне они ответили?» Он не мог вспомнить. Потер себе виски – они были горячие. Он взглянул в неизменное, еще со времен бабки-матушки зеркальце и не понравился сам себе. В глазах своих он вдруг увидел растерянность, которая давно уже поселилась в его душе, но которую он усилием своей железной воли сдерживал внутри, пока был здоров. В раздражении швырнул зеркало на столик. Зеркало разбилось. Царь нахмурился. Он, конечно, не был столь суеверен, как вся его многочисленная родня, но эта примета совпадала с общим настроем его мыслей и состоянием здоровья в последние два дня. «Надо же, все вокруг, как сговорились, и разом стали чихать и кашлять. Инфлюэнца…Грипп, хм…Сколько лет-то прошло? Пять-семь? Как же так, забыл? Да их словно и не было, этих лет».
В голове шумело, и ясных мыслей не было и следа. Каша какая-то! Он в раздражении шагнул к потайной двери, чтобы сделать выговор всё равно кому, кто находится ненароком там. Но комната была пуста. Именно в эти последние пять-семь лет он всё реже заставал кого-либо там, нарочно дожидающихся его. Царь подавил раздражение и сел на диванчик, которым пренебрегал всю жизнь. «Мягко и удобно», – подумал он и тут же встал с располагающего к сибаритству ложа и направился в свой кабинет. И вдруг он понял, что кабинет не приемлет его такого. «Какого?» – задал он себе вопрос. Ответ был беспощадный: слабого, растерянного, больного. Таким его не знали родные, таким его не знали при дворе, таким он не знал самого себя. Он для всех был образцом мужественности и собранности, для всех он был рыцарь. Когда на Сенной площади он один въехал в толпу, взволнованную эпидемией холеры, только что разгромившую больницу, убившую докторов, неистово кричащую бог весть что и готовую на всё, что только может русская толпа, когда он, устыдив всех в малодушии и отступничестве от Бога, воскликнул: «На колени, и просите у Всемогущего прощения» – и тут же сам опустился на колени, вся площадь замерла и все как один тоже опустились на колени.
– Да кого вы добиваетесь, кого вы хотите, меня ли? – гремел над площадью его воистину божеский глас. – Я никого не страшусь, вот я!
В эти мгновения Николай видел себя соразмерным всей необъятной и могущественной (самой могущественной из всех когда-либо существовавших на земле) империи.
После этих слов вся площадь рыдала и кричала «ура». «Рим также лежал бы у моих ног», – подумал он тогда. «Хотя что Рим, – подумал он сейчас, – так, тьфу. Нет, я никогда ничего не боялся, так как меня во всех моих делах направлял Господь. А ведь это я сказал Пушкину про бунт. Откуда ему было знать? И что же, теперь я боюсь ее?.. Плаксив стал как баба! И что же, теперь я боюсь инфлюэнцы? Или, как модно сейчас, гриппа?»
Вдруг ему показалось, что истинный смысл этого слова заключается в коротком, но таком же губительном для него (губительном? ) слове «Крым». «Когда же я дал слабину?» – думал он, потирая лоб. Ему показалось, что он стал еще горячее. Во рту пересохло, а тело сковала страшная слабость и ломота. «Да-да, недели две назад, когда вдруг все вздумали болеть. Инфлюэнца…Грипп…Крым…Мандт рекомендует лежать. Он всем рекомендует лежать…Но что-то жестковато стало мое ложе. О Господи, прости грехи наши! Надо же, каких-то шестьдесят тысяч иноземцев в Крыму свалили Россию. Свалили? Что я говорю! Как я смею так думать? ! Полежишь тут!» Император встал и пошатнулся. Постоял с минуту, приходя в себя. Затем безотчетно проследовал в один зал, другой…Ему казалось, что он тащит на себе весь груз прошлого, всю Россию. Куда?
В полумраке зала он вдруг увидел странную фигуру. Нелепый старичок, сутулый, кожа да кости, с растрепанными седыми волосенками, изможденным лицом, изрезанным морщинами, в одном нижнем белье, стремительно вприпрыжку, припадая на ногу (она была в туфле, а вторая в сапоге), пересек по диагонали залу, подбежал к нему, резко воскликнул что-то, что – Николай Павлович не понял, но что-то ужасно обидное, очень ехидно хихикнул, блеснул бесцветными глазами, подмигнул нагловато и в мгновение ока очутился возле противоположных дверей, там раскланялся со своим отражением в зеркале, шарахнулся от него, кукарекнул, пропел что-то густым басом, подпрыгнул козликом и исчез.
«Почему он без мундира?» – думал царь, с досадой почему-то на самого себя. Этого старика царь определенно знал, но не мог вспомнить, кто таков. «Что за скоморох? Откуда взялся в дворце? Точно с портрета сошел. Глаза горят, как у разбойника. Горят, как у…Суворов», – опешил государь и лишился последних сил. И тут же ему ударило в голову – слова, которые вылетели из уст полководца и, казалось, еще не совсем растаяли в полумраке залы, были: «Просрали Россию, Ваше Величество! Просрали!»
Спустя несколько дней он уже почти машинально повторял по всякому поводу: «Твори, Бог, волю твою!»
– Как там Михаил и Николай? – спрашивал он и понимал, что хотя он и по-настоящему озабочен, как они там, в Крыму, по большому счету его интересует, как там вообще в Крыму. Тоже грипп? Он только никому не хотел в этом признаться, даже самому себе, на пороге, на пороге…
– Горчаков…– сказал он.
– Что Горчаков, Ваше Величество?
– Нет, ничего…Севастополь…Австрия…Бог с ней, с Австрией. Ее уж, почитай, нет. Бессарабию, Новороссию…до Днепра, не дальше! отдайте, но Крым и Севастополь, слышите, Крым и Севастополь– не смейте!
– Он в бреду, – услышал царь.
– Кто в бреду? – ясным голосом спросил он. – Это вы, доктор, в бреду! – он осекся.
Он вдруг едва не сказал: «Рухнет всё – рухнет всё!» Также отчетливо, как Суворова в зале, хотя и в полумраке сознания, он увидел себя, огромного, величественного, возвышающегося над Россией, и почувствовал, как последние силы покидают его, как он падает на нее, валится…Он с ужасом видел, как земля из-под него разбегается, буквально прыскает во все стороны, и всё шире и глубже под ним разрастается черный овраг…Император взметнул последним усилием воли не слушающуюся его руку, сверкнул грозно глазами в последний раз и с прозрачной мыслью: «Небеса рано или поздно всё равно падают на землю»– и тут же: «Когда власть направлена только на то, чтобы удержать, она ничего не удержит» – очень четко произнес:
– Держи всё – держи всё!
Как когда-то в молодости, он вышел в город один. Широкой грудью глубоко вдохнул свежий воздух, почти весело огляделся. Город лежал пред ним ниц, дворец, площадь, даже Александрийский столп. Город замер и не дышал. Тишина была страшная. Не было даже западного ветра. Сегодня-то царь был уверен, что никто из подданных не прячется за колоннами или под деревьями, охраняя его жизнь, честь и достоинство. «Чудаки, – холодно улыбнулся Николай Павлович, – они полагают, что я сам не смогу постоять за себя. Я – наместник Бога, властитель всей этой земли. Я – не смогу, а они смогут? !» Николай Павлович почувствовал, как гримаса гнева искажает его лицо, но справился с мелкими чувствами. «Вот он, мой город, столица моей империи. Моя земля гудит и дрожит под моим шагом. Даже он, этот истукан, мой. Здесь всё подвластно мне!» Рукой прикоснулся к груди и понял, что дрожит сам. Вновь ощутил досаду. «Красуйся, град Петров…»– прошептал чужие строки. Провел рукой по решетке, от холода ее заныли зубы. Дрожь не унималась. Она как бы вливалась в него извне, и то ли питала его досаду, то ли сама досада рождала дрожь. «Неужто я негодую? – подивился император. – На что? На кого? “Добро, строитель чудотворный! – шепнул он, злобно задрожав…”»
Он не решился идти к истукану и от того пришел в отчаяние. «От чего? От ледяного гранита и бронзы? Куска скалы и отливки? Или в них живет дух? Чей?.. – никогда еще он не задавал себе таких вопросов. – Как же это я раньше не видел сходства “Каменного гостя”с “Медным всадником”? Ведь там один и тот же мотив. Истукан является к человеку. И – побеждает его? Ну, Пушкин, ты не просто сукин сын, ты…»
Но что это? Громче, громче, громче! Гром копыт висел между небом и мостовой. «Этого не может быть, ведь лежит снег». Площадь гремела, как барабан перед оглашением приговора.
– Изволь, я жду тебя! Иди ко мне! – крикнул он громко и властно, как тогда на Сенной. Голос его заглушил медь копыт. – Вот тебе моя рука! Вот она…
Всадник Медный поравнялся с ним, протянул ему руку, и он – он! – что есть сил, рванул истукана с коня, но тот удержался, вздернул его перед собой, и медный конь, кроша мостовую как лед, сгинул с двумя всадниками во тьме…
Александр Николаевич, чувствуя, как холодеет рука отца, с трудом сдерживал себя от рыданий. Через несколько часов наследник записал в своем дневнике: «В1/4 1-го всё кончено. Последние ужасные мучения».
После этого он достал из тайника, о котором знал теперь только он один, книгу-дневник, а вернее, исповедь династии Романовых. Каждому году царствования любого Романова была отведена ровно одна страница. И каждая страница дорогого стоила. Кровью писавшего запеклась на ней жизнь империи. Любой политик или историк отдал бы за нее душу дьяволу. Иногда на одной странице последние слова выводил один самодержец, а спустя интервал начинал писать другой царь или регент. Записи велись лишь на одной стороне листа, и некоторые листы были не замаранные, абсолютно чистые. Разложив книгу на столе, Александр перелистал страницу за страницей почти до конца, поражаясь наивности одних записей и мудрости других, и в начале двести сорок третьей страницы слово в слово повторил свою запись из дневника.
Александр перевернул один лист назад. Последними словами отца, датированными 5 февраля, были: «Как я заблуждался! Как я во всем заблуждался! Твори, Бог, волю твою!»
В чем, в чем папа заблуждался? Во всем?
«Пушкин не только любитель легких ножек. “Еще ли росс больной, расслабленный колосс? ”Я был уверен, что довершил создание восьмого чуда света – Российской империи. Но неужели этот Родосский колосс оказался колоссом на глиняных ногах? От девяти Секретных комитетов по крестьянскому делу один пшик. Крестьян нельзя не отпускать, но их нельзя и отпустить. Они разбегутся во все стороны как тараканы и растащат Россию. Кто соберет ее потом воедино? Эту махину? Александр? Восстанет ли Россия после того, как разрушится? Все империи разрушались один лишь раз. В прошлом, да. А в грядущем?»
«Увы, незабвенный Папа сам не знал, как поступить, – подумал Александр. – Но он прав: не освободить крестьян, они освободят себя сами. Освободить, они разбегутся, оставив крепостные стены без защиты. И кто тогда защитит крепость? И надо не забывать, что Россия– это махина, которую, не дай Бог, опрокинуть на полном ходу».
Наследник посмотрел в конец книги – осталась шестьдесят одна страница. «Странно», подумал Александр и вдруг вспомнил цыганку, гадавшую ему. «Сперва разгадай, что хочет твой отец», – загадала она тогда. Перед глазами его стояло лицо отца, в последние месяцы с трудом скрывающее огромное душевное беспокойство. Скорее всего, его мучил еще и этот вопрос: почему так мало осталось страниц нашей династии?
«Я приведу мой народ к благоденствию и славе». Из окна был виден в сине-белом мундире город, подвластный теперь его воле, лежащий пред ним ниц…
Александр Николаевич с чувством умиления и скорби тихо закрыл книгу.
***
(Глава ILIV из романа «Архив»)
Галера шла вдоль берега
Галера шла вдоль берега.
Кормчий махнул рукой барабанщику, тот несколько раз от души ударил по барабану. Затем кормчий приказал всем построиться на борту. Прикованных к лавкам расковали. Мы с наслаждением потирали руки и гладили ноги, сгибались и прогибались. Какое-то время кормчий холодно глядел на нас, а потом гаркнул, без усилия заглушив все звуки моря и люда:
– Внимание! Высаживаемся здесь, вот в этом местечке Пирей. Выше Афин. Ровно на сутки! Внимание! Всем. Повторяю, всем! Все должны неукоснительно соблюдать следующее. Первое. Сейчас утро. Видите, где солнце? Завтра, когда мы все выстроимся здесь, оно должно быть на том же самом месте, ни секундой выше. Второе. В Афины не ходить! На берегу есть все: вино, мясо, оливки, женщины, песок, чтоб полежать. Всем хватит! Еще и останется, ха-ха. Третье. Если кто-нибудь спросит у вас о чем-либо, избави вас бог (любой, хоть Зевс), избави вас бог сказать ему хоть слово! Особенно женщине! Тут же увидят, что вы чужеземец, и без лишней болтовни прирежут, как пирата, либо заберут в рабство, давить виноград или пасти коз. Вот ему хорошо, – кормчий ткнул в меня пальцем. – И четвертое. Если кто вздумает убежать, смотри третье. Уверяю, подумать есть о чем. Средний возраст рабов здесь – 27 лет. Есть кто старше? Почти все. Вот и отлично. Пошли! Рыцарь, задержись на минутку. Заданьице для тебя, – кормчий пытливо глядел на меня, – от графа Горенштейна. По контрактику. Напоминать не надо? Так вот, тут можешь получить оплату, в качестве аванса. В тугриках, ха-ха. Сейчас, как все разойдутся по притонам, тебе надо будет пройти вон той тропкой на центральную площадь Афин. Не беспокойся, тебя не увидят и с тобой не заговорят. Кроме того, кому надо заговорить. Валяй, приятель!
***
Бог лени, одурев от жары, задержался на площади. У него порвался ремень на правой сандалии. На площади были одни только камни и не было ни одной тени. «Какое унылое место! – подумал бог лени. – И кто тут только живет? Зачем я отпустил колесницу? Плетись теперь пешком».
Впрочем, площадь была не абсолютно пустынна. Были еще четверо возле белой каменной стены: горящие в светоносных лучах осел, две собаки и лысый бродяга. Казалось, бродяга только что вышел из бани – красный, босой и в простыни. В бороде его могла спрятаться мышь, а лоб блестел, как медный щит.
На раскаленных камнях площади можно было жарить мясо, но у бродяги подошвы были, видно, тоже из камня. Он неторопливо пересекал площадь. И по всему его облику было видно, что ему нравится и жара, и площадь, и раскаленные каменные плиты, и осел с собаками, и, главное, он сам себе. Бог лени питал слабость к таким бродягам. Он их вполне справедливо считал своими детьми. Бродяга бормотал что-то себе под нос. А может быть, напевал.
***
Подойдя ближе, бродяга молча уставился на меня. На широко поставленных узких глазах его почти не было ресниц и оттого взгляд был какой-то странный, будто он одновременно глядел на меня и мимо меня. На руке у него была татуировка – не татуировка, написано одно слово: женское имя Ксантиппа. Неужели это Сократ?
– Чужеземец, – сказал он. – Как ты думаешь, бог лени есть? – и, не ожидая от меня ответа, продолжил: – Это должен быть верховный бог. Почему-то о нем все умалчивают. Лень, наверное, даже говорить о нем. Во всяком случае, люди больше остальных богов поклоняются именно ему. Даже больше, чем Дионисию. Почему бы это?
Глаза бродяги пытливо разглядывали меня. В его лице я вдруг обнаружил ту неуловимую усмешку над всем сущим, которую заметил у музейного Сторожа.
– Бога лени нет, – сказал я, сбросив с себя груз обета молчания.– Есть богиня. Прекрасная. Прекрасней Афродиты. Жаль, спросили не у меня, а у Париса.
– Пойдем выпьем. Сократ, – представился бродяга. – Выпьем за него или за нее – все равно! Сегодня мне с утра все кажется, что он (или она) находится где-то рядом.
– Ахилл, – представился я и подумал, а почему бы и нет? – Это твой осел? Я такого же видел где-то в горах. Да-да, в поселке геологов. Подрос. Сколько лет-то прошло…
Сократ похлопал широкой ладонью по моим рыцарским доспехам.
– Ты смотри, холодный и пыль не оседает. Не жарко? Орихалк? Орихалк – что же еще, я его таким и представлял себе. Зачем лысому ослу еще один осел? Ахилл, говоришь? Воскрес, значит. Я был уверен, что ты не в Аиде и не во втором круге Ада, а на Блаженных Островах, со своими, как их там всех… – он стал бранчливо перечислять женские имена: – Еленой, Ифигенией-Орсилохией, Медеей, Поликсеной, Пиррой…
– Я там один.
– Я так и думал! – воскликнул он. – Значит, женщин там нет? Видно, неправильно мнение всех тех, кто думает, будто смерть это зло.
– Кстати, Пирра – это я сам, «Рыжий». А почернел я от пороха и угара прожитых лет.
***
Бог лени, повозившись с ремнем, оторвал его, снял с ног обе сандалии и, чертыхаясь, пошел к сапожнику Гефесту. «Как они терпят?» – подумал он о многотерпеливых людях, шагая по раскаленным камням городской площади попеременно то на пятках, то на цыпочках. Смешно наблюдать за подпрыгивающим, как на сковородке, богом. Правда, его никто не видел. Площадь была пустынна, если не считать осла, сбежавшего из поселка геологов, да двух бездомных собак, которым лучше жара, чем холод.
***
– Метробий! Подай нам с Ахиллом хлеба и вина. Да не того, вчерашнего. Подавай завтрашнее.
Метробий тупо смотрел на Сократа, не понимая, какого именно вина хочет этот выживший из ума пьяница.
– Что смотришь на меня? Подай того вина, которое я спрошу у тебя и завтра, если захочет бог.
– А почем мне знать, какое вино ты спросишь у меня завтра, Сократ?
– Почем – кому как не тебе и знать. Тебе никогда не разбогатеть, Метробий. Ты должен безошибочно угадывать желания своих посетителей, как собака угадывает того, кто ее угостит костью, а кто пинком.
«С тобой разбогатеешь!» – подумал Метробий, угодливо улыбаясь. О, сколько злобы в угодливых улыбках! В них-то и видны все мысли.
– Извини, Сократ, если что не так. Мы, конечно, твоими талантами в спорах не обладаем, но какую-никакую, хвала Гермесу, забегаловку содержим. С полсотни сосудов разного вина в подвалах стоит и ждет своего часа. Оно, конечно, амброзийного благоухания, может, и не имеет, но не для богов же предназначено, в конце концов…
– Браво, Метробий! Ты потихоньку исправляешься.
– И много всякой утвари имеем. Шесть рабов. Панфея хочет купить себе рабыню. Товарами различными приторговываем…
– Конечно, Метробий, конечно! Я, правда, как-то умудряюсь жить без этих вещей. Лишь бы хлеб да вино были, да травка под деревом, а остальное может и подождать. Не приучен к роскоши с детства, а сейчас поздно начинать. У каждого своя мера. В твою меру сотня моих войдет и еще место останется. Я все больше по камню, да словом. Утро принесло мне самый тяжелый труд – каменотеса, вечером же я решил заняться самым легким трудом – болтуна. Уж ты не гневайся на меня. Дай хлеба и доброго вина, этого будет достаточно. А травку потом я и сам найду, не хлопочи. Если возьмешь с меня плату словами, садись с нами, поговорим. Расплачусь сполна.
У Метробия отвисла челюсть. Сократ вечно приводил его в состояние какой-то собачьей запуганности: он с трудом вспоминал нужное слово, точно Сократ изъял все слова из обращения. А ведь Сократ ничего такого непонятного не говорил, но рядом с ним постоянно чувствуешь себя дураком. Хотя дурак-то – сам Сократ. Так по-дурацки промотать всю свою жизнь! Ни одного раба, в доме шаром покати, жена фурия, сам – голь перекатная, а смеется над всеми, как Вседержитель! Что за человек такой? Оттого Метробий обычно и молчал, тупо глядя на мудреца с городской площади. Сократ же в таком одностороннем диалоге лишался удовольствия докопаться до истины, вздыхал и ел свой хлеб, запивая его вином. При этом он бормотал, усмехался, мотал головой, хмурил брови, видимо все-таки ведя диалог с невидимым собеседником. Метробий шел к супруге и шипел ей на ухо, что опять зашел «наш голозадый мудрец» и опять у него только воздух в щеках да брюхе – и ни одной драхмы.
И сейчас он пошел жаловаться Панфее:
– Мало, сам пришел, приволок еще дружка в старинных доспехах, и оба хлещут неразбавленное вино так, что скоро прикончат бочку, что стоит в самом углу.
Метробий явно преувеличивал, так как Сократ был весьма умерен в питье и еде, а я один при всем желании не смог бы выпить и десятой доли бочки. У жадности глаза больше, чем у страха.
– Я позову Ксантиппу, она быстренько приведет в чувство своего муженька.
– Ты ей напомни, что он не расплатился со мной за три раза.
***
Я пригляделся к руке Сократа. Ниже «Ксантиппы» было зачеркнуто короткое имя. И в полном соответствии с ГОСТ-2503 правее в кружочке был проставлен номер изменения: 1.
– Как звали-то первую?
– Звали как-то. И сейчас зовут. Всех их как-то зовут.
– Сам стер?
– Зачем сам? Оно само стирается, само записывается. Ну-ка, покажи мне свою ладонь, – попросил Сократ.
– Мне гадать бесполезно, мои линии давно уже сплелись где-то в мертвый узел, Сократ.
– Я не гадаю. Приложи ладонь к своему лбу. Да, в тебе все гармонично. Ладонь настоящего мужчины, я разумею, воина и мудреца в одном лице, должна накрывать лоб. Это гарантия того, что сильный ум будет надежно защищен сильной рукой. Смотри, как у меня, – он широкой ладонью накрыл свой выпуклый и черный от загара лоб.
– Вот тут не прикрыто, – не удержался я.
– Где? – вскинулся Сократ.
– Самая малость. Практически нигде.
– Время – самый безболезненный эпилятор. Смотри, какая кожа гладкая… Ахилл, я знаю, ты не из любителей поговорить за жизнь, не любишь ты говорить и о смерти. Это я словоблуд и в своих блужданиях никак не могу вырваться из собственных заблуждений. Как ты думаешь, меня ждет ужасный конец? Что молчишь? Ты сейчас откуда? Из Сирии? Мне предсказали, что тот, кто явится из Сирии, скажет мне правду.
– А правда ли то, что тебе предсказали?
– Если правда, то и ты мне скажешь правду, если нет, то и ты мне солжешь, и я все равно узнаю правду. Говори. Истина скрывается в словах, истина скрывается и в молчании. Имеющий уши да слышит, имеющий язык да говорит. Истина, как всегда, где-то между ними, как тот буриданов осел с площади.
– Истина как раз в том, что тебя убьют не мои слова, которые ты жаждешь услышать, а убьет молчание толпы, мнением которой ты так мало дорожишь.
– Не я первый, не я последний, – вздохнул Сократ. – И это истина. Благодарю тебя.
– Сократ! – послышался снаружи женский голос. – Ты опять здесь?
– Ксантиппа, – вздохнул Сократ и тремя большими глотками допил свое вино. – Принесли черти. Не иначе, Метробий послал за ней свою мегеру. Сейчас начнется. У нее бабушка была амазонкой, а дедушка змеем.
Ворвалось пленительное создание, под стать Сократу, только жилистое и вихреподобное. Турбулентное, словом. Оно сразу же вцепилось мудрецу в бороду и стало пенять ему на свою нелегкую женскую долю. Сократ жмурился, как кот, и терпеливо ждал окончания женского порыва. Из смежного помещения, заваленного мешками и заставленного корзинами, осторожно выглядывал Метробий с супругой. Из воплей Ксантиппы я с трудом уловил, что Сократ что-то не сделал по дому или сделал не так, как она велела, и от этого теперь может произойти внеочередной конец света.
– Платон заходил? – задал наконец вопрос мудрец, когда супруга его выбилась из сил, и вопрос этот вымел разъяренную Ксантиппу из метробиевой берлоги, как сильный пинок хозяина раскудахтавшуюся курицу.
– Она терпеть не может Платона. Считает, что он мне дороже ее. Ее почему-то бесят его чувственные губы. Как мне убедить эту несчастную, что ближе ее мне в этой жизни никого нет. Мои слова – мое несчастье. Мне никто не верит. Даже собственная жена. Все почему-то считают, что я насмехаюсь над ними. Когда я говорю с ними серьезно, они считают, что я смеюсь над ними, когда же я в самом деле подшучиваю над кем-либо, он воспринимает это очень серьезно и обижается.
– У вас просто разные языки, Сократ, и им всем что-нибудь надо от тебя.
– А мне ничего не надо ни от кого. Единственное, что я хочу, это понять, чего они все хотят друг от друга. Но боюсь, уже не пойму. Слишком их много и слишком многого они все хотят, а я один. Может, Платон разберется. Я познакомлю тебя с ним. Занятный юноша. Метробий! Слышишь меня?
– Чего тебе, Сократ? – подошел трактирщик и нахмурился. Ему было неуютно под насмешливым взглядом старого бродяги.
– Ксантиппа случайно проходила мимо или по делам зашла?
– Почем мне знать, Сократ, где и как носит твою жену.
– Да, Метробий, тебе это воистину не знать. Подай-ка нам еще этого вина. В кредит. У меня здесь открыт кредит. Беспроцентный. Я его решил назвать «пенсией», – пояснил он мне, расчесывая широкой пятерней растрепанную бороду. – Правда, доброе слово – «пенсия»? Так ведь, Метробий?
– Так, так, – кисло ответил пузатый скряга. «Чтоб тебя разорвало от твоей «пенсии»!» – подумал он.