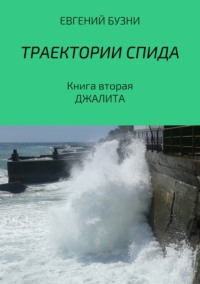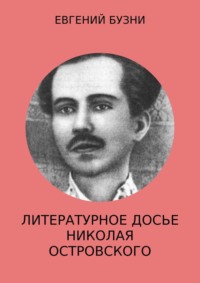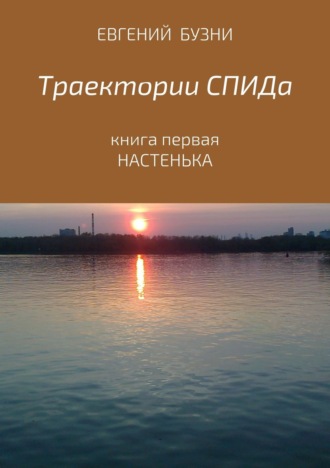 полная версия
полная версияТраектории СПИДа. Книга первая. Настенька
Это была, пожалуй, первая из шедшей затем нескончаемой серии, так называемых, благих идей в кавычках, таивших в себе в каждой мощные пружины разрушения. Спрятанные и до времени зажатые толстым слоем словесной шелухи пружины затем неожиданно распрямлялись, разрывая связки слов и впиваясь острыми концами в живое тело, заставляя его корчиться от болей, кровоточа, судорожно сжимаясь, чтобы зажать раны.
Что означал для страны этот указ? Что значили сотни раз повторенные вопросы Горбачёва, которые он бросал в толпу разрывными гранатами, не давая времени вдуматься в смысл спрашиваемого:
– Вот вы, женщины, разве хотите, чтобы ваши мужья были пьяницами?
– Ведь лучше, если муж придёт домой трезвым и с хорошей зарплатой да ещё подарок принесёт?
Ха-ха, кто же ответит "нет" на такие вопросы? Так зачем спрашивать, если заранее знаешь ответ? Вопрос состоял в другом, о чём и надо было говорить.
Веками люди боролись со злом, именуемым пьянством, и не победили пока. Тысячи способов перепробовали – и сухими законами, и палками, и позорными столбами да уговорами, и лекарствами да наговорами. Только напрасно всё было. Причины болезни этой не в вине и водке, а в самом человеке гнездятся.
Устремлённый, жаждущий, веривший в будущее никогда не спивался потому, как некогда ему было. А стоило споткнуться, потерять надежду на себя, друзей, страну, мир целый и вот уж готов утолить горе горькое водкой горькой да забыться в угаре, когда мучаешься животом, но не думами.
Кто в революционные годы спивался? Единицы разуверившихся, затерявшихся. Остальным было не до того. Кто-то сказал бы "и не с чего", но это не так. Алкоголику и капли самогона хватит, а уж самогонное зелье всегда находили из чего выпустить. Кстати, его-то и запретили делать после революции. Били самогонные аппараты вдребезги, били самогонщиков штрафами, крушили стремление к лёгкой наживе, основанной на слабости человека к питию ради забвения.
Обновлённая страна, начиная новую жизнь, предлагала народу жить трезво, но с праздниками, подогреваемыми по случаю хорошими напитками. Вино ведь ой как полезно при правильном потреблении. Да не случайно же древний философ говорил: “Всё вредно, всё полезно – важна мера". Пей в хорошее время нужное количество должным образом и сие питие всегда только радость доставит.
Русские виноделы в советской стране не были ретроградами, не предлагали запретами бороться с пьянством, а искали способы создания хороших вин, которые бы своими замечательными достоинствами отвлекали бы людей от низкопробных самогонов и сивух. Долго, например, они думали, почему в России нет своего хереса. Прекрасное вино, а сделать самим никак не удавалось. Какой виноград ни возьмёшь, с чем его сок ни смешаешь, а не получается вкус солнечного пламени, что так замечателен в вине Испании.
Гигант писательской мысли Илья Эренбург говаривал, что херес, как женщина, которая в глаза не бросается. Обычно девушка вольного поведения всегда сразу нравится своей внешностью. А настоящую женщину узнаёшь постепенно, и чем больше её знаешь, тем больше она нравится. Так и херес. Сначала его пьёшь – вроде бы он и не так вкусен. Зато потом, чем больше пробуешь, тем больше наслаждаешься.
И вот знаменитый русский учёный винодел Герасимов решил пойти на преступление ради того, чтобы получить у себя на Родине своё собственное вино херес. Знал он тогда, что для рождения этого непростого напитка нужны особые бактерии, живущие постоянно в грибной плёнке, под которой в течение нескольких лет выдерживается вино.
Уникальный для вина процесс. Не будет плёнки – не получится херес. Так вот этой самой плёнки со специфическими бактериями у нас в стране не было.
Поехал Герасимов в Испанию, положив в карман пиджака небольшую пробирку, простирилизованную предварительно женой, работавшей в его лаборатории.
Большой грех, но, оказавшись гостем на винзаводе, улучив удобный момент, когда испанского винодела отозвали к телефону, попросил учёный испанского рабочего зачерпнуть в пробирку немного таинственной плёнки. Привёз Герасимов плёнку с собой, прижилась она на наших прекрасных виноматериалах, и с той поры завёлся у нас свой собственный херес, дающий силу мудрому, храбрость слабому, нежность жесткому при небольшом, конечно, потреблении.
Веками люди наслаждались замечательным творением рук человеческих – вином, называя лучшие его марки божественным напитком и призывая в песнях, поэмах, легендах умело пользоваться ниспосланным ему судьбой благом.
Невозможно сказать, кто и когда изобрёл вино. Но из народных баек узнаём, что бог виноделия Бахус, будучи ещё молодым юношей, шёл как-то по дороге и увидел близ неё удивительно красивое растеньице. Вырвал он его с корнем из земли и положил в карман, чтобы принести домой. Но время было жаркое, и испугался Бахус, что растение погибнет по пути, высыхая. Увидел на дороге кость певчей птицы соловья, поднял её и вложил в неё корни найденного растения, которое вдруг стало так быстро расти, что корни оплели вскоре всю маленькую птичью косточку. Тут заметил Бахус у дороги кость льва, поднял её и поместил в неё корни растения. Но ещё быстрее стала расти чудная лоза, не умещаясь и в новом пристанище корнями. И попалась на глаза Бахусу кость осла. Он и её использовал, чтобы спрятать от жары корни.
Подойдя к дому, увидел юноша, что все кости накрепко оплетены корнями, потому так и посадил с ними свою находку в землю, обильно полив водой. Через некоторое время вырос на этом месте прекрасный виноградный куст и усыпали его крупные грозди солнечных сладких ягод.
Собрал Бахус урожай, выдавил из него сок и получился восхитительно вкусный напиток. Начал Бахус угощать им людей и вот что вдруг обнаружилось.
Выпив первую рюмку напитка, человек становился весёлым и начинал петь соловьём. Выпив вторую, ощущал необыкновенный прилив сил и присущее льву бесстрашие. А после третьей рюмки голова его опускалась на грудь, и человек уподоблялся теперь ослу, делаясь совершенно глупым.
Вот почему народная мудрость рекомендует пить вино, речь-то шла о нём, одну рюмку, чтоб веселиться на празднике, две рюмки, если предстоит тяжёлая работа, требующая сил и мужества, и никогда не пить третью рюмку, которая сделает глупым ослом с поникшей головой.
Указ, предполагавший будто бы борьбу с пьянством и алкоголизмом, не шёл стезёй народной мудрости. Мысль, заложенная на поверхности, казалась доброй и полезной, но фактические последствия имели дьявольски противоположное воздействие, которое и следовало ожидать, исходя из многовекового опыта борьбы с пьянством. Только теперь всё оказалось ещё хуже и не случайно.
На основе принятых правительством решений винодельческие заводы стали срочно перепрофилироваться на производство виноградных соков и других продуктов переработки винограда, не связанных с вином.
Разумеется, не смотря на множество подписываемых бумаг, выра-стающих в горы при подготовке любого указа, тем не менее, выписывать бюрократические закорючки всегда легче, нежели перестраивать отрасль промышленности, которая всегда взаимосвязана с другими отраслями.
Резкое увеличение производства хороших натуральных виноградных соков требовало большого количества высококачественного сладкого винограда. Но существовавшая система производства винограда была настроена так, что девяносто процентов солнечных ягод, получавшихся с виноградников всей страны, шло на изготовление вина, преимущественно ширпотребного, дешёвого, но крепкого, способного ударять в голову быстро и надёжно, лишённого эстетики, которое часто пили не песни ради, а чтобы поскорее опустить голову по ослиному, да драться по звериному.
От продажи этого вина государство получало немалую прибыль, малая толика которой выделялась на лечение болезни – алкоголизм. Вот и думали некоторые, что Указ направлен на борьбу с этим злом. Незаметной строчкой прошли слова Указа о необходимости увеличения производства высококачественных марочных вин, которые знатоки пьют, уважительно привставая на ноги, подолгу любуясь игрой красок в бокале, втягивая в себя носом и оценивая ароматы, напоминающие то дыхание свежего ветра, то ароматы альпийских трав, и только потом осторожно пробуя, медленно перекатывая по языку, чтобы восторженно заметить, проглотив, привкус экзотического миндаля или ликёрные тона ананаса.
Эту строку указа виноградари почти не восприняли и не потому, что не заметили или оказались недалёкими, а потому, что им как раз было хорошо известно, что для производства отличных вин необходим супер отличного качества виноград, который был, но в очень небольших количествах. Беда в том, что всё хорошее всегда в дефиците, а плохое в избытке. Чем качественнее был сорт винограда, тем менее он был урожайным. Природа словно предлагала выбор: либо качество, либо количество.
Нельзя сказать, что люди у нас кругом были глупые. Специалисты своего дела эту дилемму знали. Учёные селекционеры не только виноградари, но и зерновики, овощеводы, садоводы, животноводы сбивались с ног, просиживали не одни брюки и платья в научных кабинетах в поисках и создании новых сортов и пород, которые и плодовитостью и высочайшим качеством отличались бы одновременно.
Но если у животноводов результаты экспериментов можно было видеть почти ежегодно, то у виноградарей на выполнение одного удачного сорта уходили годы, а его успешное размножение до промышленных размеров требовало ещё немало лет.
Стране между тем нужны были деньги и потому от виноградарей, как и от работников других отраслей требовали в первую очередь количество. И потому засадили, например, в Азербайджане обширные площади земли виноградом сорта Тер-Баш, который давал такие высокие урожаи, что республика заняла первое место по сдаче ягод государству.
А тут надо знать ещё одну хитрость. Если виноградный куст перед самым сбором урожая побольше полить водой, то грозди быстро наберут вес от наполнения ягод водой. При этом сахара в ягоде в процентном отношении станет существенно меньше и виноград из сладкого превратится в кислый, но кто об этом говорит, когда нужен вал для перевыполнения плана?
И посыпались награды всем, от маленького виноградаря до большого секретаря Центрального Комитета компартии Азербайджана Гейдара Алиева практически за воду в винограде, который кроме как на плохое вино никуда не годился. Ну и что же с ним было делать после Указа, когда винзаводы перестали принимать такую продукцию? Пришлось-таки срочно вырубать виноградники и засаживать освобождающиеся площади чем-нибудь таким, на что ещё не вышло уничтожающих документов и что бы дало колхознику хоть какой-то доход.
Но что значат слова "срочно", "спешно", "немедленно" в системе хозяйствования огромного государства? Это как, пытаясь снять с ноги зацепившуюся колючку, неаккуратная женщина случайно рвёт нитку на капроновом чулке, обтягивающим прекрасную ножку – сразу появляется, быстро увеличиваясь, уродливая дыра. А нужно идти на свидание или танцы. Ну, что бы ей не торопиться, снять осторожно чулок с ноги и отцепить колючку? Потеряется немного времени, но сохранится красота и хорошее настроение.
А что произошло у нас? Как у неаккуратной женщины. Заводы перестали делать плохое вино, когда оно всюду было свёрстано в планах. Торговля не получила свои заказы на пусть плохое, но продававшееся вино, а значит не получила и деньги, которые собиралась от продажи выручить, а это совсем не так мало в масштабах государства.
Прореха в бюджете оказалась солидной не только по этой причине.
Технология производства виноградных соков отличается от произ-водства вина, поэтому на изменение заводских процессов пошли не за-планированные ранее расходы. Даже замена винных бутылок специальными для соков требовало дополнительных затрат. А замена низкокачественных сортов винограда элитными не только требует многие годы, но в некоторых местах вообще невозможна по климатическим условиям, потому-то некоторые руководители виноградарских хозяйств отказались совсем от винограда и порой вырубали вместе с плохими сортами заодно и хорошие, говоря в сердцах на собрании или в руководящих кабинетах:
– Да ну его к чёрту совсем, этот виноград, от которого одна морока теперь и никакой прибыли!
Все эти издержки и потери больно ударили по экономике страны. Люди задавались вопросами, морща лбы:
– Может, жертвы не напрасны? Не поможет ли это оздоровить общество, сделать более культурным?
Нет, не помогло. Но система слегка затрещала. Партийный указ оказался с червоточинкой. И это увидели.
Настенька со всеми вместе наблюдала удивлённо как с появлением Указа люди стали больше пить, больше стоять в очередях за дешёвыми винами и брать их уже не по одной-две бутылки, как раньше, а ящиками, видимо боясь всякий раз, что вот уже после этой продажи такое вино больше не появится. А запасаясь впрок, они уже и пили чаще, не будучи в силах совладать с собой, если дома вина полно.
Появились лимитные талоны, ограничивающие возможности индивидуальных потребителей. Теперь даже те, кто обычно вином или водкой не интересовались, шли получать полагающиеся на месяц талоны и уж обязательно отоваривать их согласно норм.
В то же время торговля, как и полагается ей, была заинтересована в большей продаже спиртного, а с другой стороны были всегда и покупатели, которые хотели больше купить этого зелья. А в таком случае, раз желания обеих сторон совпадают, то никакими препонами и нормами не отгородить их друг от друга.
Времена изменились таким образом, что если прежде о водке вспоминали, когда шли или приглашали в гости, то теперь мысль о том, где достать водку и дешёвое вино охватывало почти каждого ежедневно. О выпивке всё время говорили, спиртное постоянно искали, момент пития ждали. На рабочих местах работали, но стоило кому-то сказать в полголоса или шёпотом: "Сегодня завезут в гастроном спиртное. Будут давать в обмен на пустую посуду и без талонов", как все уже думали не о рацпредложениях и выполнении плана, не о прибыли предприятию и повышении качества обслуживания, а о том, как сообщить домой пенсионерам родителям или детям, пришедшим из школы, что нужно срочно хватать пустые бутылки и мчаться в гастроном, занимать очередь за водкой.
Тем, кто не имел домашних помощников, приходилось в срочном порядке находить себе дело в другом конце города и под предлогом его неотложности мчаться не туда, куда сказал начальнику, а домой за бутылками.
Найдутся, конечно, такие, что скажут ехидно: – Да кто там думал о рацпредложениях, планах и прочем таком? Всё это реклама. На самом деле каждый только о себе всегда печётся.
«И это будет враньё, – думала Настенька. – Вот её сосед по дому Петька Ушастик даже не пытался поступать в институт, а пошёл работать на автозавод в токарный цех. Потом взяли в армию, откуда он снова вернулся на свой завод. Пару лет проработал и уже его называют там мастером-золотые руки. И где бы они ни встречались возле дома или в городе, он всегда рассказывает Настеньке о своих рационализаторских предложениях, которые небрежно называет рацухами.
– Представляешь, – говорит восторженно, – то одно придёт в голову, то другое. Само лезет. Работаешь себе у станка работаешь, вдруг бац, словно откуда-то с неба мысль свалилась – можно небольшую насадочку сделать и скорость обработки детали вдвое возрастёт, а там резец добавишь, и вообще классно будет. И не в том дело, что за рацухи бабки, то бишь деньги, приплачивают, а то, что и самому легче работать и другие начинают мною придуманное у себя использовать. Понимаешь, приятно видеть, что твоя мысль помогла сделать сегодня лучше того, что было вчера».
Необходимость искать продукты питания, которые не всегда и не в достаточных количествах появлялись в магазинах, стояние в очередях за дефицитными промышленными товарами не способствовали творческой мысли. Теперь к этим помехам добавилась проблема выпивки, которая фактически обострилась, а не ослабла, как обещали слова. Так и вышел Указ наперекосяк всему и всем, оказавшись одним из первых и увы не последним ударом по системе.
Важно, очень и очень было важно, узнать являлось ли это событие случайным, непродуманным как следует решением, или закономерным звеном хорошо спланированной цепи разрушительных ударов. В тот момент это не только трудно было понять, но и вопрос такой никто не догадывался открыто задать. Кто же знал, что удары последуют чередой.
Когда в живой организм попадает вирус и начинается болезнь, симптомы могут проявляться совершенно разные. Не по всякому определишь суть недомогания, его причину и способ лечения.
Указ явился одним из первых симптомов начинающейся болезни страны, однако вникнуть, продиагностировать, предотвратить развитие специалистов не нашлось.
Впрочем, первым ударом и первым симптомом он был лишь для этого периода появления у власти Горбачёва. До его прихода были встряски и помощнее. И если об этом первом горбачёвском ударе Настенька ещё не могла рассуждать как о таковом, поскольку не могла понять происходящего в данный момент ("Лицом к лицу лица не увидать" – писал её любимый поэт Есенин), то о предыдущих она имела представление, правда, больше по рассказам взрослых.
Ей не довелось жить при нашумевшем двадцатом съезде коммунистов Советского Союза, но она слышала от своего папы (только так она называла своего отца), что именно этот съезд оказался сильнейшим ударом по социалистической системе, ибо хорошее на первый взгляд желание донести до народа пусть горькую, но правду о культе личности Сталина и будто бы связанных с этим массовых репрессиях в стране, это благовидное внешне стремление, во-первых, на самом деле преследовало единственную цель создания Хрущёву, бывшего до этого незаметным, но верным исполнителем воли Главкома, ореола борца за справедливость, за народ и мир во всём мире. На практике тот же Хрущёв, выступив против культа личности своего великого предшественника, тут же создал новый культ, но уже собственной личности.
Это его портретами, круглощёкого лысого толстячка-добрячка, заменили портреты Сталина, скульптуры его личности заполонили сувенирные прилавки магазинов и лотков, его сияющая улыбка появлялась с экранов кинотеатров и телевизоров, источая лучи света, как от солнца, дарящего людям радость, его многословные речи, написанные учёными референтами, вытеснили миллионными тиражами многотомные работы, написанные Сталиным собственноручно в течение многих лет.
Выступив против репрессий сталинского времени, Хрущёв не прекратил многочисленные аресты, осуществлявшиеся по политическим соображениям в предыдущие годы. И во времена Хрущёва сажали, истязали в тюрьмах и даже убивали невиновных. Но была ли в этом его личная вина, если как и прежде, беззакония совершали карьеристые чиновники, старавшиеся вылезти из собственной кожи, но найти преступника, а не находя настоящего, представляли подходящего невиновного, кому можно было приписать вину?
Был ли Хрущёв лично виновен в том, например, что двадцать седьмого февраля печально знаменитого тридцать седьмого года на заседании комиссии Пленума ЦК ВКП(б) по делу Бухарина и Рыкова, проходившего под председательством Микояна, он, Хрущёв, будучи членом этой комиссии, голосовал за исключение Бухарина и Рыкова из состава кандидатов в Центральный комитет партии и из членов партии с преданием суду, хоть и с оговоркой "без применения расстрела", но суду, признавая тем самым их виновность в выступлении против народа? Виновен ли был сам Хрущёв в привлечении к суду и последующих расстрелах десятков других политических деятелей, происходивших при его участии, с его подписью? Винить ли его, если он был в то время искренне убеждён в полной правоте своих и соратников деяний? Но виноват ли тогда в подобном же Сталин? Словом, Хрущёв с трибуны съезда выступил против тех действий, от которых сам не отказывался. К чему же это привело?
Прежде всего, разоблачения, среди которых оказывалось много случайных или заведомо ошибочных, ударили по вере масс народа в своего вождя, в строй, которым он руководил, в возможность существования справедливости, честности, правды. От неожиданности удара покачнулась и вера в партию коммунистов и коммунистические идеалы. Заколебалась эта вера, но устояла, поскольку сила первого удара была направлена пока на одного человека, хоть и великого, но одного – Сталина.
От этого удара многие люди и прежде всего молодые усомнились в честности и порядочности, справедливости и гуманности того, кому хо-тели подражать, у кого учились жить, с кем мысленно советовались, за-ставляя себя преодолевать свои собственные слабости и недостатки. Они усомнились в одном человеке, но оставались ещё Ленин, Дзержинский, Киров и сотни их товарищей по совместной борьбе. Их продолжали воспевать, им посвящались книги, песни, кинофильмы. Им ещё можно было верить, на них походить.
Однако, поколебав одну веру в прошлое, Хрущёв не сумел завоевать и сотой доли подобной веры народа в себя, а вскоре своими потрясаниями башмаком с трибуны и размахиваниями кулаками перед своим и зарубежными народами в купе с несбыточными обещаниями скорого рая коммунизма на кукурузной основе он опрокинул и ту толику доверия, что была ему дадена людьми лишь по привычке доверять руководству.
Отторгнутый от кормила власти своей же собственной правой рукой в руководстве Брежневым, он был тут же им оплёван и ощутил теперь на себе горечь горькую этих плевков, чего не мог воспринять, ушедший в небытие великим, Сталин, чего и представить себе невозможно было при его жизни.
Настенька переживала неясное отношение к вождю, которого никогда не видела, и который покинул жизнь гораздо раньше, чем она в неё пришла. Она горячо спорила с друзьями, особенно с современной комсомолкой Викой, пытаясь убедить их да и себя саму в том, что каким бы Сталин ни был на самом деле, как бы он ни отличался от созданного народом образа, но раз в него верили, раз с его именем шли на смерть во время войны и раз при нём страна сумела не только победить в войнах, но и стать могучим государством, пусть даже с железным занавесом, а может именно поэтому, то никто не имел права разрушать веру миллионов в него, тем более после смерти. Надо уметь встречать противника открыто, в упор, в лицо и побеждать в споре, когда он может признать свои ошибки или отвергнуть их. А кричать о недостатках, ругать за них и плевать во след умершему – это Настенька считала подлостью трусов.
Она защищала Сталина, хотя понимала, что, в сущности, не знает его, но вступалась не за человека, как такового, а за символ. Сталин, по её мнению, был для народа символом всего справедливого, символом будущего счастья человечества, ради которого стоило сегодня жертвовать силами, здоровьем и даже жизнью. Не будь этой веры, этого символа, кто бы перенапрягался без палки за спиной, кто бы шёл на амбразуру без пистолета сзади?
Дело, конечно, не в самой личности, а в том, кого она представляла, кого олицетворяла. В Сталине видели защитника бедноты.
«Что же удивляться тому, – думала Настенька, – что через столько лет после смерти вождя, не смотря на миллионы плохих слов, сказанных в его адрес с того времени, на передних стёклах грузовых автомашин, автобусов и троллейбусов можно сегодня увидеть портрет человека с широкими усами и очень проницательными умными глазами? Портреты Хрущёва и Брежнева никто не клеит на стёкла почему-то».
Собственно по этим портретам на стёклах государственного транс-порта, которым управляют рабочие, а не частного, которым владеет в основном интеллигенция, Настенька и знала лицо Сталина. И почему-то верила ему, а не Хрущёву, обвинившему своего предшественника во всех грехах, не Брежневу, сделавшему то же самое с Хрущёвым, не Горбачёву, при котором начали в печати обливать грязью всех, кто был до него, не Горбачёву, который утверждает, что только он знает, куда держать путь.
Сталин оказался единственным из руководителей страны Советов, кто не говорил плохо о своём ушедшем из жизни соратнике, а построил ему Мавзолей, чтобы помнили. Он продолжал его дело, не хуля за ошибки, если и видел их, а исправляя, как считал нужным. Такой подход Настеньке казался правильным. Не зря же говорят в народе, что нельзя говорить плохо об умершем. И пословица есть "Не плюй в колодец – пригодиться воды напиться". Из какого колодца теперь черпать воду Веры? Неоткуда.
Наверное таким же был бы и Андропов, если бы не его скоропос-тижный уход из жизни, а стало быть и их политики. Он тоже начинал (уж это Настенька помнила сама) без шума и крика, ни в кого не плюя, молча засучив рукава Генсека, спокойно давая свои указания, которые быстро и чётко выполнялись. Но, увы, успел очень не много на этом посту. Сделать большее кто-то не дал, не позволил.
Принимались, разумеется, и другие решения по сельским проблемам. Скажем, седьмого июня вышло Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "О дальнейшем развитии и повышении эффективности сельского хозяйства и других отраслей агропромышленного комплекса нечернозёмной зоны РСФСР в 1986-1990 годах", в котором оптимистично отмечалось, что за предыдущие десять лет основные производственные фонды колхозов и совхозов возросли в два раза, электрические мощности – в один и семь десятых раза, построено автомобильных дорог с твёрдым покрытием протяжённостью более шестидесяти тысяч километров, сдано в эксплуатацию более двух с половиной миллионов гектаров осушенных и орошаемых земель. Только в предыдущем тысяча девятьсот восемьдесят четвёртом году для колхозов и совхозов промышленностью было выпущено тракторов с общей мощностью пятьдесят и семь десятых миллионов лошадиных сил, двести семь миллионов тракторных плугов, двести пятнадцать миллионов сеялок, почти сто миллионов косилок, сто восемнадцать миллионов зерноуборочных комбайнов, чуть более сорока миллионов хлопкоуборочных машин, около ста миллионов жаток.